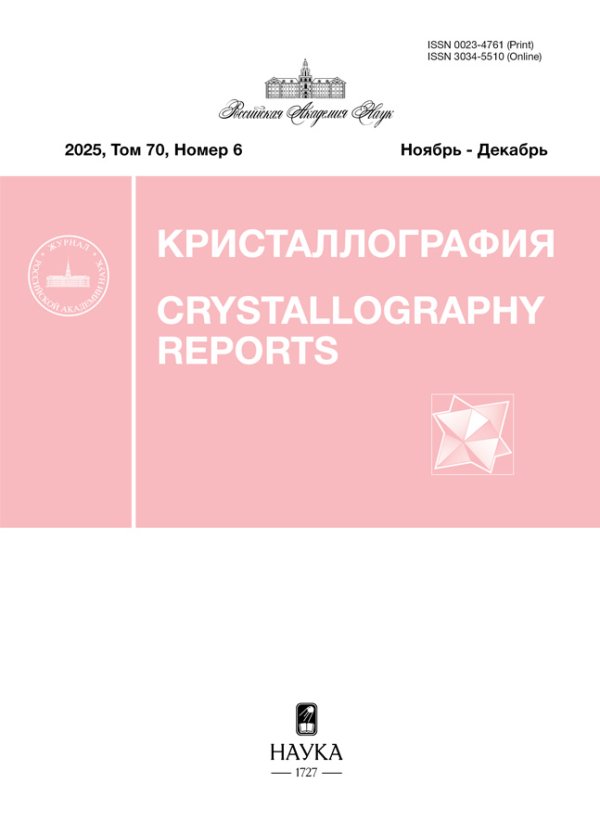Автоионные источники для исследования и модификации структуры аморфных и кристаллических материалов
- Authors: Петров Ю.В.1, Вывенко О.Ф.1
-
Affiliations:
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Issue: Vol 69, No 1 (2024)
- Pages: 5-20
- Section: REVIEWS
- URL: https://bakhtiniada.ru/0023-4761/article/view/255417
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023476124010029
- EDN: https://elibrary.ru/tgmyya
- ID: 255417
Cite item
Full Text
Abstract
Описаны системы со сфокусированным ионным пучком, использующие газовые автоионные источники. В историческом контексте рассмотрены принципы работы таких источников и способы их формирования, эффективная область ионизации в которых определяется размерами одного атома. Описываемые системы имеют широкий спектр приложений как в области сканирующей ионной микроскопии в сочетании с различными аналитическими методами, так и в области модификации с высоким разрешением электрических, оптических, магнитных и других свойств материалов. Такая модификация основана на ионно-индуцированном изменении структуры материала и наиболее ярко выражена в кристаллических полупроводниках, сверхпроводниках и магнетиках.
Full Text
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
- История появления и развития автоионных источников
- Принцип работы газовых автоионных источников
- Ионно-оптическая колонна
- Применение газовых автоионных источников в ионной микроскопии
- Применение сфокусированных ионных пучков для управления свойствами материалов
Заключение
ВВЕДЕНИЕ
Системы со сфокусированным ионным пучком широко применяются для субмикронной обработки поверхности различных материалов, а также в различных методах анализа с высоким пространственным разрешением и сегодня являются одним из самых популярных инструментов в области нанотехнологий [1]. Такие системы включают в себя источники ионов, систему ионной оптики и камеру для образца с набором детекторов, необходимых для получения изображения поверхности и контроля процесса обработки. Использование разнообразных детекторов и систем ионной оптики, а также сочетание с растровым электронным микроскопом позволяет расширить возможности применения сфокусированных ионных пучков, однако именно от типа источника ионов и того, какие именно ионы используются, зависят предельно достижимые параметры ионного пучка и процессы взаимодействия ионов с веществом. К настоящему моменту в системах со сфокусированным ионным пучком широко применяют источники ионов нескольких типов: электрогидродинамические (жидкометаллические, с ионной жидкостью) [2–4], плазменные (индуктивно связанная плазма) [5, 6], газовые автоионные [6–8] и источники с магнитной (магнитооптической) ловушкой [9]. На рис. 1 приведена периодическая система химических элементов, на которой согласно данным [2–23] отмечены элементы, применяемые в источниках ионов соответствующих типов.
Рис. 1. Химические элементы, применяемые в источниках ионов разных типов: ■ – на основе газовой плазмы [5, 6, 10–16], ▼ – газовые автоионные источники [6–8, 17–22], ● – электрогидродинамические [2–4, 23], Δ – с магнитооптической ловушкой [9].
Как несложно видеть, наибольшее разнообразие ионов может быть получено с помощью электрогидродинамических источников, использующих чаще всего расплавы различных металлов и сплавов (жидкометаллические источники). В серийно выпускаемых системах со сфокусированным ионным пучком наиболее широко распространены жидкометаллические источники ионов галлия. В силу высокой популярности источники такого типа, принципы их работы и особенности применения наиболее подробно описаны в литературе, в частности в обзоре [2].
В случае газов, в первую очередь инертных, используются либо плазменные, либо газовые автоионные источники. Источники ионов с индуктивно связанной плазмой применяются в серийных системах со сфокусированным ионным пучком и, хотя они не так широко распространены, как жидкометаллические источники, позволяют получить значительно больший ток ионного пучка. При использовании тяжелых ионов, таких как ксенон, можно существенно повысить скорость распыления материала, что дает значительный выигрыш во времени обработки при необходимости удаления большого количества материала [5, 6]. Газовые автоионные источники, напротив, ограничены максимальным током пучка, но позволяют достичь рекордно высокого пространственного разрешения [8], чем и объясняется интерес к системам с источниками такого типа.
Системы с магнитооптической ловушкой хотя и обладают конкурентноспособными параметрами ионного пучка, но в силу технической сложности самого источника не используются в серийно выпускаемых системах со сфокусированным ионным пучком. Особенности источников такого типа и примеры их использования представлены в обзоре [9].
Применение систем со сфокусированным ионным пучком в современном материаловедении требует от исследователя знаний и представлений об их возможностях и характеристиках в сравнении с источниками различного типа. С этой целью в работе проведено краткое сравнение разных ионных источников и представлены примеры их основного применения. Для решения исследовательских и технологических задач с максимальным пространственным разрешением наиболее интересными представляются системы с газовым автоионным источником. Однако число опубликованных на русском языке работ, посвященных этой теме, весьма ограничено. Настоящая работа должна заполнить имеющийся пробел и ознакомить читателя с краткой историей развития и принципами работы газовых автоионных источников и основными направлениями применения систем со сфокусированным ионным пучком на основе таких источников.
1. ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АВТОИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ
В основе работы газовых автоионных источников лежит явление автоионизации, или ионизации газа в сильном электрическом поле. Это явление было описано Э. Мюллером в середине прошлого века [24–26]. Для достижения больших значений напряженности электрического поля в качестве анода использовано металлическое острие с минимально возможным радиусом кривизны, находящееся в объеме, заполненном газом при низком давлении (рис. 2). В результате туннелирования и перехода электронов с валентных орбиталей атомов газа на свободные орбитали в металле атомы ионизируются и ускоряются в направлении электрического поля от острия.
Рис. 2. Автоионизация газа вблизи металлического острия.
Одним из важнейших результатов работ Э. Мюллера стало создание автоионного микроскопа, или полевого ионного проектора, который позволил наблюдать структуру поверхности острия-анода с атомарным разрешением. В основе его работы лежит идея увеличения напряженности электрического поля и, как следствие, вероятности туннелирования вблизи атомарных выступов на поверхности. В результате образующиеся ионы ускоряются в направлении от атомарного выступа, а каждый атом играет роль точечного источника, испускающего свой узкий пучок ионов (рис. 2). В работах Мюллера впервые была показана возможность создания ионного источника, минимальный размер которого сравним с размерами одиночного атома. Именно такие источники позволяют достичь наилучших результатов в настоящее время.
Развитие идеи использования автоионизации для создания ионных источников связано в первую очередь с попытками сконструировать ионный микроскоп, который аналогично существующим на тот момент электронным микроскопам позволял бы получать увеличенное изображение исследуемого объекта, содержащее дополнительную информацию, связанную с особенностями взаимодействия ионов с веществом. На основе этой идеи группа под руководством Р. Леви-Сетти сконструировала первый сканирующий просвечивающий протонный микроскоп с автоионным источником [7]. И хотя этот микроскоп работал при токе ионного пучка на несколько порядков ниже, чем современные системы, уже тогда были продемонстрированы изображения ряда биологических объектов, что позволило говорить о возможных перспективах дальнейшего применения газовых автоионных источников в микроскопии. В дальнейшем Дж. Орлофф и Л. Свенсон выполнили ряд работ, посвященных развитию газовых автоионных источников [17, 27, 28], в которых они показали, что можно достичь высокой яркости источника, а в сканирующем ионном микроскопе – разрешения в несколько десятков нанометров при токе в несколько пикоампер. Позже Г. Аллан и Дж. Легге использовали газовый автоионный источник в протонном микрозонде [29, 30] и показали, что можно достичь разрешения в несколько нанометров при токе до нескольких десятков пикоампер. Также необходимо отметить работы группы З. Кальбитцера, в которых было описано так называемое сверхострие с малым радиусом кривизны, благодаря которому возможен виртуальный размер источника меньше радиуса кривизны острия [18, 31, 32].
В начале этого века основные типы источников ионов благородных газов, в том числе газовые автоионные источники, были описаны в обзоре В. Тондаре [33], который пришел к выводу, что газовые автоионные источники наиболее многообещающие для применения в системах со сфокусированным ионным пучком ввиду высокой яркости, а основным их недостатком является низкая стабильность по сравнению с плазменными или жидкометаллическими источниками.
Поскольку уменьшение радиуса кривизны острия, используемого в качестве автоионного источника, приводило к увеличению его яркости, естественным шагом в дальнейшем развитии автоионных источников было уменьшение радиуса кривизны острия до размеров одиночного атома. Методы получения одиночного атома (или нескольких атомов) на вершине острия, обладающего достаточной стабильностью для практического использования в системах со сфокусированным ионным пучком, были разработаны лишь в начале XXI в.
Идеологически наиболее простым и исторически первым методом получения такого источника является метод термополевого формирования вольфрамового острия. Еще в работах Мюллера [26] было описано изменение формы острия под влиянием сильного электрического поля. В дальнейшем идея использования термополевого формирования острия для получения одиночных атомов вольфрама на вершине острия была развита В.Г. Павловым [34, 35], а также группой американских авторов [36, 37], использовавших трехатомный источник при создании сканирующего ионного гелиевого микроскопа. Коммерциализация и выпуск в серию этого прибора, как можно видеть из обсуждаемых ниже работ, сыграли значительную роль в развитии приложений систем со сфокусированным ионным пучком, использующих газовый автоионный источник.
Альтернативный метод получения одноатомных источников был разработан в группе Т. Цоня [38–42]. В его основе лежит самоупорядочение атомов благородных металлов (Pd, Pt, Ir) на поверхности вольфрама (111) при нагреве. В результате такого упорядочения атомы адсорбата выстраиваются в трехгранную пирамиду, на вершине которой и размещается одиночный атом, используемый в качестве точечного источника, на котором происходит автоионизация газа. Несмотря на высокую яркость и приемлемую стабильность таких источников, широкого распространения они не получили, вероятно, ввиду необходимости использования благородных металлов в процессе их получения.
Еще один альтернативный метод получения одноатомных источников был разработан в группе Р. Волкова [43]. Он основан на травлении острия вольфрама азотом в сильном электрическом поле. В дальнейшем этот же метод был применен для травления иридиевого острия кислородом [44]. В результате взаимодействия адсорбированного газа с материалом острия в сильном электрическом поле атомы металла отрываются от поверхности, что приводит к уменьшению радиуса кривизны острия вплоть до формирования одноатомной вершины. Этот же метод подготовки одноатомных ионных источников применяли в одной из компаний – производителей оборудования [21, 45], но об использовании газовых автоионных источников в серийных приборах этого производителя на сегодня ничего не известно.
Таким образом, после развития методов формирования острия с атомарно-острой вершиной были достигнуты высокая яркость и минимально возможные размеры газовых автоионных источников. В результате стало возможным производство систем со сфокусированным ионным пучком, обладающих субнанометровым разрешением [8].
2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ГАЗОВЫХ АВТОИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ
В основе явления автоионизации лежит туннелирование электронов сквозь узкий потенциальный барьер, возникающий вблизи поверхности металла в сильном электрическом поле (рис. 3a). Из квантовой механики хорошо известно, что вероятность туннелирования возрастает при уменьшении высоты и ширины потенциального барьера. Для оценки прозрачности потенциального барьера можно воспользоваться квазиклассичеким приближением в одномерном случае:
, (1)
где m – масса электрона, ħ – постоянная Планка, E – полная энергия электрона, V(x) – потенциальная энергия электрона. В простом случае атома водорода
, (2)
Здесь первое слагаемое описывает энергию электрона в поле кулоновского потенциала ядра атома, находящегося на расстоянии от поверхности металла, второе слагаемое – энергию электрона в электрическом поле напряженностью ε, а третье и четвертое слагаемые – энергию взаимодействия электрона с зарядами-изображениями электрона и иона соответственно. Исходя из формулы (1) можно предположить, что при уменьшении расстояния между металлом и атомом вероятность ионизации должна увеличиваться, но также нельзя забывать о том, что часть уровней в металле уже заполнена электронами (заштрихованная область на рис. 3а). В случае, когда потенциал ионизации газа больше, чем работа выхода электрона из металла, в отсутствие электрического поля энергия валентных электронов атома соответствует энергии заполненных уровней в металле, а значит, туннелирование и переход на эти уровни запрещены согласно принципу Паули. Во внешнем электрическом поле уровни валентных электронов атома расположены выше, поэтому электрон может туннелировать и переходить на свободные уровни в металле. Для заданной напряженности электрического поля существует минимальное расстояние, на котором может иметь место туннелирование. Оно соответствует случаю, когда уровень энергии электрона атома совпадает с уровнем Ферми металла. С одной стороны, при повышении напряженности электрического поля данное расстояние уменьшается, а значит, уменьшается соответствующая ширина потенциального барьера и возрастает вероятность ионизации. С другой стороны, при увеличении расстояния от поверхности уровень энергии электрона в атоме окажется выше энергии электрона в вакууме, а значит, при туннелировании электрон будет переходить на уровни в вакууме, а не в металле. В этом случае прозрачность потенциального барьера зависит только от напряженности электрического поля, но не от расстояния до поверхности.
Расчетные значения прозрачности барьера в зависимости от расстояния до поверхности приведены на рис. 3б при нескольких значениях напряженности электрического поля. Из рисунка видно, что максимальная прозрачность барьера достигается в узкой области расстояний и падает примерно на порядок при увеличении расстояния до поверхности на 1 Å, именно в этой области наиболее эффективно происходит ионизация. Увеличение напряженности электрического поля в 3 раза приводит к увеличению прозрачности барьера более чем на 10 порядков.
Исходя из сказанного выше можно прийти к выводу, что повышением напряженности электрического поля можно добиться сколь угодно большого ионного тока, но не стоит забывать, что само металлическое острие может разрушиться под действием полевой десорбции атомов металла.
Из рис. 3б понятно, что размеры области эффективной ионизации увеличиваются при росте напряжения, приложенного к острию. Ионизация может происходить уже не только вблизи некоторых выступающих атомов, но и на расстояниях больше межатомного, так что отдельные атомы острия уже не являются обособленными точечными источниками, а автоионное изображение острия смазывается. В связи с этим в автоионной микроскопии было введено понятие “поле наилучшего изображения”, под которым подразумевают напряженность электрического поля, при которой достигают наилучшего разрешения изображения поверхности острия. Эта напряженность поля характерна для каждого газа [26]. На практике чаще используют понятие “напряжение наилучшего изображения” (Best Image Voltage, BIV), поскольку экспериментально измеряют приложенное напряжение, а не напряженность электрического поля. Очевидно, что напряжение наилучшего изображения зависит не только от используемого газа, но и от радиуса кривизны острия. Для одноатомного источника, т. е. острия с одиночным атомом на вершине, напряжением наилучшего изображения можно считать напряжение, при котором достигается максимальная плотность тока ионов, т. е. минимальное размытие изображения атома в режиме автоионного проектора [44]. Именно это напряжение является рабочим напряжением газовых автоионных источников в системах со сфокусированным ионным пучком.
Рис. 3. Энергетическая схема, описывающая процесс ионизации атома в сильном электрическом поле вблизи поверхности металла (а). Расчетные зависимости прозрачности потенциального барьера D от расстояния d (б) при напряженности электрического поля: 200 (1), 300 (2), 400 (3), 500 (4), 600 МВ/см (5).
Рассмотрим подробнее процесс попадания атомов в область с высокой вероятностью ионизации. Первоначально можно предположить, что отдельные атомы попадают в область эффективной ионизации в результате случайного теплового блуждания. Однако уже в первых работах на эту тему было показано, что приток атомов или молекул газа на поверхность острия превышает значения, ожидаемые на основе молекулярно-кинетической модели. Дело в том, что атомы или молекулы газа, находящиеся вокруг острия, поляризуются в сильном электрическом поле и приобретают дипольный момент. В неоднородном электрическом поле диполи затягиваются в область с большей напряженностью, т. е. к острию, что увеличивает приток газа. Кроме того, атомы и молекулы, адсорбировавшиеся на боковой поверхности острия, дрейфуют в электрическом поле по поверхности к его вершине. Необходимо учитывать, что атомы газа обладают конечной тепловой скоростью, поэтому могут, отразившись от поверхности острия, вылететь за пределы области эффективной ионизации, а затем вновь вернуться, затягиваемые неоднородным электрическим полем. При понижении температуры острия уменьшается тепловая скорость десорбирующихся атомов, вследствие чего повышается вероятность их ионизации. Согласно результатам [20, 21, 32] при определенной температуре наблюдается максимальный ионный ток, что связывают с конкурирующими процессами дрейфа молекул по поверхности и десорбции атомов газа с поверхности острия. Для большинства инертных газов, согласно данным литературы, температура, соответствующая максимальному току ионов, находится в диапазоне 20–70 К, поэтому для максимальной эффективности источников необходимо использовать системы охлаждения.
Основной характеристикой источников ионов является приведенная (нормализованная) яркость:
, (3)
где I – сила тока ионов, S – площадь источника, Ω – телесный угол расходимости ионного пучка, V – ускоряющее напряжение. В случае если ток ионной эмиссии неравномерно распределен по площади и/или углам, отношение (3) заменяется дифференциалом:
, (4)
Эта величина является инвариантом на протяжении идеальной оптической системы, поэтому позволяет определить соотношение между параметрами пучка после фокусировки. Яркость газовых автоионных источников с одиночным атомом на вершине находится в диапазоне 108–109 А·м–2·ср–1, что примерно на 3 порядка величины выше, чем в жидкометаллических источниках ионов, наиболее распространенных в системах со сфокусированным ионным пучком.
3. ИОННО-ОПТИЧЕСКАЯ КОЛОННА
Основу систем со сфокусированным ионным пучком составляет ионно-оптическая колонна. На рис. 4а приведена общая схема ионно-оптической колонны с газовым автоионным источником. В верхней части колонны находится ионная пушка (1). Расположенная дальше оптическая система обычно включает в себя конденсорную линзу (2), диафрагму (3), которая служит для ограничения угловой расходимости пучка, отклоняющую систему (систему сканирования) (4), объективную линзу (5). Помимо этих элементов в ионно-оптической колонне могут присутствовать системы компенсации астигматизма и дополнительные отклоняющие системы для юстировки пучка. Схема ионной пушки более подробно приведена на рис. 4б.
Рис. 4. Схема ионно-оптической колонны (а): 1 – ионная пушка, 2 – конденсорная линза, 3 – диафрагма, 4 – отклоняющая система, 5 – объективная линза. Схема ионной пушки (б): 1 – токовые электроды, 2 – изолятор, 3 – острие, 4 – экстрактор.
Поскольку основные методы изготовления одноатомных источников требуют высокой температуры, нагрев источника осуществляется пропусканием тока через V-образную проволоку, которая соединена с электродами (1), вмонтированными в изолятор (2). На вершине V-образной проволоки устанавливают острие (3), вершина которого и служит источником ионов. Напряжение, необходимое для ионизации, прикладывают между острием и электродом-экстрактором (4). В наиболее простом варианте исполнения ионной пушки экстрактор заземлен, а напряжение ионизации является ускоряющим напряжением и определяет энергию ионов. Схема с незаземленным экстрактором позволяет независимо изменять разность потенциалов между острием и экстрактором (напряжение ионизации) и разность потенциалов между острием и корпусом прибора (ускоряющее напряжение), добиваясь стабильной ионизации для разных значений ускоряющего напряжения.
Вся ионно-оптическая колонна находится в вакууме, причем наиболее высокие требования предъявляются к уровню вакуума в ионной пушке. Присутствие остаточных атмосферных газов может приводить к окислению поверхности источника, что негативно сказывается на эффективности эмиссии, а в случае одноатомного источника приводит к его разрушению, а также затрудняет формирование нового источника. Типичные значения давления остаточных газов в ионной пушке составляют ~10–9–10–7 Па.
Ионизация в пушке происходит при давлении рабочего газа в диапазоне 10–5–10–3 Па. При увеличении давления растет ионный ток, но одновременно с этим повышается вероятность десорбции атомов с вершины острия под действием налетающих молекул газа, что в случае одноатомных источников приводит к их быстрому разрушению. Можно заметить, что давление рабочего газа на 3–5 порядков выше давления остаточных газов в ионной пушке. Соответственно, чистота рабочего газа должна быть такой, чтобы избежать дополнительного загрязнения поверхности источника. Поскольку в большинстве газовых автоионных источников ток эмиссии повышается при понижении температуры, в пушку дополнительно вводят элементы для охлаждения, на которых может происходить конденсация остаточных газов и примесей из рабочего газа. В результате в пушке накапливаются молекулы примесей, потенциал ионизации которых отличается от потенциала ионизации рабочего газа, вследствие чего стабильность работы источника ухудшается. Исходя из этого чистота используемого газа должна быть не хуже 99.999%.
В отличие от магнитной электронной оптики в системах со сфокусированным ионным пучком используют электростатические оптические элементы. В качестве конденсорной и объективной линз применяют трехэлектродные электростатические линзы, а в качестве отклоняющих систем и компенсаторов астигматизма – квадрупольные и октупольные системы электродов. Ограничивающая диафрагма представляет собой металлическую пластину с отверстиями разных диаметров, одно из которых устанавливают на оптической оси системы.
Ионы, испускаемые источником, проходя через ионно-оптическую колонну, формируют сфокусированный ионный пучок, т. е. изображение источника ионов. В идеальной ионно-оптической колонне размеры сфокусированного ионного пучка определяются выражением
d = Md0 , (5)
где M – увеличение ионной колонны, которое зависит от фокусных расстояний линз, d0 – виртуальный размер источника ионов, который рассчитывают, используя выражение (3), он определяется яркостью источника и углом сходимости пучка при данном токе ионов:
, (6)
В реальной оптической системе присутствуют аберрации и дифракционное размытие, связанное с волновыми свойствами ионов, так что результирующий размер сфокусированного ионного пучка:
, (7)
здесь Cs и Ccr– коэффициенты сферической и хроматической аберрации соответственно, α – угол сходимости ионного пучка, – относительный разброс значений энергии ионов, λ – длина волны иона. На практике при больших углах сходимости основной вклад в минимальный размер пучка вносит сферическая аберрация, а при малых углах – размер источника, обратно пропорциональный углу. Хроматическая аберрация в системах с газовым автоионным источником, как правило, мала, поскольку при низких температурах источника мал разброс электронов по энергии. Для одноатомного источника ионов гелия при ускоряющем напряжении 30 кВ и типичном угле сходимости порядка долей миллирадиана оценка по формуле (7) дает размер сфокусированного пучка менее 1 нм при токе до 20 пА [8].
Таким образом, при использовании газовых автоионных источников с высокой яркостью и малым углом сходимости удается добиться субнанометрового размера сфокусированного ионного пучка, что обеспечивает высокое разрешение ионной микроскопии и обработки ионным пучком.
4. ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОВЫХ АВТОИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ИОННОЙ МИКРОСКОПИИ
Разработка одноатомных источников ионов в начале 2000-х гг. позволила говорить о возможности создания сканирующего ионного микроскопа с субнанометровым разрешением. Такой прибор был разработан и запущен в серийное производство под названием гелиевого ионного микроскопа [36]. Позднее в конструкцию прибора была добавлена возможность использования не только ионов гелия, но ионов неона [46]. Кроме гелиевого ионного микроскопа были разработаны аналогичные микроскопы с источниками ионов азота [22, 47] и водорода [21, 45], которые, насколько известно, не были выпущены в серийное производство.
Принцип формирования изображения в данном микроскопе повторяет принцип формирования изображения в растровых электронных микроскопах. Общая схема устройства сканирующего ионного микроскопа и внешний вид гелиевого ионного микроскопа представлены на рис. 5. Описанная в предыдущем разделе ионно-оптическая колонна (1) может быть использована для фокусировки ионного пучка на поверхности образца и сканирования, но для получения изображения необходимо регистрировать возбуждаемый ионным пучком сигнал. Основным детектором для регистрации сигнала в ионном микроскопе (2) так же, как и в растровом электронном микроскопе, является сцинтилляционный детектор вторичных электронов типа Эверхарта–Торнли [48]. Строго говоря, возбуждаемые ионным пучком электроны правильнее назвать ионно-индуцированными, а не вторичными, поскольку первичный пучок не является электронным, но термин “вторичные”, перенесенный из электронной микроскопии, можно считать устоявшимся в ионной микроскопии, поэтому в дальнейшем будем его использовать.
Рис. 5. Схема сканирующего ионного микроскопа (а): 1 – ионно-оптическая колонна, 2 – детектор вторичных электронов, 3 – детектор обратно рассеянных ионов. Внешний вид сканирующего гелиевого ионного микроскопа (б).
Основными отличиями вторичных электронов, возбуждаемых в ионной микроскопии, от вторичных электронов в электронной микроскопии, как было показано экспериментально [49–52], а также методами численного моделирования [53], являются меньшая энергия вторичных электронов и более узкое распределение электронов по энергии. Это приводит к тому, что на регистрируемый сигнал оказывают существенное влияние изменения работы выхода и потенциала, связанного с накоплением заряда на поверхности при исследовании диэлектрических материалов [52, 54, 55]. При использовании этих особенностей сигнала вторичных электронов в ряде работ была развита идея метода фильтрации вторичных электронов по энергии для усиления контраста [50, 51, 56, 57], а также показана возможность профилирования распределения легирующей примеси в полупроводниках [58–60].
Помимо детектора вторичных электронов ионный микроскоп может быть оборудован детектором для регистрации обратно рассеянных ионов (3), выход которых может содержать информацию о составе и кристаллографической ориентации исследуемого образца [61]. Здесь необходимо отметить, что в отличие от обратно рассеянных электронов выход обратно рассеянных ионов зависит от атомного номера исследуемого материала немонотонно [62], что может приводить к неоднозначности интерпретации получаемых изображений. Поэтому сигнал обратно рассеянных ионов редко используют на практике для анализа контраста материалов. При исследовании кристаллов эффект каналирования приводит к заметному снижению выхода обратно рассеянных ионов, что позволяет получить дополнительную информацию о кристаллографической ориентации образца [49, 63, 64]. В частности, в [63, 64] была продемонстрирована возможность получения карты ориентации зерен поликристаллического образца на основании серии снимков, полученных при разных углах падения ионного пучка.
По мере распространения приборов с газовым автоионным источником развивались дополнительные аналитические методы микроскопии, как перенесенные по аналогии из электронной микроскопии, так и основанные на ионно-лучевых методах анализа. На базе решений из электронной микроскопии были реализованы такие методы анализа, как просвечивающая и сканирующе-просвечивающая ионная микроскопия [65–70], отражательная ионная микроскопия [51, 71], ионолюминесценция [72–75], а аналогично имеющимся ионно-лучевым методам были реализованы методы спектроскопии обратного рассеяния ионов [76, 77] и вторично-ионной масс-спектроскопии [77–80].
Таким образом, в первую очередь благодаря высокому разрешению, обусловленному высокой яркостью, системы со сфокусированным ионным пучком, использующие газовые автоионные источники, получили распространение как сканирующие ионные микроскопы, т. е. устройства, применяемые для исследования и диагностики с высоким пространственным разрешением. Однако ионная микроскопия не является единственным направлением применения автоионных источников. Как будет показано дальше, применение таких систем для модификации свойств материалов позволяет реализовать широкий спектр уникальных технологических операций, недоступных для систем другого типа.
5. ПРИМЕНЕНИЕ СФОКУСИРОВАННЫХ ИОННЫХ ПУЧКОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВОЙСТВАМИ МАТЕРИАЛОВ
Методы управляемой модификации свойств материалов основаны на таких процессах, как образование ионно-индуцированных дефектов и распыление материала ионной бомбардировкой. Сечения объема взаимодействия ионов с веществом при различной энергии, применяемой в системах со сфокусированным ионным пучком, полученные с помощью численного моделирования методом Монте-Карло [81], приведены на рис. 6. Из рисунка видно, что глубина проникновения ионов может достигать сотен нанометров, как и латеральные размеры объема взаимодействия, причем размеры области взаимодействия увеличиваются с ростом энергии ионов и уменьшаются при увеличении массы налетающего иона, как и при увеличении массы атомов мишени. Поскольку воздействие ионами на материал происходит во всем объеме взаимодействия, пространственное разрешение такого воздействия определяется размерами этого объема, которые могут значительно превышать характерные размеры сфокусированного ионного пучка при использовании одноатомного газового автоионного источника. Тем не менее в приповерхностной области материала число актов рассеяния иона еще невелико, поэтому латеральное размытие области взаимодействия также невелико. Особенно хорошо это заметно в случае легких ионов, таких как ионы гелия. Таким образом, при облучении тонких пленок, в которых рассеяние ионов по толщине не приводит к заметному увеличению сечения области взаимодействия, можно достичь разрешения обработки ионным пучком, сравнимого с размерами сфокусированного ионного пучка.
Рис. 6. Сечения объема взаимодействия ионов с веществом, рассчитанные методом Монте-Карло: горизонтальный ряд соответствует иону, указанному слева от ряда (He, Ar, Xe); вертикальный ряд из пар изображений соответствует материалу мишени (C, Fe, Au). В каждой паре левое изображение рассчитано для энергии ионов 10 кэВ, правое – 30 кэВ. Размер области расчета для ионов гелия – 300 нм, а для ионов аргона и ксенона – 50 нм.
Наиболее широко применяемым методом обработки материалов сфокусированным ионным пучком является ионное распыление. Для его реализации широко применяют системы с жидкометаллическим источником ионов галлия, однако размеры ионного пучка, достижимые для таких систем, обычно составляют не менее нескольких нанометров, а разрешение распыления – порядка десятков нанометров, что обусловлено рассеянием тяжелых ионов. Как было показано в [82], разрешение распыления ионным пучком улучшается по мере уменьшения массы ионов, поэтому для получения максимального разрешения система с одноатомным источником ионов гелия оптимальна. Недостатком легких ионов в данном случае является малый выход распыления, т. е. число атомов материала, выбиваемых одним ионом. Выход распыления для ионов гелия примерно на 2 порядка меньше, чем для ионов галлия. Исходя из этого можно заключить, что системы с одноатомным газовым источником легких ионов в области распыления сфокусированным ионным пучком являются инструментом для прецизионной обработки с рекордным разрешением, но низкой производительностью.
Среди работ, посвященных распылению различных материалов с использованием сфокусированного пучка ионов гелия, стоит выделить работы по созданию наноструктур на основе графена [83–88], плазмонных наноструктур [89–91], пор в органических мембранах [92] и мембранах на основе нитрида кремния [93–96], в которых было показано, что при распылении тонких пленок сфокусированным пучком легких ионов можно достичь разрешения менее 3 нм.
Одним из первых материалов, на которых были предприняты попытки получить рекордное разрешение ионного распыления, был графен. В ходе работ по изготовлению графеновых наноструктур и исследованию их свойств выяснилось, что свойства графена существенно изменяются при облучении ускоренными ионами [97–99] в результате образования точечных дефектов. Это позволило создавать структуры с новыми свойствами не только с помощью распыления ионами, но и посредством локального ионного облучения [88, 100–102]. Одним из результатов исследования графеновых наноструктур, созданных с использованием сфокусированных ионных пучков, стала демонстрация краевых состояний, возникающих вокруг отверстия в графене [103]. Впоследствии методы локальной обработки сфокусированным ионным пучком с высоким разрешением были развиты и для других 2D-материалов [104–106].
Поскольку при облучении сфокусированным ионным пучком образуются радиационные дефекты, а системы с одноатомным газовым автоионным источником позволяют достичь рекордного разрешения, дальнейшим и наиболее перспективным, на наш взгляд, направлением развития для применения таких систем является локальное управление свойствами материалов за счет ионного облучения. К настоящему времени известно о примерах управления электрофизическими, химическими, магнитными и оптическими свойствами различных материалов с помощью систем со сфокусированным ионным пучком.
Изменение в результате ионного облучения химических свойств, таких как скорости растворения или химического травления, может быть использовано для создания наноструктур с помощью последующей химической обработки. Наиболее распространенным вариантом применения изменяющейся скорости растворения облучаемого материала является ионно-лучевая литография, описанная для ионов водорода в [107], где с помощью пучка ионов из ускорителя было получено разрешение в несколько десятков нанометров. При использовании системы с одноатомным газовым автоионным источником и тонких пленок силсеквиоксана водорода (HSQ) в качестве резиста в [108] было достигнуто разрешение менее 6 нм, а в [109] – 4 нм. Полученные значения сравнимы с рекордным разрешением, достижимым в электронно-лучевой литографии, а роль эффекта близости в ионно-лучевой литографии может быть даже меньше, чем в электронно-лучевой [110]. Все это свидетельствует о перспективности применения ионно-лучевой литографии с использованием одноатомных газовых автоионных источников для создания наноструктур с рекордным разрешением.
Помимо изменения скорости растворения материала в результате ионного облучения возможно изменение скорости химического травления. Так, в серии работ [111, 112] было показано локальное увеличение скорости химического травления нитрида и диоксида кремния при облучении сфокусированным пучком ионов гелия, а также продемонстрирована возможность создания таким способом пор с размерами ~10 нм в мембранах нитрида кремния [113] и отдельных наноструктур из диоксида кремния с размерами менее 20 нм [114].
Кроме непосредственного изготовления наноструктур с помощью уже упомянутых методов распыления сфокусированным ионным пучком или ионно-лучевой литографии возможно создание функциональных устройств за счет локального изменения свойств в результате ионного облучения. Геометрическая форма объекта сохраняется, а под действием ионного облучения структура материала изменяется. Наиболее чувствительными к такому воздействию оказались кристаллические полупроводники, в частности их оптические свойства. В работах по исследованию возбуждения ионолюминесценции [72, 75] было показано, что интенсивность люминесценции, возбуждаемой ионным пучком в таких полупроводниках, как GaN и GaP, заметно падает в процессе возбуждения уже при дозах ~1012–1013 см–2, что вероятнее всего обусловлено генерацией ионно-индуцированных дефектов, являющихся центрами безызлучательной рекомбинации. В дальнейшем с использованием эффекта локального внедрения центров безызлучательной рекомбинации с помощью ионного облучения в квантовых ямах InGaAs/GaAs была продемонстрирована возможность управления шириной экситонного резонанса [115]. На основе этого эффекта путем облучения периодических структур была создана экситонная дифракционная решетка [116, 117].
Отдельного упоминания заслуживает применение сфокусированных ионных пучков для локального управления свойствами тонких сверхпроводящих пленок. Эффект перехода сверхпроводника в состояние нормального металла и даже изолятора под действием облучения ионами известен достаточно давно [118], однако лишь появление систем со сфокусированным ионным пучком субнанометрового размера позволило применить этот эффект, чтобы создать в тонкой сверхпроводящей пленке YBaCuO джозефсоновский переход без нарушения ее целостности [119]. С помощью разработанного метода в [120, 121] удалось изготовить СКВИД-магнитометр. Аналогичным образом был изготовлен джозефсоновский переход на основе диборида магния [122].
Особый интерес в последние годы вызывает возможность управлять магнитными свойствами материалов посредством облучения сфокусированным ионным пучком [121, 123–132]. Как уже было сказано выше, наилучшего разрешения обработки ионным пучком можно достичь в тонких пленках, и одним из наиболее подходящих объектов для такой обработки являются пленки, состоящие из чередующихся слоев кобальта и платины и обладающие перпендикулярной магнитной анизотропией. Впервые управление магнитными свойствами такой пленки с помощью сфокусированного пучка ионов гелия было продемонстрировано в [123]. В дальнейшем было показано, что облучение сфокусированным пучком ионов гелия приводит к уменьшению коэрцитивности и перпендикулярной магнитной анизотропии кобальт-платиновых пленок вплоть до смены типа анизотропии на “легкую плоскость” [124]. С помощью локального облучения сфокусированным ионным пучком областей с размерами порядка десятков нанометров в [125, 126] удалось создать в таких пленках искусственную решетку магнитных скирмионов, а в [127] была показана возможность формирования антиферромагнитных доменов. Впоследствии на решетке магнитных скирмионов был продемонстрирован топологический эффект Холла [128]. Кроме того, при использовании локального управления магнитной анизотропией кобальт-платиновых пленок с помощью сфокусированного ионного пучка был создан элемент магнитной памяти на основе спин-орбитальной передачи вращательного момента [129]. Еще одним материалом, облучение которого ионами приводит к интересным изменениям магнитных свойств, является железо-алюминиевый сплав Fe60Al40. В его кристаллической структуре плоскости атомов железа разделены плоскостями атомов алюминия в большом количестве, поэтому ферромагнитные свойства проявляются весьма слабо [121]. Облучение сфокусированным ионным пучком приводит к разупорядочению структуры – образуются области взаимодействующих атомов железа, и возникает наведенный ферромагнетизм [121, 130]. Образующиеся при локальном облучении ионами неона ферромагнитные домены наблюдались в [130, 131], а в [132] – ферромагнитный резонанс в аналогично облученных структурах.
Таким образом, не вызывает сомнений, что системы со сфокусированным ионным пучком на основе одноатомных газовых автоионных источников нашли широкое применение в модификации свойств различных кристаллических и аморфных материалов посредством изменения их структуры и позволили получить ряд уникальных результатов, недостижимых другими имеющимися сегодня методами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассматривая историю появления и развития одноатомных газовых автоионных источников и их применения в системах со сфокусированным ионным пучком, мы постарались охватить максимально широкий диапазон возможных приложений. Несмотря на это, за рамками рассмотрения остались метод осаждения ионным облучением из газовой фазы [133–136], исследования биологических объектов методами ионной микроскопии [137], а также ряд других приложений, что лишь подкрепляет вывод о широком применении описываемых приборов.
Одноатомные источники ионов были созданы благодаря особенностям реконструкции формы кристаллов в сильном электрическом поле, и в данном случае имеем дело с достижением принципиального предела минимального размера источника, так что дальнейшего улучшения разрешения сфокусированного ионного пучка можно добиться благодаря совершенствованию элементов ионно-оптической колонны. Разрешение анализа и обработки материалов, достижимое с использованием сфокусированных ионных пучков, принципиально ограничивается размерами области взаимодействия, в которой происходит рассеяние ионов. Но лишь при субнанометровом размере сфокусированного ионного пучка именно процессы рассеяния начинают играть роль ограничивающего фактора, так что достижение рекордных разрешений возможно при увеличении энергии ионов и использовании ионов легких элементов, таких как водород и гелий. Легкие ионы в силу малой массы обладают низкой эффективностью воздействия на материалы по сравнению с более тяжелыми ионами, что может привести к значительному увеличению времени, требуемому для обработки структур на большой площади. С этой точки зрения несомненным преимуществом обладают системы, имеющие возможность использования нескольких газов с различными массами ионов, и газовые автоионные источники позволяют реализовать это на практике. Таким образом, системы со сфокусированным ионным пучком на основе одноатомных газовых автоионных источников прочно заняли нишу приборов для анализа и обработки материалов, обладающих рекордным разрешением, а круг задач, решаемых с их помощью, продолжает расширяться.
В работе использованы результаты, полученные с помощью оборудования Междисциплинарного ресурсного центра по направлению “Нанотехнологии” Научного парка СПбГУ.
About the authors
Ю. В. Петров
Санкт-Петербургский государственный университет
Author for correspondence.
Email: y.petrov@spbu.ru
Russian Federation, г. Санкт-Петербург
О. Ф. Вывенко
Санкт-Петербургский государственный университет
Email: y.petrov@spbu.ru
Russian Federation, г. Санкт-Петербург
References
- Gianuzzi L.A., Stevie F.A. Introduction to Focused Ion Beams. New York: Springer, 2005. 357 p. https://doi.org/10.1007/b101190
- Мажаров П., Дудников В.Г., Толстогузов А.В. // Успехи физ. наук. 2020. Т. 190. № 12. С. 1293. https://doi.org/10.3367/UFNr.2020.09.038845
- Bischoff L., Mazarov P., Bruchhaus L. et al. // Appl. Phys. Rev. 2016. V. 3. P. 021101. https://doi.org/10.1063/1.4947095
- Толстогузов А.Б., Белых С.Ф., Гуров В.С. и др. // Приборы и техника эксперимента. 2015. № 1. С. 5. https://doi.org/10.7868/S0032816215010115
- Smith N.S., Skoczylas W.P., Kellogg S.M. et al. // J. Vac. Sci. Technol. B. 2006. V. 24. № 6. P. 2902. https://doi.org/10.1116/1.2366617
- Smith N.S., Notte J.A., Steele A.V. // MRS Bull. 2014. V. 39. P. 329. https://doi.org/10.1557/mrs.2014.53
- Escovitz W.H., Fox T.R., Levi-Setti R. // Proc. Nat. Acad. Sci. 1975. V. 72. P. 1826. https://doi.org/10.1073/pnas.72.5.1826
- Hlawacek G., Gölzhäuser A. Helium Ion Microscopy. Cham: Springer, 2016. 526 p. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41990-9
- McClelland J.J., Steele A.V., Knuffman B. et al. // Appl. Phys. Rev. 2016. V. 3. P. 011302. https://doi.org/10.1063/1.4944491
- Nabhiraj P.Y., Menon R., Mohan Rao G. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 2010. V. 621. P. 57. https://doi.org/10.1016/j.nima.2010.04.069
- Montaser A., Chan S.K., Koppenaal D.W. // Anal. Chem. 1987. V. 59. № 8. P. 1240. https://doi.org/10.1021/ac00135a038
- Menon R., Nabhiraj P.Y., Bhandari R.K. // Vacuum. 2013. V. 97. P. 71. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2013.04.008
- Oishi K., Okumoto T., Iino T. et al. // Spectrochim. Acta. B. 1994. V. 49. № 9. P. 901. https://doi.org/10.1016/0584-8547(94)80079-0
- Muramatsu M., Kitagawa A. // Rev. Sci. Instrum. 2012. V. 83. P. 02B909. https://doi.org/10.1063/1.3671744
- Gushenets V.I., Bugaev A.S., Oks E.M. et al. // Rev. Sci. Instrum. 2012. V. 83. P. 02B311. https://doi.org/10.1063/1.3672112
- Hahto S.K., Hahto S.T., Kwan J.W. et al. // Rev. Sci. Instrum. 2003. V. 74. P. 2987. https://doi.org/10.1063/1.1571973
- Orloff J., Swanson L.W. // J. Appl. Phys. 1979. V. 50. P. 6026. https://doi.org/10.1063/1.326679
- Jousten K., Böhringer K., Börret R. et al. // Ultramicroscopy. 1988. V. 26. P. 301. https://doi.org/10.1016/0304-3991(88)90229-X
- Жуков В.А., Калбитцер З. // Микроэлектроника. 2011. Т. 40. С. 21.
- Kuo H.-S., Hwang I.-S., Fu T.-Y. et al. // Appl. Phys. Lett. 2008. V. 92. P. 063106. https://doi.org/10.1063/1.2844851
- Shichi H., Matsubara S., Hashizume T. // Microsc. Microanal. 2019. V. 25. P. 105. https://doi.org/10.1017/S1431927618016227
- Schmidt M.E., Yasaka A., Akabori M. et al. // Microsc. Microanal. 2017. V. 23. P. 758. https://doi.org/10.1017/s1431927617000502
- Fedkiwa T.P., Lozano P.C. // J. Vac. Sci. Technol. B. 2009. V. 27. P. 2648. https://doi.org/10.1116/1.3253604
- Müller E.W., Bahadur K. // Phys. Rev. 1956. V. 102. P. 624. https://doi.org/10.1103/PhysRev.102.624
- Müller E.W. // Adv. Electron. Electron Phys. 1960. V. 13. P. 83. https://doi.org/10.1016/S0065-2539(08)60210-3
- Мюллер Э., Цонь Т. Автоионная микроскопия (принципы и применение). М.: Металлургия, 1972. 360 с.
- Orloff J.H., Swanson L.W. // J. Vac. Sci. Technol. 1975. V. 12. P. 1209. https://doi.org/10.1116/1.568497
- Orloff J.H., Swanson L.W. // J. Vac. Sci. Technol. 1978. V. 15. P. 845. https://doi.org/10.1116/1.569610
- Allan G.L., Legge G.J.F., Zhu J. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 1988. V. 34. P. 122. https://doi.org/10.1016/0168-583X(88)90374-6
- Colman R.A., Allan G.L., Legge G.J.F. // Rev. Sci. Instrum. 1992. V. 63. P. 5653. https://doi.org/10.1063/1.1143396
- Borret R., Jousten K., Bohringer K. et al. // J. Phys. Appl. Phys. 1988. V. 21. P. 1835. https://doi.org/10.1088/0022-3727/21/12/031
- Kalbitzer S., Knoblauch A. // Appl. Phys. A. 2004. V. 78. P. 269. https://doi.org/10.1007/s00339-003-2218-1
- Tondare V.N. // J. Vac. Sci. Technol. A. 2005. V. 23. P. 1498. https://doi.org/10.1116/1.2101792
- Павлов В.Г. // ФТТ. 2006. Т. 48. Вып. 5. С. 912.
- Павлов В.Г. // ФТТ. 2007. Т. 49. Вып. 8. С. 1504.
- Morgan J., Notte J., Hill R. et al. // Microscopy Today. 2006. V. 14. P. 24. https://doi.org/10.1017/S1551929500050240
- Ward B.W., Notte J.A., Economou N.P. // J. Vac. Sci. Technol. B. 2006. V. 24. P. 2871. https://doi.org/10.1116/1.2357967
- Fu T.-Y., Cheng L.-C., Nien C.-H. et al. // Phys. Rev. B. 2001. V. 64. P. 113401. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.64.113401
- Kuo H.-S., Hwang I.-S., Fu T.-Y. et al. // Appl. Phys. Lett. 2008. V. 92. Р. 063106. https://doi.org/10.1063/1.2844851
- Lai W.-C., Lin C.-Y., Chang W.-T. et al. // Nanotechnology. 2017. V. 28. P. 255301. https://doi.org/10.1088/1361-6528/aa6ed3
- Kuo H.-S., Hwang I.-S., Fu T.-Y. et al. // Nano Lett. 2004. V. 4. P. 2379. https://doi.org/10.1021/nl048569b
- Chang W.-T., Hwang I.-S., Kuo H.-S. et al. // Microsc. Microanal. 2013. V. 19. P. 382. https://doi.org/10.1017/S1431927613003905
- Rezeq M., Pitters J., Wolkow R. // J. Chem. Phys. 2006. V. 124. P. 204716. https://doi.org/10.1063/1.219853
- Urban R., Wolkow R.A., Pitters J.L. // Helium Ion Microscopy / Ed. Hlawacek G., Gölzhäuser A. Springer, 2016. P. 31. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41990-9_2
- Matsubara S., Shichi H., Kawanami Y. et al. // Microsc. Microanal. 2016. V. 22. P. 614. https://doi.org/10.1017/S1431927616003925
- Notte J., Faridur Rahman F.H.M., McVey S. et. al. // Microsc. Microanal. 2010. V. 16. P. 28. https://doi.org/10.1017/S1431927610061477
- Schmidt M.E., Ogawa S., Mizuta H. // MRS Adv. 2018. V. 3. P. 505. https://doi.org/10.1557/adv.2018.33
- Everhart T.E., Thornley R.F.M. // J. Sc. Instrum. 1960. V. 37. P. 246. https://doi.org/10.1088/0950-7671/37/7/307
- Петров Ю.В., Вывенко О.Ф., Бондаренко А.С. // Поверхность. Рентген. синхротр. и нейтрон. исслед. 2010. № 9. С. 109.
- Petrov Yu., Vyvenko O. // Proc. SPIE. 2011. V. 8036. P. 80360O. https://doi.org/10.1117/12.886347
- Petrov Yu.V., Vyvenko O.F. // Helium Ion Microscopy / Ed. Hlawacek G., Gölzhäuser A. Springer, 2016. P. 119. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41990-9_5
- Anikeva A.E., Petrov Yu.V., Vyvenko O.F. // AIP Conf. Proc. 2019. V. 2064. P. 020001. https://doi.org/10.1063/1.5087657
- Ishitani N., Yamanaka T., Inai K. et al. // Vacuum. 2009. V. 84. P. 1018. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2009.12.010
- Petrov Yu.V., Anikeva A.E., Vyvenko O.F. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 2018. V. 425. P. 11. https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.04.001
- Ohya K. // J. Vac. Sci. Technol. B. 2014. V. 32. P. 06FC01. https://doi.org/10.1116/1.4896337
- Михайловский В.Ю., Петров Ю.В., Вывенко О.Ф. // Поверхность. Рентген. синхротр. и нейтрон. исслед. 2015. № 2. С. 93.
- Stehling N., Masters R., Zhou Y. et al. // MRS Commun. 2018. V. 8. P. 226. https://doi.org/10.1557/mrc.2018.75
- Jepson M.A.E., Inkson B.J., Rodenburg C. et al. // Europhys. Lett. 2009. V. 85. P. 46001. https://doi.org/10.1209/0295-5075/85/46001
- Rodenburg C., Jepson M.A.E., Inkson B.J. et al. // J. Phys.: Conf. Ser. 2010. V. 241. P. 012076. https://doi.org/10.1088/1742-6596/241/1/012076
- Chee A.K.W., Boden S.A. // Ultramicroscopy. 2016. V. 161. P. 51. https://doi.org/10.1016/j.ultramic.2015.10.003
- Bell D.C. // Microsc. Microanal. 2009. V. 15. P. 147. https://doi.org/10.1017/S1431927609090138
- Kostinski S., Yao N. // J. Appl. Phys. 2011. V. 109. P. 064311. https://doi.org/10.1063/1.3549016
- Veligura V., Hlawacek G., van Gastel R. et al. // Beilstein J. Nanotechnol. 2012. V. 3. P. 501. https://doi.org/10.3762/bjnano.3.57
- Hlawacek G., Veligura V., van Gastel R. et al. // Helium Ion Microscopy / Ed. Hlawacek G., Gölzhäuser A. Springer, 2016. P. 205. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41990-9_9
- Notte J., Hill R., McVey S.M. et al. // Microsc. Microanal. 2010. V. 16. P. 599. https://doi.org/10.1017/S1431927610093682
- Zweifel L.P., Shorubalko I., Lim R.Y.H. // ACS Nano. 2016. V. 10. P. 1918. https://doi.org/10.1021/acsnano.5b05754
- Woehl T.J., White R.M., Keller R.R. // Microsc. Microanal. 2016. V. 22. P. 544. https://doi.org/10.1017/S1431927616000775
- Kavanagh K.L., Herrmann C., Notte J.A. // J. Vac. Sci. Technol. B. 2017. V. 35. P. 06G902. https://doi.org/10.1116/1.4991898
- Mousley M., Eswara S., De Castro O. et al. // Beilstein J. Nanotechnol. 2019. V. 10. P. 1648. https://doi.org/10.3762/bjnano.10.160
- Serralta E., Klingne N., De Castro O. et al. // Beilstein J. Nanotechnol. 2020. V. 11. P. 1854. https://doi.org/10.3762/bjnano.11.167
- Petrov Yu.V., Vyvenko O.F. // Beilstein J. Nanotechnol. 2015. V. 6. P. 1125. https://doi.org/10.3762/bjnano.6.114
- Boden S.A., Franklin T.M.W., Scipioni L. et al. // Microsc. Microanal. 2012. V. 18. P. 1253. https://doi.org/10.1017/S1431927612013463
- Veligura V., Hlawacek G., Jahn U. et al. // J. Appl. Phys. 2014. V. 115. P. 183502. https://doi.org/10.1063/1.4875480
- Veligura V., Hlawacek G., van Gastel R. et al. // J. Phys.: Condens. Matter. 2014. V. 26. P. 165401. https://doi.org/10.1088/0953-8984/26/16/165401
- Veligura V., Hlawacek G. // Helium Ion Microscopy / Ed. Hlawacek G., Gölzhäuser A. Springer, 2016. P. 325. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41990-9_14
- Heller R., Klingner N., Hlawacek G. // Helium Ion Microscopy / Ed. Hlawacek G., Gölzhäuser A. Springer, 2016. P. 265. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41990-9_12
- Klingner N., Heller R., Hlawacek G. et al. // Ultramicroscopy. 2016. V. 162. P. 91. https://doi.org/10.1016/j.ultramic.2015.12.005
- Wirtz T., Vanhove N., Pillatsch L. et al. // Appl. Phys. Lett. 2012. V. 101. P. 041601. https://doi.org/10.1063/1.4739240
- Pillatsch L., Vanhove N., Dowsett D. et al. // App. Surf. Sci. 2013. V. 282. P. 908. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.06.088
- Wirtz T., Dowsett D., Philipp P. // Helium Ion Microscopy / Ed. Hlawacek G., Gölzhäuser A. Springer, 2016. P. 297. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41990-9_13
- Ziegler J.F., Ziegler M.D., Biersack J.P. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 2010. V. 268. P. 1818. https://doi.org/10.1016/j.nimb.2010.02.091
- Klingner N., Hlawacek G., Mazarov P. et al. // Beilstein J. Nanotechnol. 2020. V. 11. P. 1742. https://doi.org/10.3762/bjnano.11.156
- Bell D.C., Lemme M.C., Stern L.A. et al. // Nanotechnology. 2009. V. 20. P. 455301. https://doi.org/10.1088/0957-4484/20/45/455301
- Lemme M.C., Bell D.C., Williams J.R. et al. // ACSNano. 2009. V. 3. P. 2674. https://doi.org/10.1021/nn900744z
- Kalhor N., Boden S.A., Mizuta H. // Microelectron. Eng. 2014. V. 114. P. 70. https://doi.org/10.1016/j.mee.2013.09.018
- Iberi V., Vlassiouk I., Zhang X.-G. et al. // Sci. Rep. 2015. V. 5. P. 11952. https://doi.org/10.1038/srep11952
- Deng Y., Huang Q., Zhao Y. et al. // Nanotechnology. 2017. V. 28. P. 045302. https://doi.org/10.1088/1361-6528/28/4/045302
- Archanjo B.S., Fragneaud B., Cancado L.G. et al. // Appl. Phys. Lett. 2014. V. 104. P. 193114. https://doi.org/10.1063/1.4878407
- Wang Y., Abb M., Boden S.A. et al. // Nano Lett. 2013. V. 13. P. 5647. https://doi.org/10.1021/nl403316z
- Zhang C., Li J., Belianinov A. et al. // Nanotechnology. 2020. V. 31. P. 465302. https://doi.org/10.1088/1361-6528/abae99
- Kuznetsov A.I., Miroshnichenko A.E., Fu Y.H. et al. // Nature Commun. 2014. V. 5. P. 3104. https://doi.org/10.1038/ncomms4104
- Emmrich D., Beyer A., Nadzeyka A. et al. // Appl. Phys. Lett. 2016. V. 108. P. 163103. https://doi.org/10.1063/1.4947277
- Sawafta F., Carlsen A.T., Hall A.R. // Sensors. 2014. V. 14. P. 8150. https://doi.org/10.3390/s140508150
- Carlsen A.T., Briggs K., Hall A.R. et al. // Nanotechnology. 2017. V. 28. P. 085304. https://doi.org/10.1088/1361-6528/aa564d
- Marshall M.M., Yag J., Hall A.R. // Scanning. 2012. V. 34. P. 101. https://doi.org/10.1002/sca.21003
- Zahid O.K., Hall A.R. // Helium Ion Microscopy / Ed. Hlawacek G., Gölzhäuser A. Springer, 2016. P. 447. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41990-9_18
- Латышев Ю.И., Орлов А.П., Фролов А.В. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2013. Т. 98. С. 242. https://doi.org/10.7868/S0370274X13160066
- Fox D., Zhou Y.B., O’Neill A. et al. // Nanotechnology. 2013. V. 24. P. 335702. https://doi.org/10.1088/0957-4484/24/33/335702
- Iberi V., Ievlev A.V., Vlassiouk I. et al. // Nanotechnology. 2016. V. 27. Р. 125302. https://doi.org/10.1088/0957-4484/27/12/125302
- Araujo E.N.D., Brant J.C., Archanjo B.S. et al. // Phys. Rev. B. 2015. V. 91. P. 245414. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.245414
- Nanda G., Hlawacek G., Goswami S. et al. // Carbon. 2017. V. 119. P. 419e425. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2017.04.062
- Zhou Y., Maguire P., Jadwiszczak J. et al. // Nanotechnology. 2016. V. 27. P. 325302. https://doi.org/10.1088/0957-4484/27/32/325302
- Latyshev Yu.I., Orlov A.P., Volkov V.A. et al. // Sci. Rep. 2014. V. 4. P. 7578. https://doi.org/10.1038/srep07578
- Fox D.S., Zhou Y., Maguire P. et al. // Nano Lett. 2015. V. 15. P. 5307. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b01673
- Stanford M.G., Pudasaini P.R., Belianinov A. et al. // Sci. Rep. 2016. V. 6. P. 27276. https://doi.org/10.1038/srep27276
- Iberi V., Liang L., Ievlev A.V. et al. // Sci. Rep. 2016. V. 6. P. 30481. https://doi.org/10.1038/srep30481
- Watt F., Breese M.B.H., Bettiol A.A. et al. // Mater. Today. 2007. V. 10. P. 20. https://doi.org/10.1016/S1369-7021(07)70129-3
- Sidorkin V., van Veldhoven E., van der Drift E. et al. // J. Vac. Sci. Technol. B. 2009. V. 27. P. L18. https://doi.org/10.1116/1.3182742
- Li W.-D., Wu W., Stanley Williams R. // J. Vac. Sci. Technol. B. 2012. V. 30. P. 06F304. https://doi.org/10.1116/1.4758768
- Kalhor N., Alkemade P.F.A. // Helium Ion Microscopy / Ed. Hlawacek G., Gölzhäuser A. Springer, 2016. P. 395. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41990-9_16
- Petrov Y.V., Sharov T.V., Baraban A.P. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 2015. V. 349. P. 90. https://doi.org/10.1016/j.nimb.2015.02.054
- Petrov Y.V., Grigoryev E.A., Sharov T.V. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 2018. V. 418. P. 94. https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.01.011
- Petrov Y.V., Ubyivovk E.V., Baraban A.P. // AIP Conf. Proc. 2019. V. 2064. P. 030012. https://doi.org/10.1063/1.5087674
- Petrov Y.V., Grigoryev E.A., Baraban A.P. // Nanotechnology. 2020. V. 31. P. 215301. https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab6fe3
- Kapitonov Yu.V., Shapochkin P. Yu., Petrov Yu.V. et al. // Phys. Status. Solidi. B. 2015. V. 252. P. 1950. https://doi.org/10.1002/pssb.201451611
- Kapitonov Yu.V., Shapochkin P. Yu., Beliaev L. Yu. et al. // Opt. Lett. 2015. V. 41. P. 104. https://doi.org/10.1364/OL.41.000104
- Shapochkin P. Yu., Petrov Yu.V., Eliseev S.A. et al. // J. Opt. Soc. Amer. A. 2019. V. 36. P. 1505. https://doi.org/10.1364/JOSAA.36.001505
- White A.E., Short K.T., Dynes R.C. et al. // Appl. Phys. Lett. 1988. V. 53. P. 1010. https://doi.org/10.1063/1.100652
- Cybart S.A., Cho E.Y., Wong T.J. et al. // Nature Nanotechnol. 2015. V. 10. P. 598. https://doi.org/10.1038/nnano.2015.76
- Cho E.Y., Ma M.K., Huynh C. et al. // Appl. Phys. Lett. 2015. V. 106. P. 252601. https://doi.org/10.1063/1.4922640
- Cybart S.A., Bali R., Hlawacek G. et al. // Helium Ion Microscopy / Ed. Hlawacek G., Gölzhäuser A. Springer, 2016. P. 415. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41990-9_17
- Kasaei L., Melbourne T., Manichev V. et al. // AIP Adv. 2018. V. 8. P. 075020. https://doi.org/10.1063/1.5030751
- Fowley C., Diao Z., Faulkner C.C. et al. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2013. V. 46. P. 195501. https://doi.org/10.1088/0022-3727/46/19/195501
- Татарский Д.А., Гусев Н.С., Михайловский В.Ю. и др. // ЖТФ. 2019. Т. 89. С. 1674. https://doi.org/10.21883/JTF.2019.11.48327.135-19
- Sapozhnikov M.V., Vdovichev S.N., Ermolaeva O.L. et al. // Appl. Phys. Lett. 2016. V. 109. P. 042406. https://doi.org/10.1063/1.4958300
- Sapozhnikov M.V., Petrov Yu.V., Gusev N.S. et al. // Materials. 2020. V. 13. P. 99. https://doi.org/10.3390/ma13010099
- Samad F., Hlawacek G., Arekapudi S.S.P.K. et al. // Appl. Phys. Lett. 2021. V. 119. P. 022409. https://doi.org/10.1063/5.0049926
- Sapozhnikov M.V., Gusev N.S., Gusev S.A. et al. // Phys. Rev. B. 2021. V. 103. P. 054429. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.054429
- Kurian J., Joseph A., Cherifi-Hertel S. et al. // Appl. Phys. Lett. 2023. V. 122. 032402. https://doi.org/10.1063/5.0131188
- Röder F., Hlawacek G., Wintz S. et al. // Sci. Rep. 2015. V. 5. P. 16786. https://doi.org/10.1038/srep16786
- Nord M., Semisalova A., Kákay A. et al. // Small. 2019. V. 15. P. 1904738. https://doi.org/10.1002/smll.201904738
- Cansever H., Anwar Md.S., Stienen S. et al. // Sci. Rep. 2022. V. 12. P. 14809. https://doi.org/10.1038/s41598-022-15959-0
- Chen P., van Veldhoven E., Sanford C.A. et al. // Nanotechnology. 2010. V. 2. 455302. https://doi.org/10.1088/0957-4484/21/45/455302
- Alkemade P.F.A., Miro H. // Appl. Phys. A. 2014. V. 117. P. 1727. https://doi.org/10.1007/s00339-014-8763-y
- Shorubalko I., Pillatsch L., Utke I. // Helium Ion Microscopy / Ed. Hlawacek G., Gölzhäuser A. Springer, 2016. P. 355. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41990-9_15
- Córdoba R., Ibarra A., Mailly D. et al. // Beilstein J. Nanotechnol. 2020. V. 11. P. 1198. https://doi.org/10.3762/bjnano.11.104
- Joens M.S., Huynh C., Kasuboski J.M. et al. // Sci. Rep. 2013. V. 3. P. 3514. https://doi.org/10.1038/srep03514
Supplementary files