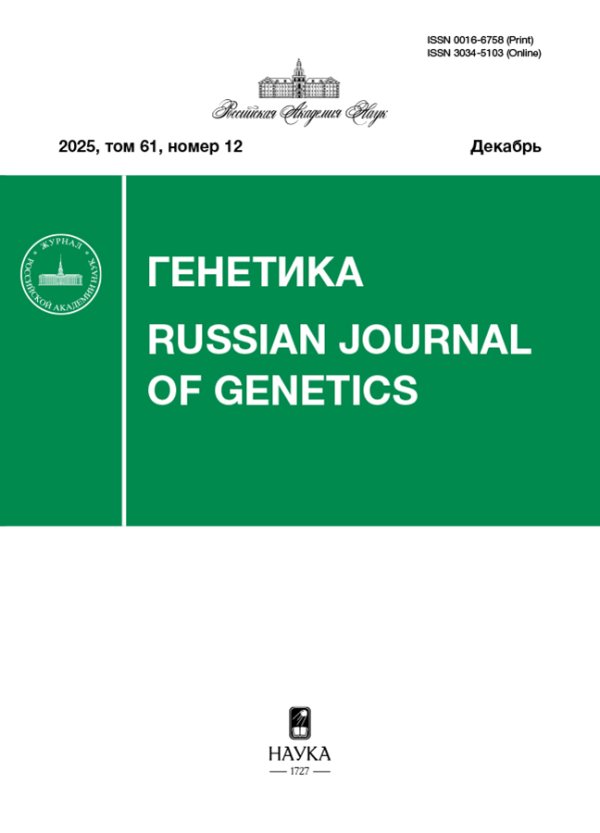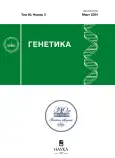Цитогеография полиплоидного комплекса Bassia prostrata s. l. (Chenopodiaceae) по данным анализа размера генома и PCR-RFLP хпДНК
- Авторы: Панкова Т.В.1, Ломоносова М.Н.1, Ваулин О.В.2, Королюк А.Ю.1, Королюк E.А.1, Шауло Д.Н.1, Осмонали Б.3
-
Учреждения:
- Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук
- Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук
- Институт ботаники и фитоинтродукции
- Выпуск: Том 60, № 3 (2024)
- Страницы: 13-26
- Раздел: ГЕНЕТИКА РАСТЕНИЙ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0016-6758/article/view/262289
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0016675824030025
- EDN: https://elibrary.ru/DPXHPA
- ID: 262289
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Методом проточной цитометрии (FCM) исследована цитогеография полиплоидного комплекса Bassia prostrata s. l. на материале из 39 природных популяций в Армении, Казахстане и России. На основе определения содержания ДНК в ядрах (2C-value) выявлено три цитотипа: диплоидный (2n = 18), тетраплоидный (2n = 36) и гексаплоидный (2n = 54). Верификация уровня плоидности, установленной по содержанию ДНК, проведена параллельным прямым подсчетом числа хромосом. Большинство изученных популяций представлены единственным цитотипом, в трех популяциях отмечена смешанная плоидность, когда наряду с диплоидами встречаются тетраплоиды или гексаплоиды. Выявлена генетическая обособленность хлоропластной ДНК диплоидного и полиплоидных цитотипов. Показаны предположительные варианты эволюционной связи цитотипов по спектрам рестрикции хпДНК.
Ключевые слова
Полный текст
Полиплоидия широко распространена среди покрытосеменных растений, является важным фактором видообразования [1–3]. Во многих группах растений существуют полиплоидные комплексы, состоящие из форм, чей статус может рассматриваться как видовой или подвидовой, отдельные цитотипы могут признаваться (или не признаваться) в качестве самостоятельных обособленных таксонов – эти вопросы являются предметом дискуссии на протяжении всего периода изучения полиплоидии [2, 4–6]. Объединение морфологически сходных цитотипов в один вид, без детального исследования, приводит в ряде случаев к искажениям в описании биоразнообразия, так как нередко не учитываются самостоятельные таксоны, которые реально существуют в природе. С другой стороны, наиболее критическим является предложение признавать в ранге вида каждый цитотип [2, 7]. Изучение изменчивости цитотипов и их распространения в природе является одной из важнейших задач при исследовании процессов полиплоидизации.
Bassia prostrata (L.) A.J. Scott (= Kochia prostrata (L.) Schrad.) – широко распространенный евразиатский вид, основной ареал которого простирается от северного Причерноморья, Кавказа, Малой, Средней и Центральной Азии. Изолированные участки имеются в Испании, Австрии, Чехии и Румынии [8]. В России этот вид распространен в степной зоне и на юге лесостепной зоны. Восточная граница ареала проходит через Восточную Сибирь (Забайкальский край) и Восточную Монголию. Обитает в различных экологических условиях на щебнистых, каменистых и глинистых почвах, на песках, солонцах, мелах, от низкогорий до высокогорий в степной, полупустынной и пустынной зонах с умеренным, континентальным или резко континентальным климатом.
B. prostrata морфологически очень полиморфный вид, в пределах которого были установлены многочисленные таксоны различного ранга, различающиеся по степени и характеру опушения побегов и листьев. Все внутривидовые таксоны были выделены в составе K. prostrata. Первые две разновидности установил C. Moquin-Tandon [9], а именно var. canescens Moq. с войлочно опушенными стеблями и сероватыми листьями и var. rubella Moq. с почти голыми стеблями, красноватыми ветвями и зеленоватыми листьями. Впоследствии авторы по степени опушения выделяли в пределах этого вида три основные морфологические группы, которые приводились как разновидности [10–12] или подвиды [13, 14]. Растения со слабым опушением указывались как var. virescens Fenzl, var. rubella Moq. или var. prostrata; растения с прижатым густым опушением относились к var. canescens Moq. или var. villoscana Bong. et C.A. Mey.; и растения с бело-мохнатым густым опушением указывались как var. villosissima Bong. et C.A. Mey. Л.П. Сергиевская [15] возвела наиболее опушенную разновидность в ранг вида K. villosissima (Bong. et C.A. Mey.) Serg. Позднее G. Kadereit и H. Freitag [16] выполнили комплексный молекулярно-филогенетический анализ биогеографии и филогении подсемейства Camphorosmeae, в том числе была сделана таксономическая ревизия рода Kochia s. l., большинство видов которого были отнесены к роду Bassia. Авторы использовали в анализе некоторые образцы B. prostrata s. l., в том числе материал по K. prostrata var. villosissima Bong. et C.A. Mey. и подтвердили мнение Сергиевской, что войлочно опушенные образцы следует относить к самостоятельному таксономическому виду, ими предложена новая комбинация – B. villosissima (Bong. et C.A. Mey.) Freitag et G. Kadereit.
Помимо значительной морфологической вариабельности по характеру опушения, B. prostrata s. l. характеризуется наличием нескольких цитотипов. Различные уровни плоидности у этого вида неоднократно отмечались в литературе. Так, диплоиды (2n = 2x = 18) были указаны из России (Республики Тыва [17, 18], Республики Алтай [19], Красноярского края [20], Волгоградской области [18]), а также из Монголии [21], Казахстана, Узбекистана [22] и Ирана [23]. Тетраплоиды (2n = 4x = 36) известны из Казахстана [22] и Китая [24]. Значительно реже были отмечены гексаплоиды (2n = 6x = 54), обнаруженные в Узбекистане [22], Пакистане [25] и Иране [23]. Эти данные были получены на исследовании единичных растений. В литературе имеются немногочисленные данные по определению уровня плоидности при измерениии размера генома методом проточной цитометрии этого вида, полученные на материале из Чехии [26], Республики Алтай и Новосибирской области [19]. Изучение детального географического распространения отдельных цитотипов, оценка их таксономического статуса и выявление возможных механизмов возникновения ранее не проводились.
Цитологическое изучение уровня плоидности методом прямого подсчета хромосом в стадии митоза – достаточно трудоемкий процесс, требует большой затраты времени и соблюдения ряда условий: наличие растительного материала в стадии плодоношения со всхожими семенами, фиксация корешков в природе, подбор условий для проращивания семян, учет особенностей предфиксационной обработки проростков, процесса подсчета. Определение размера генома методом проточной цитометрии (FCM) позволяет в короткий срок установить уровень плоидности у большого количества образцов в любой стадии вегетации, в том числе и на гербарном материале. Это позволяет выявить географическое и экологическое распространение цитотипов.
Цель исследования – установить экологические и биогеографические закономерности распространения отдельных цитотипов полиплоидного комплекса Bassia prostrata s. l.
Были поставлены задачи: 1) собрать репрезентативный материал в 39 популяциях в различных участках ареала B. prostrata s. l.; 2) определить содержание ДНК в ядрах (размер генома) в выборках из всех популяций; 3) выявить корреляцию между размером генома и уровнем плоидности, меж- и внутрипопуляционную изменчивость уровня плоидности; 4) подобрать фрагменты участков хлоропластной ДНК для метода рестрикционного анализа ПЦР-продукта у образцов разного уровня плоидности из разных популяций; 5) выявить гаплотипы, различающиеся по спектрам рестрикции, наличие внутрипопуляционного разнообразия; 6) установить паттерны рестрикции, соответствующие плоидности; 7) выявить закономерности экологического и географического распространения отдельных цитотипов, их морфологическую и генетическую обособленность; 8) дать таксономическую интерпретацию цитотипов в полиплоидном комплексе B. prostrata s. l. на основании анализа всех полученных результатов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Происхождение растительного материала
Материал для исследования был собран в природе в 39 популяциях из Армении, Казахстана и России в период с 2019 по 2021 гг. Местонахождение популяций и их номера, указанные в табл. 1, соответствуют использованным в тексте и на рисунках. Собранные растения были высушены по стандартной методике сушки гербарных образцов, ваучеры хранятся в Гербарии ЦСБС СО РАН (NS).
Таблица 1. Местонахождения, размер генома (GS) и уровень плоидности образцов Bassia prostratra s. l.
Номер популяции | Локалитет | Размер генома (2C, пг) | |||||
число исследованных образцов | уровень алоидности | mean ± SD | min– max | CV, % | стандарт | ||
1* | Russia, Republic of Buryatia, 52.11796°N, 109.1491°E, 30.07.2019, typical steppe, А. Кorolyuk 531 | 3 | ~ 2x | 2.83 ± 0.05 | 2.79–2.88 | 1.67 | Pt |
2 | Russia, Republic of Buryatia, 50.64362°N, 106.0111°E, 26.07.2019, А. Кorolyuk 509 | 6 | ~ 2x | 2.79 ± 0.07 | 2.70–2.89 | 2.47 | Pt |
3 | Russia, Republic of Buryatia, 51.5362°N, 107.3451°E, 6.08.2019, typical steppe, Е. & А. Кorolyuk s.n. | 5 | ~ 2x | 2.46 ± 0.05 | 2.41–2.52 | 1.89 | Ps |
4* | Russia, Republic of Buryatia, 51.7288°N, 107.4513°E, 6.08.2019, typical steppe, Е. & А. Кorolyuk s.n. | 5 | ~ 2x | 2.60 ± 0.02 | 2.58–2.62 | 0.61 | Ps |
5 | Russia, Irkutsk Region, 53.015617°N, 106.905641°E, 9.09.2020, stony steppe, V. Chepinoga 20-84 | 9 | ~ 2х | 2.44 ± 0.08 | 2.34–2.57 | 3.33 | Ps |
6 | Russia, Republic of Khakassia, 53.696667°N, 91.555833°E, 25.08.2020, sandy steppe, M. Lomonosova 1427 | 11 | ~ 4x | 4.56 ± 0.05 | 4.49–4.64 | 1.18 | Ps |
7* | Russia, Republic of Tuva, 51.627583°N, 94.435472°E, 22.08.2019, desert steppe, D. Shaulo 82 | 7 | ~ 2x | 2.82 ± 0.11 | 2.60–2.93 | 3.88 | Pt |
8 | Russia, Republic of Tuva, 52.041°N, 94.199361°E, 24.08.2019, typical steppe, D. Shaulo 97 | 7 | ~ 2x | 2.68 ± 0.06 | 2.56–2.75 | 2.33 | Pt |
9 | Russia, Republic of Altai, 50.00403°N, 88.23078°E, 8.09.2018, stony steppe, Е. & А. Кorolyuk 2 | 3 | 2x | 2.30 ± 0.08 | 2.21–2.35 | 3.40 | Pt |
10 | Russia, Krasnoyarsk Territory, 51.851361°N, 91.851611°E, 18.07.2020, stony steppe, D. Shaulo 37а | 7 | ~ 2х | 2.49 ± 0.09 | 2.42–2.65 | 3, 75 | Ps |
11 | Russia, Altai Territory, 55.555833°N, 81.375278°E, 2.08.2020, salted steppe Т. Аn’kova s.n. | 10 | ~ 4x | 4.43 ± 0.12 | 4.19–4.58 | 2.65 | Ps |
12* | Russia, Altai Territory, 52.733611°N, 79.873889°E, 10.09.2020, salted steppe, А. Grebenyuk 1530 | 10 | ~ 4х | 4.42 ± 0.12 | 4.24–4.63 | 2.81 | Ps |
13 | Russia, Novosibirsk Region, 53.62795°N, 77.93332°E, 26.09.2020, salted steppe, Е. Кorolyuk 15-20 | 4 | ~ 4x | 4.70 ± 0.06 | 4.64–4.78 | 1.35 | Ps |
14* | Russia, Novosibirsk Region, 54.26674°N, 82.45371°E, 2.09.2019, typical steppe, А. Кorolyuk 19-567 | 4 | ~ 2x | 2.59 ± 0.05 | 2.55–2.64 | 1.81 | Ps |
15 | Russia, Novosibirsk Region, 54.091458°N, 81.370428°E, 7.08.2019, stony slope, Т. Аn’kova s.n. | 11 | ~ 4x | 5.28 ± 0.19 | 4.87–5.61 | 4.46 | Sl |
16* | Kazakhstan, Almaty Region, 43.879917°N, 77.060389°E, 2.11.2019, sandy dunes, Т. Аn’kova 208 | 9 | ~ 4x | 5.01 ± 0.04 | 4.93–5.06 | 0.75 | Ps |
17* | Kazakhstan, Almaty Region, 43.718389°N, 77.037667°E, 2.11.2019, sandy dunes, Т. Аn’kova 205 | 18 | 4x | 4.90 ± 0.14 | 4.60–5.10 | 2.80 | Ps |
18* | Kazakhstan, Almaty Region, 43.334667°N, 75.880556°E, 3.11.2019, stony steppe, Т. Аn’kova 213 | 5 | ~ 2x | 2.66 ± 0.12 | 2.52–2.75 | 4.38 | Ps |
19* | Kazakhstan, Almaty Region, 43.297083°N, 76.230194°E, 3.11.2019, salted steppe, Т. Аn’kova 210 | 9 | ~ 2x | 2.49 ± 0.08 | 2.39–2.65 | 3.27 | Ps |
20 | Kazakhstan, Kyzylorda Region, 46.008333°N, 62.04944°E, 3.09.2019, sandy dunes, B. Osmonali et al. 932 | 6 | ~ 4x | 5.01 ± 0.05 | 4.94–5.08 | 1.04 | Ps |
21 | Kazakhstan, Kyzylorda Region, 46.035833°N, 62.226111°E, 6.09.2019, sandy dunes, B. Osmonali et al. 931 | 4 | ~ 4x | 5.16 ± 0.10 | 5.07–5.27 | 1.88 | Ps |
22 | Russia, Chelyabinsk Region, 52.100389°N, 60.000000°E, 26.09.2020, typical steppe, О. Кalmykova 366 | 10 | ~ 2x | 2.34 ± 0.06 | 2.27–2.46 | 2.56 | Ps |
23 | Russia, Orenburg Region, 51.280083°N, 60.011583°E, 26.09.2020, typical steppe, О. Кalmykova 360 | 7 | ~ 2x | 2.30 ± 0.03 | 2.27–2.34 | 1.14 | Ps |
24 | Russia, Orenburg Region, 50.813972°N, 60.922472°E, 23.09.2020, typical steppe, О. Кalmykova 356 | 9 | ~ 2x | 2.27 ± 0.06 | 2.17–2.37 | 2.84 | Ps |
25 | Russia, Orenburg Region, 51.081111°N, 57.787222°E, 8.10.2020, stony slope, Т. Аn’kova 221 | 15 | ~ 6x | 6.70 ± 0.10 | 6.57–6.85 | 1.54 | Ps |
26 mix | Russia, Orenburg Region, 51.4175°N, 57.14348°E, 7.10.2020, typical steppe, Т. Аn’kova 219 | 3 | ~ 6х | 6.98 ± 0.46 | 6.71–7.52 | 6.66 | Ps |
the same population | 9 | ~ 2x | 2.30 ± 0.03 | 2.25–2.33 | 1.12 | Ps | |
27 | Russia, Orenburg Region, 51.251389°N, 55.063333°E, 5.10.2020, sandy steppe, Т. Аn’kova 218 | 9 | ~ 6x | 6.73 ± 0.20 | 6.37–6.99 | 2.76 | Ps |
28 | Russia, Orenburg Region, 51.534444°N, 55.106944°E, 5.10.2020, typical steppe, Т. Аn’kova 216 | 15 | 2x | 2.27 ±0.04 | 2.20–2.34 | 1.69 | Ps |
29 | Russia, Republic of Dagestan, 41.50462°N, 48.08520°E, 18.05.2021, А. Кorolyuk s.n. | 6 | ~ 6x | 7.69 ± 0,26 | 7.19–7.87 | 3.33 | Pt |
30 | Russia, Republic of Dagestan, 42.27°N, 47.52°E, 10.10.2021, А.&E. Кorolyuk 119EK | 4 | ~ 6x | 7.03 ± 0.18 | 6.94–7.29 | 2.55 | Pt |
31 | Russia, Republic of Kalmykia, 46.95568°N, 44.47173°E, 29.05.2020, dry steppe, А. Кorolyuk 20-098 | 5 | ~ 6x | 7.85 ± 0.02 | 7.83–7.88 | 0.24 | Pt |
32 | Russia, Republic of Kalmykia, 51.61786°N, 58.62958°E, 22.05.2021, А. Кorolyuk 21-088 | 5 | ~ 4x | 4.49 ± 0.12 | 4.37–4.62 | 2.64 | Ps |
33 | Russia, Republic of Kalmykia, 46.39939°N, 44.01906°E, 27.05.2020, dry steppe, А. Кorolyuk 20-075 | 5 | ~ 4x | 4.57 ± 0.09 | 4.43–4.67 | 1.90 | Ps |
34* mix | Russia, Republic of Kalmykia, 47.24055°N, 44.33986°E, 31.05.2020, dry steppe, А. Кorolyuk 20-132 | 6 | ~ 4x | 4.68 ± 0.20 | 4.47–5.03 | 4.36 | Ps |
the same population | 4 | ~ 2x | 2.34 ± 0.11 | 2.22–2.49 | 4.81 | Ps | |
35* mix | Russia, Republic of Kalmykia, 46.15366°N, 44.30138°E, 25.05.2020, dry steppe, А. Кorolyuk 20-44 | 8 | ~ 6x | 6.54 ± 0.22 | 6.06–6.73 | 3.33 | Ps |
the same population | 4 | ~ 2x | 2.33 ± 0.09 | 2.20–2.41 | 3.86 | Ps | |
36* | Russia, Republic of Crymea, 44.502611°N, 33.596389°E, 26.10.2021, stony slope, T. Pankova 231 | 12 | 6x | 7.16 ± 0.14 | 6.85–7.32 | 1.96 | Pt |
37* | Armenia, Kotayk Province, 41.506111°N, 44.798889°E, 23.09.2019, stony slope, Е. Кorolyuk-10-19 | 5 | ~ 6x | 7.42 ± 0.26 | 6.97–7.52 | 3.46 | Ps |
38 | Armenia, Kotayk Province, 40.079167°N, 44.7302278°E, 21.09.2019, stony slope, Е. Кorolyuk 6-19 | 15 | ~ 6x | 7.04 ± 0.15 | 6.68–7.31 | 2.17 | Ps |
39* | Russia, Trans-Baikal Territory, State Nature Biosphere Reserve Daurskiy, 50.055833°N, 115.34°E, steppe, L. Saraeva s.n. | 10 | – | – | – | – | – |
Примечание. В первом столбце звездочкой отмечены популяции, исследованные методом рестрикционного анализа хпДНК, “mix” – популяции смешанной плоидности; в столбце “Локалитет” приведена сокращенная этикетка, курсивом выделены коллекторы и их гербарные номера при наличии. Знаком “~” – обозначен уровень плоидности, определенный только по размеру генома, жирным шрифтом обозначена плоидность, подтвержденная прямым подсчетом хромосом. CV – коэффициент вариации. Стандарты: Ps – Pisum sativum, Pt – Petroselinum crispum, Sl – Solanum lycopersicum.
Определение числа хромосом
Числа хромосом определяли методом прямого подсчета в корневой меристеме в стадии метафазы митоза. В чашках Петри со стерильным песком были пророщены семена растений из популяций: 9, 17, 28 и 36. Проростки длиной 1–2 см выдерживали в 0.2%-ном водном растворе колхицина в течение 2 ч при комнатной температуре и фиксировали в уксусно-кислом спирте (3 : 1). Корешки перед окрашиванием протравливали в течение 15 мин в 4%-ном водном растворе железоаммонийных квасцов, затем окрашивали ацетогематоксилином по Ю.А. Смирнову [27]. Давленые временные препараты просматривали на световом микроскопе Axioskop 40 и Axioscope A1 (×100) с использованием программного обеспечения AxioVision 4.8 и ZEN2012 (blue edition).
Анализ размера генома (цитогенетический анализ)
Содержание ядерной ДНК, или голоплоидный размер генома (2C) определяли методом проточной цитометрии у 309 образцов из 38 популяций, в каждой из которых анализировали от трех до 18 растений (табл. 1). Для исследования брали листовые пластинки из средней части побега. Анализ образцов из 35 популяций проводили на приборе Cy Flow Space (Sysmex Partec, Gorlitz, Германия) со штатным ПО CyFlow® Space с лазерным источником излучения 532 нм. Материал из четырех популяций (29, 30, 32, 36) был исследован на цитометре Partec CyFlow (Partec, GmbH) со штатным ПО CyView с лазерным источником излучения с длиной волны 532 нм.
Анализ каждого образца проводили в два этапа. На первом этапе подбирали параметры детекции флуоресценции и выявления положения пика образца на графике и отмечали канал флуоресценции образца. На втором этапе ядра стандарта и образца выделяли и окрашивали одновременно: листья образца и стандарта (0.5 × 0.5 см) измельчали с использованием острого лезвия в пластиковых чашках Петри в 500 мкл охлажденного буфера (0.1 M лимонной кислоты, 0.5% Triton), затем фильтровали через одноразовый фильтр CellTrics Partec 30 мкм (Sysmex Partec, Германия), и смешивали с 1500 мкл раствора для окрашивания, состоящего из Tris-MgCl2 буфера (0.4 M Tris-основание, 4 мM MgCl2×6Н2О) c PI (50 мкг/мл), РНКазой (50 мкг/мл) и β-меркаптоэтанолом (1 мкл/мл) [28, 29]. Для дальнейшей интерпретации данных использовали пики с не менее чем 1000 детектируемых частиц, при детекции 10000–15000 событий. Не менее трех образцов из каждой популяции анализировали три дня подряд, чтобы исключить погрешность прибора [30].
В качестве стандартов использовали свежие листья растений с известным содержанием ДНК: Solanum lycopersicum “Stupicke polni rane” 2С = 1.96 пг [31]; Pisum sativum “Ctirad” 2С = 9.09 пг [29] и Petroselinum crispum “Champion Moss Curled” 2C = 4.50 пг [32].
Голоплоидный размер генома (2С, в понимании J. Greilhuber) [33] рассчитывали по формуле:
2C образца = 2С стандарта × (средняя флуоресценция пика образца/средняя флуоресценция пика стандарта).
Полученные результаты обрабатывали при помощи ПО FloMax 2.9, Flowing Software 2.5.1 (создатель Perttu Terho) и Statistica 12 (StatSoft Inc.).
Примеры гистограмм интенсивности флуоресценции некоторых образцов B. prostrata из различных популяций показаны на рис. 1.
Рис. 1. Гистограммы интенсивности флуоресценции образцов B. prostratа разной плоидности. По оси абсцисс – значения относительной флуоресценции; по оси ординат – число ядер. 1, 2, – пики флуоресценции Bassia prostratea, Pt – пик флуоресценции стандарта Petroselinum crispum (2C = 4.50 пг), PS – пик флуоресценции стандарта Pisum sativum (2C = 9.09 пг); а – популяция № 7 (2x); б – популяция № 17 (4x); в – популяция № 38 (6x); г – популяция №26-смешанная (6x); д – популяция № 26-смешанная (2x); е – популяция № 34-смешанная (4x) . Индекс – соотношение значений размера генома (2С) образца и стандарта.
Молекулярно-генетический анализ
Молекулярно-генетическая изменчивость отдельных цитотипов B. prostrata s. l. была исследована методом рестрикционного анализа ПЦР-продукта (PCR-RFLP). Исследование популяций на распространение различных рестрикционных паттернов было проведено для 13 популяций заведомо удаленных друг от друга: из России (республик Калмыкия, Тыва и Бурятия, Новосибирской области, Алтайского и Забайкальского краев), Армении и Казахстана (табл. 1). Для всех образцов, кроме Забайкальского края, предварительно был определен уровень плоидности методом проточной цитометрии. Среди отобранных образцов были представлены шесть диплоидных популяций (1, 4, 7, 14, 18, 19), три тетраплоидные (12, 16, 17), две гексаплоидные (36, 37) и две популяции смешанной плоидности (34, 35).
Для анализа, по результатам предварительного секвенирования были отобраны относящиеся к хлоропластной ДНК фрагмент гена rbcL и межгеннные спейсеры pbsK-pbsL и trnD-trnT, имеющие полиморфные сайты рестрикции; состав и температуры отжига используемых праймеров приведены в табл. 2.
Таблица 2. Праймеры для рестрикционного анализа фрагментов хпДНК
Участок ДНК | Прямой праймер | Обратный праймер | Температура отжига |
Фрагмент гена rbcL | 5'-ATGTC-ACCAC-AAACA-GAAAC- 3' | 5'-TCGCA-TGTAC-CTGCA-GTAGC- 3' | 55°C |
Межгенный участок pbsK-pbsL | 5'-ACATC-KARTA-CKGGA-CCAAT-AA-3' | 5'-AACAC-CAGCT-TTRAA-TCCAA-3' | 49°C |
Межгенный участок trnD-trnT | ACCAA-TTGAA-CTACA-ATCCC | CTACC-ACTGA-GTTAA-AAGGG | 53°C |
Выделение ДНК выполняли по методике [34]. ПЦР проводили в смеси объемом 25 мкл, имеющей состав: 1×PCR-buffer (16 мM (NH4)2SO4, 67 мM Tris-HCl (pH 8.8 при 25°C), 0.1% Tween-20); 2 мМ MgCl2; 0.4 мМ каждого dNTP; 05 мкМ каждого праймера и 1 ед. Taq-полимеразы производства ИМКБ СО РАН.
Секвенирование проводили с использованием ресурсов ЦКП “Геномика” СО РАН (http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/sequest). Подбор ферментов рестрикции, различающих полиморфные варианты, осуществляли с помощью пакета программ in silico [35].
Рестрикцию проводили в реакционной смеси объемом 20 мкл, с рекомендованным производителем (Сибэнзим) буфером, 1 ед. фермента, и 2 мкл ПЦР-продукта на реакцию. Время реакции – не менее 3 ч. После чего продукты рестрикции отмывались спиртом от компонентов смеси и наносили на электрофорез в 1–2%-ном геле.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Кариологический и цитогенетический анализ
Соотношение размера генома с уровнем плоидности установлено (откалибровано) параллельным подсчетом хромосом и измерением размера генома у образцов из четырех популяций. В популяции 28 отмечены диплоиды (2n = 2x = 18; 2С = 2.27 пг), в популяциях 9 и 17 диплоиды (2n = 2x = 18; 2С = 2.30 пг) и тетраплоиды (2n = 4x = 36; 2С = 4.90 пг) соответственно. В популяции 36 выявлены гексаплоиды (2n = 6x = 54; 2С = 7.16 пг). Размер генома (2С, пг) был определен у 309 растений из 38 популяций (табл. 1). Для оценки различий по содержанию ДНК в ядрах был использован статистический анализ ANOVA. Все значения распределились в три группы, в каждую из которых попали, в том числе, образцы, изученные кариологически (рис. 2, 3), что свидетельствует о том, что образцы каждой группы являются различными цитотипами.
Рис. 2. Средние значения размера генома (GS, 2C) для изученных популяций B. prostrata. Неокрашенные отрезки соответствуют смешанным популяциям, номера популяций соответствуют табл. 1.
Рис. 3. Box-plot размера генома трех цитотипов B. prostratа (по Kruskal–Wallis). Границы прямоугольника определяют 1 и 3 квартили (25-й и 75-й процентили), горизонтальный отрезок внутри прямоугольника – медиана, вертикальный отрезок соответствует минимальному и максимальному значению.
Так, образцы 19 популяций с содержанием ДНК от 2.17 до 2.93 пг являются диплоидами, от 4.19 до 5.61 пг – тетраплоидами и от 6.06 до 7.88 пг – гексаплоидами. Минимальное среднее значение размера генома (2C = 2.27 пг) было выявлено в листьях диплоидных образцов из Оренбургской области (28), максимальное среднее (2C = 7.42 пг) – у гексаплоидных образцов из Армении (37). Среднее содержание ДНК у всех диплоидов составляло 2.47 пг, у тетраплоидов 4.78 пг и у гексаплоидов 7.03 пг (табл. 3).
Таблица 3. Статистические показатели значений размера генома (2С, пг) для всех изученных образцов B. prostrata по уровню плоидности
Плоидность | N | Среднее | Медиана | Мин | Макс | Станд. откл. | CV, % |
2x | 128 | 2.47 | 2.40 | 2.17 | 2.93 | 0.20 | 7.93 |
4x | 99 | 4.78 | 4.72 | 4.19 | 5.61 | 0.31 | 6.59 |
6x | 82 | 7.03 | 6.97 | 6.06 | 7.88 | 0.41 | 5.86 |
Примечание. N – число исследованных оббразцов.
Большинство исследованных популяций представлены одним цитотипом. Среди них диплоидный цитотип выявлен в 19 популяциях, тетраплоидный в 12 и гексаплоидный в 10 (табл. 1, рис. 2). Три популяции имели смешанный уровень плоидности: в популяции 35 из Республики Калмыкии совместно обитают диплоиды и гексаплоиды, в популяции 34 отмечены диплоиды и тетраплоиды (рис.1,е). В популяции 26 из Оренбургской области встречаются диплоиды (рис.1,д) и гексаплоиды (рис.1,г). Примечательно, что в обеих смешанных популяциях из Калмыкии преобладают образцы с полиплоидными цитотипами, тогда как в миксоплоидной популяции из Оренбургской области – большинство исследованных образцов являются диплоидами. Несколько цитотипов, обитающих симпатрически в одной популяции, могут быть фенологически разобщенными. Так, по данным М.И. Рубцова и соавт. [36] диплоидные образцы B. prostrata в условиях эксперимента зацветают через 77–92 дня со дня вегетации, тетраплоиды – через 94–102 дня и гексаплоиды вступают в фазу цветения через 113–119 дней. По нашим наблюдениям, растения изученных миксоплоидных популяций также находились в разной стадии вегетации. При этом полиплоиды опережали в развитии диплоидов.
Морфология цитотипов
Как было указано выше, Bassia prostrata s. l. отличается высокой морфологической изменчивостью. Для оценки различий между тремя цитотипами был проведен анализ десяти морфологических признаков (табл. 4). Было показано, что все диплоиды характеризуются меньшими размерами растений, слабым опушением стеблей и листьев, вальковатой формой листа и серовато-зеленой окраской. Такие растения при классификации данного таксона в составе рода Kochia относились к разновидностям var. rubella Moq., var. virescens Fenzl. или выделены в ранге подвида K. prostrata var. virescens Prat. Тетраплоиды представлены двумя морфотипами. Наиболее широко распространен морфотип I, характеризующийся более крупными размерами растений с сероватым или беловатым полуприжатым опушением листьев и стеблей. Этот морфотип обычно относился к K. prostrata var. canescens Moq. Тетраплоидный морфотип II хорошо отличается прежде всего густым бело-мохнато-волосистым опушением листьев и стеблей, более широкими листовыми пластинками и другими признаками. Такие растения были описаны как K. prostrata var. villosissima Bong. et C.A. Mey. B. villosissima (Bong. et C.A. Mey.) Freitag et G. Kadereit). Изученные нами гексаплоидные растения сходны по характеру опушения с тетраплоидными, относящимися к морфотипу I. Они отличаются главным образом более крупными размерами стеблей и листьев, что в целом соответствует общей закономерности, наблюдаемой у полиплоидов по сравнению с родственными диплоидами.
Таблица 4. Морфология исследованных цитотипов B. prostratа
Признаки | Диплоиды | Тетраплоиды (I) | Тетраплоиды (II) | Гексаплоиды |
var. prostrata | var. canescens | var. villosissima | var. canescens | |
Окраска растения | серовато-зеленая | сероватая | серая | сероватая |
Розетка прикорневых побегов | + | +, – | – | – |
Высота растения (см) | 30–35 (50) | (30) 35–70 | 50–70 | 60–90 |
Стебель, диаметр у основания, см | 1–1.2 (2) | 2–4 | 3–4 | 2–4 |
Стебель, опушение | слабое, коротко-курчаво-волосистое | плотно-курчаво-волосистое | густое, бело-мохнато-волосистое | коротко-прижато-волосистое |
Лист, форма | линейные, вальковатые | линейные, линейно-ланцетные | линейно-ланцетные, ланцетные | линейные, линейно-ланцетные |
Лист, длина (мм) | 10–13 (17) | 12–15 (20) | 11–15 | 25–30 |
Лист, ширина (мм) | 0.5–1 | (0.5) 1–1.5 | 1–1.75 (2) | 1.1–1.75 |
Лист, опушение | прижатое | полуприжатое, густое | бело-мохнато-волосистое | полуприжатое |
Лист, цвет | серовато-зеленые | серовато-беловатые | серовато-белые | сероватые |
По данным А.А. Бутник [37] шерстистоопушенные формы Bassia prostrata характеризуются крупноклеточным эпидермисом с утолщенной наружной стенкой и мощной склеренхимной обкладкой вокруг проводящих пучков по сравнению с этими признаками у слабоопушенных растений, что, по мнению автора, повышает способность выживания в засушливых условиях. Однако большинство доказательств, что полиплоидия повышает адаптивность, являются косвенными, так как прямые тесты трудно провести и они редки.
Молекулярно-генетическая изменчивость
На основе анализа 130 образцов из 13 популяций (табл. 1) было выявлено три гаплотипа, различающихся по спектрам рестрикции (табл. 5). В большинстве случаев внутрипопуляционное разнообразие отсутствовало, а паттерны рестрикции соответствовали плоидности (рис. 4). В миксоплоидных популяциях из Калмыкии часть образцов имела паттерны рестрикции, характерные для диплоидов, а другие образцы – паттерны рестрикции, характерные для тетраплоидов.
Таблица 5. Cпектры рестрикции некоторых фрагментов хпДНК B. prostrata
Пара участок ДНК + фермент | Выявляемые фракции ДНК, пн | ||
генотип 1 (диплоиды) | генотип 2 (гексаплоиды) | генотип 3 (тетраплоиды) | |
rbcL + Erh I | 750 | 750 | 300+450 |
pbsK + BstAC I | 300+250 | 550 | 550 |
DT + Bpu14 I | 800+200 | 800+200 | 1000 |
DT + Bsp4C I | 650+450 | 470+380+250 | 470+420+250 |
Примечание. Размер фрагментов ДНК приведен условно, в соответствии с возможностями электрофоретического разделения.
Рис. 4. Электрофореграммы рестрикции участков хлоропластной ДНК для образцов Bassia prostrata s. l. различной плоидности. 2х – диплоиды (популяция 14), 4x – тетраплоиды (популяция 18), 6x – гексаплоиды (популяция 38). Дорожка справа – маркер молекулярных масс 100 пн + 1.5 + 3 тпн.
В целом проведенный нами молекулярно-генетический анализ отдельных цитотипов показал генетическую обособленность диплоидов, тетраплоидов и гексаплоидов. При этом гексаплоиды, представленные в двух популяциях из Армении (37 и 38), по спектрам рестрикции хпДНК занимают промежуточное положение между ди- и тетраплоидами. Возникновение гексаплоидов у B. prostrata в результате слияния нередуцированных гамет диплоидов и тетраплоидов было отмечено Е.Ш. Шахановым [38] при изучении мейоза, в процессе которого образовывались 27 закрытых бивалентов. Однако в связи с ограничениями на рекомбинацию хпДНК, связанную с ее наследованием от одного из родительских растений, промежуточные спектры рестрикции не являются свидетельством многократного гибридогенного происхождения гексаплоидов B. prostrata. Полученным спектрам рестрикции соответствует формирование предковой формой нескольких гаплотипов, три из которых дали начало ныне живущим вариантам с различной плоидностью. Если же гексаплоиды являются гибридами, то такая гибридизация была по-видимому единичной, при этом формой, давшей начало хлоропластной ДНК, была форма, дающая нынешние спектры рестрикции гексаплоидов, вне зависимости от ее исходной плоидности. Предлагаемые эволюционные варианты связи плоидности и спектров рестрикции хпДНК представлены на рис. 5.
Рис. 5. Варианты эволюционной связи плоидности и спектров рестрикции участков хпДНК.
Однако для выявления конкретных путей становления данного полиплоидного комплекса необходимы более детальные генетические исследования.
Эколого-географическое распространение цитотипов
B. prostrata s. l. характеризуется широкой экологической амплитудой, произрастая как в условиях холодных высокогорий, так и в жарких пустынях на высотах от 200–300 до 3000 м над ур. моря. Диплоидые популяции встречаются в степных сообществах, часто каменистых, и приурочены преимущественно к равнинным и низкогорным местообитаниям. В среднем горном поясе отмечены на высотах от 750 до 2000 м. Тетраплоиды распространены в более засушливых условиях по сравнению с диплоидами и обитают на песках или в степных сообществах. Гексаплоиды приурочены к каменистым склонам, часто обитают на нарушенных местообитаниях. Изредка отмечены также в составе смешанных степных популяций совместно с диплоидами.
Согласно географическому распространению (рис. 6) в восточной, преимущественно горной части ареала B. prostrata от Алтая до Забайкальского края встречается только диплоидный цитотип. Западнее, на равнинах в степной и полупустынной зонах с более засушливым климатом, наряду с диплоидами часто встречаются тетраплоиды. Гексаплоидный цитотип, изредка отмеченный в центральной части ареала, преобладает в западной части изученного ареала в Армении и Дагестане. Высота над уровнем моря не влияет на распространение цитотипов.
Рис. 6. Географическое распространение цитотипов B. prostrata по данным размера генома. Серые значки – наши данные, белые – по литературным источникам; уровень плоидности: круг – 2x, треугольник – 4x, ромб – 6x, звезда – миксоплоидная популяция.
Проведен анализ распространения цитотипов бассии по основным климатическим факторам: среднегодовая температура, средняя температура января, средняя температура июля, сумма годовых осадков. Использованы данные сайта Climate-Data.org (https://ru.climate-data.org) для населенных пунктов наиболее близких к местонахождениям изученных 39, популяций и для 14 популяций с известным цитотипом по литературе [17–26]. Диплоиды распространены в районах со среднегодовой температурой от –5°C (Алтай) до 11.9°C (Иран), тетраплоиды встречаются в районах с диапазоном только положительных среднегодовых температур 2.6–11.6°C, а гексаплоиды ограничены в распространении среднегодовой температурой не ниже 4°C. Влияние других указанных выше климатических факторов на закономерности в распространении цитотипов B. prostrata не выявлено.
В целом наши данные согласуются с гипотезой, что для полиплоидов характерна лучшая приспособленность к аридным условиям по сравнению с родственными диплоидами [39–41].
По характеру субстрата для B. prostratа s. l. выделяют глинистый, песчаный и каменистый экотипы [42]. По нашим данным, диплоиды занимают более плотные глинистые субстраты, часто солонцовые, в степных сообществах; тетраплоиды обитают, как правило, на песчаных субстратах (пески, барханы); гексаплоиды встречаются на каменистых склонах часто антропогенно нарушенных.
Таксономическая интерпретация
Ранее было отмечено [43], что три разновидности Bassia prostrata характеризуются различным уровнем плоидности. Авторы приводят диплоидный цитотип как B. prostrata var. virescens (соответствует по нашим данным var. prostrata) тетраплоидный цитотип B. prostrata var villoscana (соответствует var. canescens по нашим данным) и гексаплоидный цитотип B. prostrata var. villosissima (табл. 4). Встатье было указано, что выделенные разнохромосомные формы могут являться отдельными видами, поскольку взаимного переопыления растений с разным уровнем плоидности не обнаружено.
Проведенный нами анализ показал, что три группы, выделенные по морфологическим признакам, не коррелируют с тремя группами, обособленными генетически. Соответствие отмечено только для диплоидов (var. prostrata), тогда как тетраплоиды по морфологическим признакам могут относиться как к var. canescens, так и var. villosissima. Гексаплоиды по морфологии сходны с var. canescens, а генетически совмещают признаки как диплоидов, так и тетраплоидов, что свидетельствует об их гибридогенном характере. Однако для более детальных выводов необходимо включить в молекулярно-генетический анализ большее число гексаплоидных образцов.
Таким образом, на основании полученных данных в пределах полиплоидного комплекса Bassia prostrata мы считаем целесообразным выделение внутри видовых таксонов в ранге разновидностей B. prostrata var prostrata, B. prostrata var. canescens Moq. и B. prostrata var villosissima Bong. et C.A. Mey.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 19-04-00546-a) и научной программы № АААА-А21-121011290024-5 Центрального сибирского ботанического сада СО РАН и научной программы № FWNR-2022-0015 ФИЦ Института цитологии и генетики СО РАН. Финансирование в части реактивов для проточной цитометрии некоторых образцов проведено при поддержке Минобрнауки России по договору № 075-15-2021-1056 от 28 сентября 2021 г. между БИН РАН и Минобрнауки РФ, также в рамках Соглашения № ЕП/29-10-21-4 от 29 октября 2021 г. между БИН РАН и ЦСБС СО РАН. При подготовке публикации использованы материалы биоресурсных научных коллекций ЦСБС СО РАН УНУ № 440537 (NS) и оборудование для микроскопического анализа ЦСБС СО РАН.
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с использованием в качестве объекта животных.
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием в качестве объекта людей.
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Об авторах
Т. В. Панкова
Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: ankova_tv@mail.ru
Россия, Новосибирск, 630090
М. Н. Ломоносова
Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук
Email: ankova_tv@mail.ru
Россия, Новосибирск, 630090
О. В. Ваулин
Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук
Email: ankova_tv@mail.ru
Россия, Новосибирск, 630090
А. Ю. Королюк
Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук
Email: ankova_tv@mail.ru
Россия, Новосибирск, 630090
E. А. Королюк
Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук
Email: ankova_tv@mail.ru
Россия, Новосибирск, 630090
Д. Н. Шауло
Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук
Email: ankova_tv@mail.ru
Россия, Новосибирск, 630090
Б. Осмонали
Институт ботаники и фитоинтродукции
Email: ankova_tv@mail.ru
Казахстан, Алматы, 050040
Список литературы
- Otto S.P. The evolutionary consequences of polyploidy // Cell. 2007. V. 131. I. 3. Р. 452–462. https://doi.org/10.1016/j.cell.2007.10.022
- Soltis D.E., Soltis P.S., Schemske D.W. et al. Autopolyploidy in angiosperms: Have we grossly underestimated the number of species? // Taxon. 2007. V. 56. I. 1. Р. 13–30.
- Jiao Y., Wickett N.J., Ayyampalayam S. et al. Ancestral polyploidy in seed plants and angiosperms // Nature. 2011. V. 473. Р. 97–100. https://doi.org/10.1038/nature09916
- Löve A. Taxonomical evaluation of polyploids // Caryologia. 1951. V. 3. I.3. Р. 263–284. https://doi.org/10.1080/00087114.1951.10797163
- Lewis W.H. Cytocatalytic evolution in plants // Bot. Rev. 1967. V. 33 I. 2. Р. 105–115.
- Grant V. Plant Speciation. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1971. 432 p.
- Шнеер В.С., Пунина Е.О., Родионов А.В. Внутривидовые различия в плоидности у покрытосеменных и их таксономическая интерпретация // Бот. жур. 2018. № 5. С. 555–585. https://doi.org/10.1134/S0006813618050010
- Бегучев П.П. Материалы к изучению ареала Kochia prostrata (L.) Schrad // Изень – Kochia prostrata (L.) Schrad.Ташкент: Фан, 1971. С. 10–16.
- Moquin-Tandon C.H.B.A. Chenopodearum monographica enumeratio. Parisiis: P.-J. Loss., 1840. P. 182. https://doi.org/10.5962/bhl.title.15484
- Bongard C., Meyer A. K. prostrata var. villosissima Bong. et C.A. Mey // Verz. Saisang-nor Pfl. St. Petersbourg: Mem. Acad. Sci., 1841. 67 p.
- Ильин М. Camphorosmeae Moq. // Флора СССР. Т. 6. M.:Л.: Изд-во Акад. наук, 1936. С. 116–134.
- Zhu G., Mosyakin S.L., Clemants S.E. Chenopodiaceae Vent. // Flora of China. V. 5. Beijing-St. Louis: Sci. Press, Missouri Botan. Garden Press, 2003. Р. 351–414.
- Пратов У. Вопросы внутривидовой систематики Kochia prostrata (L.) Schrad. // Изень. Ташкент: Фан, 1971. С. 3–5.
- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб.: Мир и семья, 1995. 990 с.
- Сергиевская Л.П. Kochia Roth Кохия // Флора Западной Сибири. 1964. Т. 12. Ч. 2. Томск: Изд-во Томского у-та, С. 3260–3261.
- Kadereit G., Freitag H. Molecular phylogeny of Camphorosmeae (Camphorosmoideae, Chenopodiaceae): Implications for biogeography, evolution of C4-photosynthesis and taxonomy // Taxon. 2011. V. 60. I. 1. P. 51–78. https://doi.org/10.1002/tax.601006open_in_new
- Ломоносова М.Н., Красников А.А. Числа хромосом некоторых представителей семейства Chenopodiaceae // Бот. жур. 1993. Т. 78. № 3. С. 158–159.
- Lomonosova M.N. Contribution to chromosome study in some vascular plants from Russia: Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Brassicaceae // Bot. Pacifica. 2018. V. 7. № 2. Р. 151–156. https://doi.org/10.17581/bp.2018.07201
- Lomonosova M.N., An’kova T.V., Voronkova M.S. et al. Ploidy level in the representatives of Chenopodiaceae from North Asia as revealed by genome size and chromosome numbers // Turczaninowia. 2020. V. 23. № 1. Р. 24–31. https://doi.org/10.258/turczaninowia23.1.3
- Степанов Н.В. Хромосомные числа некоторых таксонов высших растений флоры Красноярского края // Бот. жур. 1994. Т. 79. № 2. С. 135–139.
- Hanelt P. IOPB chromosome number reports XLII // Taxon. 1973. V. 22. I. 5–6. P. 647–654.
- Захарьева О.И., Сосков Ю.В. Хромосомные числа некоторых пустынных кормовых растений // Бюлл. ВИР. 1981. Вып. 108. С. 57–60.
- Ghaffari S.M., Balaei Z., Chatrenoor T., Akhani H. Cytology of SW Asian Chenopodiaceae: New data from Iran and a review of previous records and correlations with life forms and C4 photosynthesis // Plant Syst. Evol. 2015. V. 301. P. 501–521. https://doi.org/10.1007/s00606-014-1109-6
- Lomonosova M.N., Shaulo D.N., An’kova T.V. et al. IAPT/IOPB chromosome data // Taxon. 2014. V. 63. I. 6. P. E.16–E18. https://doi.org/10.12705/636.37
- Khatoon S. Polyploidy in the flora of Pakistan: An analytical study. PhD. Thesis. Karachi: Univ. Karachi, 1991.
- Šmarda P., Knápek O., Březinová A. et al. Genome sizes and genomic guanine+cytosine (GC) contents of the Czech vascular flora with new estimates for 1700 species // Preslia. 2019. V. 91. P. 117–142. https://doi.org/10.23855/preslia.2019.117
- Смирнов Ю.А. Ускоренный метод исследования соматических хромосом плодовых // Цитология. 1968. Т. 10. № 12. С. 1601–1602.
- Pfosser M., Amon A., Lelley T., Heberle-Bors E. Evaluation of sensitivity of flow cytometry in detecting aneuploidy in wheat using disomic and ditelosomic wheat-rye addition lines // Cytometry. 1995. V. 21. I. 4. P. 387–393. https://doi.org/10.1002/cyto.990210412
- Doležel J., Greilhuber J., Lucretti S. et al. Plant genome size estimation by flow cytometry: Inter-laboratory comparision // Ann. Botany. 1998. V. 82. Supp. A. P. 17–26. https://doi.org/10.1006/anbo.1998.0730
- Doležel J., Bartoš J. Plant DNA flow cytometry and estimation of nuclear genome size // Ann. of Botany. 2005. V. 95. I. 1. P. 99–110. https://doi.org/10.1093/aob/mci005
- Doležel J., Sgorbati S., Lucretti S. Comparison of three DNA fluorochromes for flow cytometric estimation of nuclear DNA content in plants // Physiol. Plantarum. 1992. V. 85. P. 625–631.
- Obermayer R., Leitch I.J., Hanson L., Bennett M.D. Nuclear DNA C-values in 30 species double the familial representation in pteridophytes // Ann. Botany. 2002. V. 90. P. 209–217. https://doi.org/10.1093/aob/mcf167
- Greilhuber J., Dolezel J., Lysàk M., Bennett M.D. The origin, evolution, and proposed stabilisation of the terms “genome size” and, C-value` to describe nuclear DNA contents // Ann. Botany. 2005. V. 95. P. 255–260. https://doi.org/10.1093/aob/mci019
- Kosterin O.E., Bogdanova V.S. Relationship of wild and cultivated forms of Pisum L. as inferred from an analysis of three markers, of plastid, mitochondrial and nuclear genomes // Genet. Res. Crop Evol. 2008. V. 55. P. 735–755. https://doi.org/10.1007/s10722-007-9281-y
- San Millán R.M., Martínez-Ballesteros I., Rementeria A. et al. Online exercise for the design and simulation of PCR and PCR-RFLP experiments // BMC Res. Notes. 2013. V. 6. https://doi.org/10.1186/1756-0500-6-513
- Рубцов М.И., Сагимбаев Р.Р., Шаханов Е.Ш. и др. Естественные полиплоиды изеня и терескена серого как исходный материал для селекции // Докл. ВАСХНИЛ. 1989. № 4. С. 15–17.
- Бутник А.А. Анатомические особенности строения листа различноопушенных форм Kochia prostrata (L.) Schrad. // Материалы по физиологии и экологии растений Средней Азии. Ташкент, 1966. С. 59–69.
- Шаханов Е.Ш. Полиплоидия и отдаленная гибридизация аридных кормовых культур: Автореф. дис. … докт. биол. наук. М: МСХА им. Тимирязева, 1991. 32 с.
- Hao G.Y., Lucero M.E., Sanderson S.C. et al. Polyploidy enhances the occupation of heterogeneous environments through hydraulic related trade-offs in Atriplex canescens (Chenopodiaceae) // New Phytol. 2013. V. 197. I. 3. Р. 970–978. https://doi.org/10.1111/nph.12051
- Levin D.A. The timetable for allopolyploidy in flowering plants // Ann. Botany. 2013. V. 112. Р. 1201–1208. https://doi.org/10.1093/aob/mct19 4
- Čentner M., Kúr P., Kolár F., Suda J. Climatic conditions and human activitis shape diploid-tetraploid coexistance of different spatial scales in the common weed Tripleurospermum inodorum (Asteraceae) // J. Biogeography. 2019. V. 46. Р. 1355–1366. https://doi.org/10.1111/jbi.13629
- Дзюбенко Н.И., Сосков Ю.Д. Генетические ресурсы кохии простертой – Kochia prostrata (L.) Schrad. СПб:ВИР, 2014. 336 с.
- Лиджиева Н.Ц., Джалсанова С.С. Цитогенетическое изучение Kochia prostrata (L.) Schrad. // XI съезд Русс. бот. общества. 2003. Т. 1. С. 306–307.
Дополнительные файлы