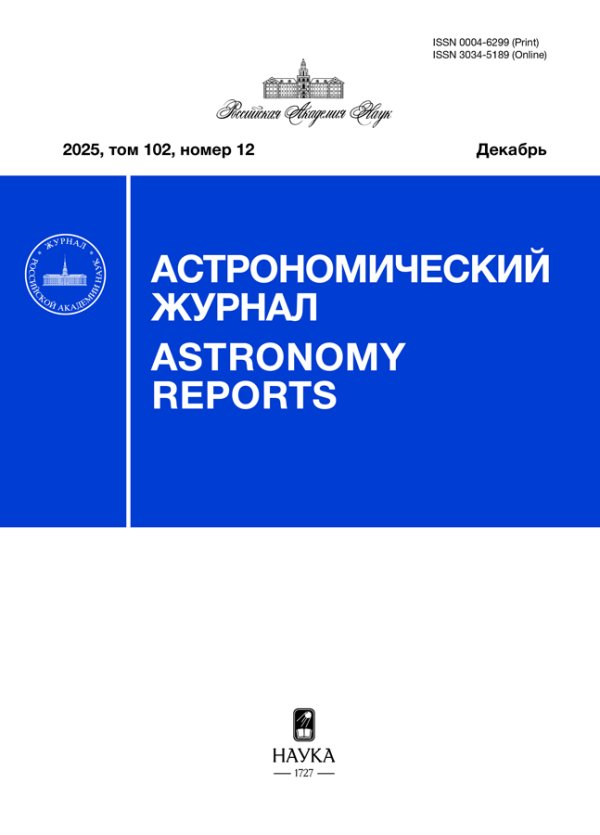Principles of the wave dark matter detection in gravitational redshift experiments in the Solar System
- Authors: Pilipenko S.V.1, Litvinov D.A.1, Zakhvatkin M.V.1,2, Filetkin A.I.1,3
-
Affiliations:
- P. N. Lebedev Physical Institute of the Russian academy of Sciences
- Keldysh Institute of Applied Mathematics
- Lomonosov Moscow State University, Sternberg Astronomical Institute
- Issue: Vol 101, No 3 (2024)
- Pages: 250-262
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0004-6299/article/view/264859
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0004629924030062
- EDN: https://elibrary.ru/KJSRRG
- ID: 264859
Cite item
Full Text
Abstract
We explore the possibility of using measurements of the gravitational redshift effect as a means to constrain wave dark matter – a class of models in which the dark matter is accounted for by light scalar particles that behave like classical waves. We construct a mathematical framework that is appropriate for clock comparison experiments with remote clocks and can be used to determine the values of the coupling constants of such dark matter with particles of the Standard Model. Using this framework, we consider an experiment to detect dark matter of the Galactic halo using two satellites equipped with accurate and stable atomic clocks and placed into elliptical heliocentric orbits. We demonstrate that, in most cases, the accuracy of this experiment turns out to be not better than that of ground-based experiments with colocated clocks. The limitation of theaccuracy of the space-based experiment is found to be due to the non-relativistic Doppler compensation system, required when using moving clocks, which decreases the amplitude of the useful signal. Possible solutions to this problem are discussed.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Одним из перспективных кандидатов на роль темной материи (ТМ) являются легкие скалярные частицы, описываемые действительным скалярным полем φ и обладающие длинами волн де Бройля, намного превышающими расстояние между частицами. Из-за очень больших чисел заполнения этот вид ТМ может быть описан с помощью волн классического поля φ, в силу чего такую ТМ часто называют волновой. Массы частиц для этого типа ТМ лежат в диапазоне от 10–24 эВ до 1 эВ. Волновая ТМ приводит к ряду интересных явлений, таких как бозонные звезды, колебания плотности и вихри ТМ (см., напр., обзор [1]). Поле φ может взаимодействовать с другими полями материи и колеблется с комптоновской частотой в диапазоне от 10–10 до 1014 Гц, что стимулирует проведение экспериментов по прямому детектированию этих колебаний. На константы связи был наложен ряд ограничений с помощью экспериментов с атомными часами на основании данных гравитационно–волновых детекторов, пульсарного тайминга, планетных эфемерид, тестов эйнштейновского принципа эквивалентности (ЭПЭ), экспериментов типа Этвеша и др. [2–11].
Новое поколение атомных часов с параметрами точности и стабильности 10–18–10–19 [12, 13] делает возможным проведение новых типов высокоточных экспериментов по обнаружению волновой ТМ. Одной из таких возможностей является наблюдение за относительной скоростью хода двух или нескольких атомных часов различных типов с целью поиска периодических модуляций их сигнала, вызванных колебаниями поля φ [2, 3, 14]. Было также предложено использовать сеть часов, расположенных на космических аппаратах, для обнаружения поля φ гало темной материи Галактики путем поиска его когерентных осцилляций на масштабах, превышающих диаметр Земли [15]. Такие сети часов можно использовать также для поиска топологических дефектов, таких как доменные стенки, состоящие из φ. Подобные поиски уже начаты с помощью данных бортовых часов спутников глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) [16]. Планируются специальные эксперименты такого типа с использованием более совершенных часов и сравнения скоростей хода как бортовых, так и наземных часов [17]. Далее было показано, что взаимодействие φ с полями материи может приводить к образованию гало φ не только вокруг галактик, но и вокруг тел звездных и планетарных размеров [18, 19]. Предложен эксперимент по исследованию гало Солнца с помощью двух часов разного типа на борту одного спутника [20]. Было выяснено, что для ряда типов взаимодействий имеет место эффект экранирования, из-за которого наземные эксперименты по детектированию φ с данными типами связей являются менее чувствительными, чем космические [18]. Наконец, отметим инициативу по детектированию ТМ из легких скалярных частиц с помощью близкой к атомным часам технологии атомных интерферометров, с размещением их на двух спутниках на средних околоземных орбитах [21].
В настоящей работе мы изучаем возможность исследования свойств образующего волновую ТМ скалярного поля φ с помощью пары спутников, оснащенных высокоточными и высокостабильными часами и обращающихся по эллиптическим орбитам вокруг Солнца. Взаимодействие φ с обычной материей приводит к тому, что колебания поля φ и его пространственная неоднородность изменяют значения фундаментальных констант природы в точках расположения часов. Это, в свою очередь, приводит к коррелированным изменениям частот генерируемых часами сигналов. Данные частоты могут быть сравнены с помощью радио- или оптических линий связи между спутниками. Наша задача состоит в оценке достижимой точности измерения констант связи φ с полями частиц Стандартной модели (СМ) с помощью данного типа эксперимента.
Предлагаемый нами эксперимент имеет сходство с предложенным в работе [15], где для поиска коррелированных сигналов, связанных с φ, была рассмотрена возможность использования сети удаленных друг от друга детекторов, в частности, атомных часов. Существенной особенностью схемы измерений [15] является то, что предполагается возможность автономной записи сигналов, связанных с φ, на каждом из узлов сети. В случае сети атомных часов это означает две возможности. Первая состоит в том, что в каждом узле сети должны находиться двое (или больше) часов различных типов, и в роли связанного с φ сигнала будет выступать разностный сигнал этих часов, как в исходном предложении данного типа экспериментов [14]. Вторая возможность состоит в использовании единственных часов в каждом узле сети и записи сигнала расстройки частот используемого в часах резонатора и атомного перехода. Обе эти возможности, очевидно, представляют собой эксперименты отличного от рассматриваемого нами типа. Первый относится к классу дифференциальных, или нуль-редшифт тестов, в которых измерению доступна лишь разность констант связи. Второй же представляет собой сравнение типа часы-резонатор, а не часы-часы.
Предлагаемая нами схема — один или несколько оснащенных часами спутников на эллиптических орбитах — используется или предлагается к использованию и в других типах гравитационных экспериментов, в частности, классических тестах по измерению эффекта гравитационного красного смещения, направленных на поиск нарушений ЭПЭ [22]. (Рассматриваемый нами эксперимент, очевидно, также является проверкой ЭПЭ.) Как осуществленные [23–26], так и большинство реализуемых и предложенных [27–31] экспериментов такого рода предполагают использование спутников на околоземных орбитах. Возможность проведения различного типа фундаментальных экспериментов на околосолнечных орбитах, позволяющих достичь более высокой точности измерений благодаря большей модуляции гравитационного потенциала, также рассматривалась [32–34]. Большинство этих экспериментов имеют совместимые друг с другом параметры орбит и требуют высокостабильных бортовых атомных часов. Поэтому проект с околосолнечными спутниками, который будет в итоге принят к реализации, по-видимому, будет направлен на решение нескольких фундаментальных задач. Мы рассматриваем нашу работу как шаг к разработке концепции такого проекта.
Статья организована следующим образом. В разделе 2 описана пространственно–временнáя структура поля φ и его взаимодействие с полями обычной материи СМ. В разделе 3 рассматривается влияние констант связи поля φ на наблюдаемый сдвиг частоты сигналов, которыми обмениваются спутники, а также обсуждается компенсация эффекта Доплера. В разделе 4 описана разработанная нами методика оценки точности эксперимента. В разделе 5 представлены результаты оценки точности предлагаемого эксперимента с двумя спутниками на околосолнечных орбитах. Здесь же для сравнения мы рассматриваем применение разработанной нами методологии к случаю эксперимента с двумя колоцированными часами на поверхности Земли. В разделе 6 подведены итоги исследования. В Приложении приведен вывод формулы, которую мы используем для оценки чувствительности детектирования одного нестационарного случайного сигнала на фоне нестационарного шума.
ВОЛНОВАЯ ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ
Волновая темная материя, составляющая гало Галактики, вдали от массивных тел ведет себя как осциллирующее классическое поле:
, (1)
где — комптоновская частота, смещенная за счет эффекта Доплера, связанного с движением наблюдателя со скоростью vobs, mφ — масса бозона, , φ0 — фаза, φ0 — амплитуда, экспоненциально распределенная около , ρ0 — равновесная плотность ТМ в месте нахождения наблюдателя [14, 15, 35, 36].
В настоящей работе мы используем Стандартную Модель Гало (SHM) [37], для которой распределение частиц ТМ по скоростям вблизи Солнца является обрезанным максвелловским. В настоящее время имеются более совершенные модели, например, SHM++ [38, 39], но для наших целей достаточно точности SHM, так как погрешности, присущие нашему анализу, например, связанные с нестабильностью часов, являются более значительными. Согласно SHM, локальная плотность ТМ составляет ρ0 = 0.3 ГэВ/см3, а круговая скорость в месте расположения Солнца — v0 = 220 км/с. Мы предполагаем, что скорость вращения гало ТМ мала по сравнению со скоростью вращения звезд. Также мы полагаем, что направление движения Солнца в эклиптических координатах составляет l = 347°, b = 60° (в направлении созвездия Лебедя).
Стохастические свойства поля φ описываются корреляционной функцией [15]:
, (2)
где
длина когерентности
, (3)
а время когерентности
. (4)
Множитель ξ = v/c ≈ 10–3 представляет собой вириальную скорость внутри гало.
Связь φ с полями обычной материи проявляется в том, что фундаментальные константы природы приобретают зависимость от амплитуды φ. Минимальный сценарий подразумевает связь скалярного поля с сектором квантовой электродинамики. Более общий сценарий включает также связь φ с сектором квантовой хромодинамики. Этот вид скалярного поля иногда называют дилатоном. В релаксионном сценарии скалярное поле взаимодействует с полем Хиггса, что индуцирует взаимодействия с другими полями. Последний сценарий, на наш взгляд, является менее общим, поскольку фиксирует соотношения между константами связей с различными полями [40]. В дальнейшем мы рассматриваем дилатонный сценарий, как наиболее общий.
Часть действия, описывающая поля материи и их взаимодействие с полем φ, выглядит следующим образом [18, 41]:
, (5)
где gμν — метрика пространства–времени, g — определитель gμν, — лагранжева плотность полей частиц СМ, Ψj — поля частиц СМ, описывает взаимодействие полей материи и скалярного поля φ. Мы будем рассматривать две модели — линейную и квадратичную относительно φ [18, 41, 42]. Обе они описываются следующим образом:
(6)
где Fμν — тензор напряженностей электромагнитного поля; μ0 — магнитная постоянная; — тензор напряжённостей глюонного поля; g3 — константа связи квантовой хромодинамики; b3 — бета-функция константы g3; mj — массы фермионов; e — электрон, u — u-кварк, d — d-кварк (более тяжелые кварки нет необходимости учитывать [43]); γmj — аномальная размерность, ψj — спиноры соответствующих фермионов; dj(i) — безразмерные константы связи поля φ с соответствующими полями материи; наконец, i обозначает вид связи: i = 1 — линейная, i = 2 — квадратичная.
Следствием лагранжиана (6) является то, что следующие пять фундаментальных констант природы приобретают зависимость от величины скалярного поля φ:
, (7)
, (8)
, (9)
где αEM — постоянная тонкой структуры; mj — массы фермионов e, u, d; Λ3 — параметр шкалы квантовой хромодинамики.
Для нашего анализа можно пренебречь различием масс u- и d-кварков [18]. В соответствии с этим мы определим их среднюю массу,
, (10)
и соответствующую ей константу связи:
. (11)
Тогда зависимость от поля φ будет иметь вид:
. (12)
Лагранжиан (6), описывающий взаимодействие материи с полем φ на микроскопическом уровне, приводит к соответствующей зависимости лагранжианов, описывающих материю на макроскопическом уровне. Например, действие для системы материальных точек приобретает вид
, (13)
где dτ — интервал собственного времени, , нумерует материальные точки. Функция зависит от элементного состава материальной точки и, таким образом, не является фундаментальной. Зависимость этой функции от дилатонного поля φ, определяемую взаимодействием φ с фундаментальными полями материи (7)–(9), удобно характеризовать с помощью константы связи
. (14)
В работах [41, 42] было получено, что является суммой двух величин,
, (15)
одна из которых, , является универсальной для всех веществ, а вторая, , зависит от элементного состава тела . Универсальная константа выражается через фундаментальные константы связи полей материи и поля φ следующим образом:
(16)
Константа имеет вид:
(17)
где коэффициенты зависят от состава тела и называются его дилатонными зарядами (штрихи обозначают, что эти коэффициенты являются приближенными значениями точных дилатонных зарядов [41]). Значения для некоторых веществ, используемых в конструкциях космических аппаратов, приведены в табл. 1.
Таблица 1. Дилатонные заряды для некоторых веществ, используемых в конструкциях космических аппаратов [18]
Вещество | [×10–3] | [×10–3] | [×10–5] |
Fe | 9.94 | 2.32 | 1.89 |
SiO2 | 13.70 | 1.26 | 0.027 |
Be | 17.64 | 0.45 | 3.05 |
Al | 12.30 | 1.47 | 1.00 |
Ti | 10.42 | 2.01 | 2.24 |
238U | 7.63 | 4.28 | 6.24 |
Cu | 9.63 | 2.46 | 2.18 |
Pb | 7.73 | 4.06 | 5.82 |
Частота некоторого атомного перехода , на котором функционируют данные атомные часы, зависит от значений фундаментальных констант природы. Возможные вариации последних приводят к вариациям , что обычно параметризуют следующим образом:
(18)
где μ = me /mp — отношение масс электрона и протона, ki — коэффициенты, определяющие чувствительность перехода к соответствующей комбинации фундаментальных констант, и снова предположено равенство масс легких кварков [18]. Значения данных коэффициентов для некоторых атомных переходов, полученные с помощью квантово-механических расчетов, приведены в табл. 2 [44].
Таблица 2. Коэффициенты чувствительности некоторых атомных переходов, используемых в современных атомных часах, к вариациям констант αEM, μ = me/mp и /Λ3
Переход | ka | km | kq |
87Rb | 2.34 | 1 | –0.019 |
133Cs | 2.83 | 1 | 0.002 |
1Hhfs | 2.0 | 1 | –0.100 |
1H(1S–2S) | ~0 | 0 | 0 |
171Yb+ | 1.0 | 0 | 0 |
199Hg+ | –2.94 | 0 | 0 |
87Sr | 0.06 | 0 | 0 |
27Al+ | 0.008 | 0 | 0 |
Примечание. Переходы между уровнями сверхтонкой структуры: 87Rb, 133Cs, 1Hhfs. Оптические переходы: 1H(1S–2S), 171Yb+, 199Hg+, 87Sr, 27Al+.
Подстановка (7)–(9) в (18) приводит к следующему выражению [18] для зависимости от φ:
, (19)
где константа связи,
(20)
является аналогом (17).
ГРАВИТАЦИОННОЕ СМЕЩЕНИЕ ЧАСТОТЫ
Предположим, что находящийся в точке (tB,xB) спутник с элементным составом, которому соответствует константа связи с дилатонным полем , посылает электромагнитный сигнал, синхронизированный по его бортовым часам, работающим на атомном переходе типа C. Другой спутник, который для простоты будем считать идентичным первому и оснащенным такими же часами, принимает данный сигнал в точке (tA,xA). Как показано в [45], смещение частоты n данного сигнала за счет гравитационного и дилатонного полей описывается формулой:
(21)
где U — наблюдаемое значение гравитационного потенциала в соответствующих точках (т. е. определенное по предшествующим наблюдениям за движениями небесных тел и космических аппаратов [45]); и — константы связи с полем φ, описанные в предыдущем разделе. Для удобства в дальнейшем обозначим:
. (22)
Важность величины γ(i) определяется тем, что с помощью (21) ее значение может быть определено экспериментально. Для этого требуется измерить фактическое смещение частоты сигнала Δν/ν, вычислить значения гравитационного потенциала U в точках A и B и воспользоваться формулами, описывающими корреляционные свойства поля φ. Подробности данной процедуры описаны в следующем разделе.
Отметим, что для экспериментов с часами, основанными на оптических переходах, которые в настоящее время достигли наибольшей точности и стабильности среди атомных часов, коэффициенты чувствительности km и kq равны 0 (см. табл. 2). При этом для часов, основанных на переходах иттербия и ртути, ka ~ 1. В то же время все дилатонные заряды для веществ, приведенных в табл. 1, имеют порядок 10–2. Если предположить, что все фундаментальные константы связи dj(i) поля φ с полями материи имеют один порядок, то на основании изложенного и уравнений (17) и (20) для данного типа часов можно положить:
, (23)
где ≈ 1. То есть эксперименты с данными типами оптических часов позволяют непосредственно измерять константу связи дилатонного поля φ с электромагнитным полем. Данный пример не является общим, однако, в дальнейшем мы воспользуемся им для сравнения полученных нами оценок достижимой точности измерения γ(i) с уже полученными в других экспериментах ограничениями на константы связи d(i) поля φ.
Практическая сложность реализации эксперимента, основанного на использовании (21), состоит в том, что, помимо приведенных в этой формуле слагаемых, имеется множество других эффектов, приводящих к изменению частоты передаваемого сигнала и имеющих различные порядки по v/c и ΔU/c2, где v — скорость спутников (см., напр., [46, 47]). Эффект первого порядка по c–1 (классический эффект Доплера) вносит наибольший вклад в сдвиг частоты, на много порядков превосходящий возможные эффекты от волновой ТМ, которые мы хотели бы измерить. Основной проблемой, однако, является не величина нерелятивистского эффекта Доплера, а доступная точность его оценки путем расчета на основе эфемерид космических аппаратов. На настоящий момент она позволяет рассчитывать вклад нерелятивистского эффекта Доплера с точностью до ~10–16 (см. обсуждение в работе [48]), что недостаточно для уже имеющихся — правда, пока лишь в наземном исполнении — образцов часов со стабильностью 10–18–10–19.
Решение данной проблемы возможно путем компенсации нерелятивистского эффекта Доплера с помощью дополнительного двухпутевого канала связи по схеме Gρavity Pρobe A [24, 49]. В данном режиме часы B в момент tB′ посылают сигнал в направлении часов A; данный сигнал принимается часами A в момент tA и когерентно ретранслируется назад в направлении часов B (двухпутевой сигнал, «2w»). Дополнительно к ретранслированному сигналу часы A посылают собственный (однопутевой, «1w») сигнал в направлении часов B. Оба сигнала, двух- и однопутевой, принимаются часами B в момент tB (tB > tA > tB'), см. рис. 1. Компенсация нерелятивистского эффекта Доплера достигается путем формирования следующей комбинации частот этих двух сигналов:
. (24)
Рис. 1. Конфигурация орбит двух спутников. Оба спутника движутся против часовой стрелки. Первый спутник показан в моменты времени отправки tB′ и приема сигнала tB (интервал времени между этими моментами многократно увеличен для наглядности). Второй спутник показан в момент ретрансляции принятого сигнала tA. Сплошными стрелками показан двухпутевой сигнал, штриховой стрелкой – однопутевой
Аналогом формулы (21) в данном режиме является
, (25)
где
. (26)
Именно с помощью последней формулы мы будем проводить оценку достижимой точности измерения γ(i).
В эксперименте с двумя космическими аппаратами в Солнечной системе схема компенсации (24) привносит два пространственных масштаба, на которых измеряется степень коррелированности поля φ: расстояние от A до B, имеющее для предлагаемой нами ниже конфигурации орбит порядок 1 а. е. и расстояние от B′ до B, имеющее порядок 30 000 км.
Имеется еще один источник гравитационного красного смещения частоты, связанный со скалярным полем: осцилляции гравитационного потенциала [50]. Данный эффект не зависит от констант связи скалярного поля, однако, по нашим оценкам, для расстояний между спутниками ~1 а. е. его величина имеет амплитуду Δν/ν < 10–24, которая слишком мала, чтобы быть обнаруженной с помощью имеющихся на сегодня часов.
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТА
Для получения оценки точности измерения параметра γ(i) мы используем метод максимального правдоподобия (ММП) по аналогии с [30]. Измеренные значения частоты d(t) = Δν/ν представляют собой смесь сигнала
и гауссового шума n(t): d(t) = γ(i)s(t) + n(t). Сигнал зависит от конфигурации эксперимента, т. е. выбора орбит спутников. В идеализированном случае, который мы будем рассматривать, единственным источником шума являются флуктуации скорости хода (частоты) часов. Природа этих флуктуаций такова, что шум является окрашенным, т. е. случайный процесс n(t) является нестационарным. В формулировке с дискретным временем процессу n(t) соответствует ковариационная матрица .
4.1. Конфигурация эксперимента
Мы предполагаем, что эксперимент осуществляется с помощью двух спутников на околосолнечных орбитах, плоскости которых совпадают с плоскостью эклиптики. Также мы полагаем, что орбиты являются кеплеровыми. Для экспериментов по измерению эффекта гравитационного замедления времени требуются орбиты с большим эксцентриситетом, так как они обеспечивают модуляцию измеряемого эффекта и тем самым позволяют избавиться от значительного количества систематических ошибок, в частности, постоянной расстройки частоты между часами. Поэтому для нашего случая мы также используем высокоэллиптические орбиты. В качестве примера мы взяли орбиты с перигелием 0.3 а. е. и большой полуосью 1 а. е. (эксцентриситет e = 0.7). Использование орбит с меньшими перигелиями представляется затруднительным из-за тепловых ограничений, а с более высокими афелиями приведет к увеличению периода обращения и более медленному накоплению модулированного сигнала. Для увеличения глубины модуляции мы выбрали параметры орбит таким образом, чтобы моменты прохождения одним спутником перигелия совпадали с моментами прохождения другим афелия. Для обеспечения непрерывной связи между спутниками мы выбрали ориентацию орбит так, что их перигелии находятся по разные стороны от Солнца, см. рис. 1. Таким образом, наш выбор орбит аналогичен тому, что был использован в работе [30], но для околосолнечного, а не околоземного случая. Это делает предлагаемый нами эксперимент полностью совместимым с классическим типом экспериментов по измерению гравитационного замедления времени, рассмотренным в [30]. Мы пренебрегаем возмущающим воздействием на орбиты спутников со стороны планет Солнечной системы. В частности, мы пренебрегаем колебаниями положения центра Солнца относительно барицентра Солнечной системы, так как влияние данного эффекта на форму сигнала от скалярного поля φ пренебрежимо мало.
Мы выбрали продолжительность эксперимента равной T = 10 лет. Предполагается, что измерения частоты выполняются с постоянным шагом Δt. В реальном эксперименте шаг сырых частотных измерений может составлять миллисекунды, однако, моделирование эксперимента продолжительностью 10 лет с таким шагом затруднительно и не является необходимым. Достаточно использовать шаг Δt, удовлетворяющий теореме Котельникова. Более подробно выбор Δt обсуждается далее.
В качестве примера часов мы используем лабораторные стронциевые часы JILA SρI [12], которые будем характеризовать с помощью спектральной плотности мощности (СПМ) шума флуктуаций относительной частоты следующего вида [30]:
. (27)
Данная СПМ содержит две компоненты: белый (ν0) и фликкер-шум (ν–1). Как и большинство других оптических часов, шум JILA SρI не содержит броуновской компоненты (ν–2). Кроме того, учитывая высокую абсолютную точность оптических часов, ~10–18 и выше [12, 13], мы пренебрегаем возможной постоянной расстройкой частоты между часами двух спутников. Учитывая скорость развития технологий создания атомных часов, в том числе в бортовом исполнении [51], мы полагаем, что в ближайшие 10 лет можно ожидать появления бортовых оптических часов с такими параметрами.
Ковариационная матрица шума , соответствующая (27), рассчитана нами, согласно [30], как сумма ковариационных матриц для белого и фликер-шумов:
, (28)
,
где δij — единичная матрица. Форма и статистические свойства сигнала различны для случаев линейной (i = 1) и квадратичной связи (i = 2), поэтому ниже мы их рассматриваем отдельно.
4.2. Сигнал: линейная связь
В настоящей работе мы ограничиваемся рассмотрением гало ТМ Галактики и не учитываем возможные вклады от гало, которые могут образовываться вокруг объектов звездных и планетарных масс [18]. В этом случае сигнал для линейной связи, согласно (26), имеет вид:
, (29)
где, выражение для φ(t, x) приведено в (1), а события A, B и B′ пояснены в разделе 3.
Так как масса поля mφ и фаза φ0 неизвестны, то точная форма сигнала (29) также неизвестна. Поэтому поиск сигнала в экспериментальных данных необходимо осуществлять для различных значений mφ и φ0. Подобный поиск удобно осуществлять в частотной области, так как в этом случае сигнал имеет определенную форму, сдвинутую на величину комптоновской частоты [15].
Амплитуда и фаза осциллирующего сигнала (29) представляют собой нестационарные случайные процессы. Нестационарность связана с тем, что сигнал зависит от координат спутников, из-за чего корреляционная функция сигнала зависит как от t, так и от t. В дискретном времени мы характеризуем сигнал ковариационной матрицей S.
В случае, когда сигнал является стационарным процессом, точность эксперимента может быть оценена с помощью формулы (15) из [15]. Однако для нестационарного процесса Фурье-преобразование ковариационной матрицы не является диагональным, поэтому данная формула, строго говоря, не может быть применена. В Приложении мы выводим обобщение формулы (15) из [15] для случая нестационарного сигнала1:
. (30)
Выражение для ковариационной матрицы может быть получено непосредственно с помощью определения (29). В качестве дискретных моментов времени ti, входящих в определение , мы выбираем дискретизированные с постоянным шагом моменты координатного времени приема спутником B одно- и двухпутевых сигналов (см. раздел 3), посланных спутником A: ti ≡ tBi. Моменты tBi′ и tAi соответствуют моментам посылки одно- и двухпутевых сигналов, которые принимаются спутником B в моменты tBi. Полагая
, (31)
где g определено в (2), мы получаем для линейной связи φ с полями материи:
(32)
4.3. Сигнал: квадратичная связь
В случае квадратичной связи сигнал, согласно (26), имеет вид:
. (33)
Так как случайное поле φ является гауссовым, то любая его N-точечная корреляционная функция выражается через 2-точечную, например:
. (34)
Тогда для ковариационной матрицы сигнала для случая квадратичной связи получаем:
(35)
Как и в линейном случае, для оценки точности эксперимента по измерению g(2) мы будем использовать (30).
4.4. Наземный эксперимент с колоцированными часами
Рассмотрим также применение разработанного нами выше формализма к эксперименту с наземными часами. Если часы находятся в одной лаборатории и основаны на одном типе квантового перехода, то, как легко видеть из (21), сигнал от поля φ отсутствует. Для получения ненулевого сигнала необходимо использовать различные типы часов. В этом случае получаем:
, (36)
где есть разность констант связи (20) для двух выбранных часов. Для увеличения амплитуды сигнала, очевидно, необходимо использовать часы со значительно различающимися коэффициентами чувствительности k (см. табл. 2), входящими в выражение (20). Для получения количественных оценок положим, что
, (37)
где γ(i) определяется по результатам эксперимента с двумя спутниками. Соотношение (37), например, удовлетворяется при сравнении в наземном эксперименте часов, основанных на переходах иттербия и алюминия (см. табл. 2).
Ковариационная матрица сигнала как для линейной, так и квадратичной связи в данном случае имеет простой вид:
, (38)
, (39)
где g(i, j) = g(ti – tj,0), g приведено в (2). В целях дополнительного упрощения расчетов мы также будем предполагать, что часы находятся в центре Земли.
4.5. Выбор шага дискретизации
Корреляционная функция (2) содержит осциллирующий во времени с комптоновской частотой множитель, причем частота осцилляций увеличивается с массой поля mφ. Таким образом, для получения корректных оценок и, в частности, при вычислении ковариационных матриц (32) и (35), шаг дискретизации Dt должен быть выбран меньше половины периода осцилляций. Для выбранного времени накопления T = 10 лет при большой массе поля это оказывается невозможным. Так, для mφ = 1 эВ период осцилляций составляет 4 · 10–15 с, а размер ковариационной матрицы получается 1022 × 1022 элементов. Такая матрица не поместится в памяти современных компьютеров, а вычисление обратной матрицы на лучшем современном суперкомпьютере по версии TOP5002 заняло бы 1030 возрастов Вселенной. Поэтому точная формула (30) может быть использована лишь для достаточно малых масс. Для выбранного нами ограничения в 8000 отсчетов это соответствует Δt ≥ 4 · 104 с и mφ ≤ 1.7 · 10–20 эВ.
Для диапазона масс mφ ≤ 1.7 · 10–20 эВ нами установлено следующее эмпирическое соотношение между корректной оценкой sg, вычисленной для интервала ΔtK, соответствующего теореме Котельникова, и , вычисленной для Δt > ΔtK:
. (40)
Соответственно, для диапазона масс mφ > 1.7 × × 10–20 эВ мы вычисляли σ′ для Δt = 4 · 104 с и затем корректировали его с помощью (40).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Наши основные результаты представлены на рис. 2, на котором изображены оценки точности измерения параметра γ(i), определенного в (22), для случаев линейной (i = 1) и квадратичной (i = 2) связи поля φ, отождествляемого с ТМ, с полями обычной материи. Для сравнения здесь же изображены оценки для эксперимента с двумя наземными колоцированными часами, основанными на различных квантовых переходах.
Рис. 2. Ограничения на константу связи γ(i) дилатонного поля φ, отождествляемого с ТМ. Слева — линейная связь (i = 1), справа — квадратичная (i = 1). Константа γ(i) определена согласно (22). Сплошная линия — эксперимент с двумя спутниками на околосолнечных орбитах, штриховая — эксперимент с двумя колоцированными часами на Земле (результаты данной работы). В последнем случае учтено экранирование, предсказанное в работе [18]. Закрашенная область — полученные ранее ограничения на γ(i) в экспериментах с атомными часами и тестах ЭПЭ. Сравнение с полученными ранее ограничениями сделано в предположении (23), с наземным экспериментом — в предположении (37)
Полученные результаты показывают, что для случая линейной связи в сделанных нами предположениях (23) и (37) эксперимент с часами на космических аппаратах для диапазона масс mφ 10–18 эВ достигает такой же точности измерения параметра γ(1), что и наземный эксперимент с двумя различными колоцированными часами. Для mφ 10–18 эВ наземный эксперимент оказывается более чувствительным, чем космический. Примерно такая же ситуация имеет место для случая константы связи квадратичного типа. Исключение состоит в том, что для случая достаточно больших масс возникает эффект экранирования [18] при γ(2) 4.8 · 108, в связи с чем наземные эксперименты перестают быть чувствительными к наличию скалярного поля φ для mφ 8 · 10–17 эВ (этому соответствует вертикальный участок штриховой кривой на рис. 2). Тем не менее уже существующие ограничения на γ(2), полученные в экспериментах по проверке ЭПЭ (цветная область), в большей части диапазона масс дают сравнимые или лучшие результаты, чем космический эксперимент.
Причина того, что космический эксперимент с часами не позволяет (в сделанных предположениях) достичь большей точности, чем наземные, заключается в необходимости использования схемы компенсации нерелятивистского эффекта Доплера (см. (24) и (25)). Действительно, выражение (25) представляет собой конечно-разностный аналог второй производной сигнала для шага ≈1000 с, соответствующего времени распространения сигнала между спутниками. Когда комптоновский период оказывается больше величины данного шага, операция взятия производной приводит к уменьшению амплитуды сигнала. Именно поэтому для mφ 10–18 эВ наземный эксперимент оказывается более чувствительным, чем космический.
Возможным решением данной проблемы может быть отказ от использования схемы компенсации (24). Активно развивающиеся в последнее время интерферометрические способы измерения радиальной скорости между космическими аппаратами уже достигли точности измерения 0.1 мкм/с, что соответствует точности измерения нерелятивистского эффекта Доплера 3.3 · 10–16 [53]. В ближайшее время ожидается улучшение данного показателя до 1.7 · 10–17 [54], что уже достаточно близко к необходимым ~10–18.
Тем не менее успешное детектирование сигнала от φ в космическом эксперименте является более достоверным, чем в эксперименте с различными часами в одной лаборатории. В последнем случае трудно исключить возможное наличие внешних факторов, не связанных с ТМ, и приводящих к периодическим модуляциям выходного сигнала часов. Преимуществом описанного нами эксперимента является также его высокая степень совместимости с другими космическими гравитационными экспериментами, а также наблюдениями по схеме РСДБ, для которых требуются высокостабильные часы и спутники на эллиптических орбитах [30, 55].
Наконец, в настоящей работе мы рассмотрели лишь возможность детектирования гало ТМ Галактики. Как отмечалось выше, как для линейного, так и квадратичного типа связи вокруг достаточно массивных планет и звезд может происходить конденсация поля φ с образованием локальных гало [18]. Исследование пространственной структуры таких гало невозможно с поверхности Земли и требует использования космических аппаратов на эллиптических орбитах. Получение возможных ограничений на константы связи φ с полями материи для этих случаев является предметом нашего дальнейшего исследования. Также мы планируем рассмотреть случай размещения на космических аппаратах часов различных, а не одинаковых типов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе мы рассмотрели возможность детектирования волновой ТМ в эксперименте с двумя космическими аппаратами, оснащенными высокоточными и высокостабильными часами и движущимися по эллиптическим околосолнечным орбитам. Существенной особенностью данного типа ТМ являются осцилляции поля φ частиц ТМ, которые описываются корреляционной функцией (2). Нами был разработан математический аппарат для оценки точности данного эксперимента (30), учитывающий особенности сравнения удаленных друг от друга часов с помощью радио (или оптических) линий связи. В предшествующих работах, исследовавших возможность детектирования волновой ТМ с помощью сетей из пространственно удаленных часов [15], предполагалось, что запись сигнала от ТМ в каждом узле сети происходит локально: путем сравнения двух колоцированных в каждом узле часов либо использования частоты отстройки атомного перехода часов и используемого в них резонатора.
Разработанный нами аппарат был применен к случаю двух спутников на околосолнечных эллиптических орбитах с высокостабильными часами. Точность данного эксперимента по детектированию гало волновой ТМ Галактики оказалась такой же или меньшей, чем у наземного эксперимента с двумя колоцированными часами различных типов. Данный результат связан с необходимостью использования в космическом эксперименте схемы компенсации нерелятивистского эффекта Доплера типа Gρavity Pρobe A [49], которая приводит к уменьшению амплитуды полезного сигнала.
Рассмотренный эксперимент совместим с другими космическими проектами, требующими высокостабильных часов на эллиптических орбитах вокруг Земли и Солнца [30, 48, 55], в связи с чем представляет интерес дальнейшее исследование его особенностей. В частности, интересно получение ограничений на константы связи поля φ при учете гало частиц ТМ, которые могут конденсироваться вокруг Солнца и Земли за счет взаимодействия φ с полями обычной материи [18].
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Проект выполнен при поддержке гранта РНФ 22-22-00861.
Приложение
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ
Рассмотрим набор данных {dk}, полученных в моменты времени {tk}, k = 1,..., N. Вектор d содержит сигнал s и шум n: dk = gsk + nk, где g — константа, подлежащая оценке. Мы полагаем, что сигнал и шум являются гауссовыми процессами с нулевым средним:
(41)
где и — ковариационные матрицы шума и сигнала соответственно. Тогда вектор данных d также является гауссовым:
, (42)
где и параметром модели является Г ≡ γ2.
Следуя [15], применим теорему Байеса:
, (43)
где p(Г) — априорное распределение, которое может быть взято равномерным для достаточно широкого интервала, а p(d) — константа нормировки.
В ММП апостериорное распределение:
, (44)
где и — ММП-оценки, C — константа, не зависящая от Г. Нашей целью является определить при условии → 0. Для этого мы решаем следующие уравнения:
, (45)
. (46)
Здесь мы выразили апостериорное распределение p(Г | d) через p(d | Г) с помощью (43).
Раскрывая (45), получаем:
. (47)
Дифференцируя , нетрудно получить, что
. (48)
С помощью известного правила дифференцирования определителя получаем также
. (49)
Используя уравнения (48) и (49), мы наконец получаем из (45):
(50)
Предполагая, что амплитуда сигнала Г мала, получаем
. (51)
Производя аналогичные выкладки с (46), получаем:
, (52)
. (53)
Приравнивая = 0, получаем итоговое выражение для оценки точности:
, (54)
из которого следует (30).
Формула (30) может быть использована и в частотной области (для этого надо лишь заменить операцию транспонирования на эрмитово сопряжение во всех выкладках, начиная с (41)). В случае стационарного сигнала ковариационная матрица в частотном пространстве является диагональной, что позволяет непосредственно получить из (30) формулу (15) из [15]. На первый взгляд может показаться, что между этими формулами есть различие на фактор 21/4. Легко заметить, однако, что в [15] суммирование производится лишь до N/2, так как данные являются действительными, в то время как в нашем уравнении (30) матричные операции подразумевают суммирование до N.
1 Подобная формула может быть получена также из более общих соотношений, приведенных в [52], однако для данной задачи наш вывод является более простым.
2 https://www.top500.org/lists/top500/2023/11/
About the authors
S. V. Pilipenko
P. N. Lebedev Physical Institute of the Russian academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: spilipenko@asc.rssi.ru
Russian Federation, Moscow
D. A. Litvinov
P. N. Lebedev Physical Institute of the Russian academy of Sciences
Email: spilipenko@asc.rssi.ru
Russian Federation, Moscow
M. V. Zakhvatkin
P. N. Lebedev Physical Institute of the Russian academy of Sciences; Keldysh Institute of Applied Mathematics
Email: spilipenko@asc.rssi.ru
Russian Federation, Moscow; Moscow
A. I. Filetkin
P. N. Lebedev Physical Institute of the Russian academy of Sciences; Lomonosov Moscow State University, Sternberg Astronomical Institute
Email: spilipenko@asc.rssi.ru
Russian Federation, Moscow; Moscow
References
- L. Hui, Ann. Rev. Astron. Astrophys. 59, 247 (2021), arXiv:2101.11735 [astro-ph.CO].
- K. Van Tilburg, N. Leefer, L. Bougas, and D. Budker, Phys. Rev. Letters 115, id. 011802 (2015), arXiv:1503.06886 [physics.atom-ph].
- A. Hees, J. Guéna, M. Abgrall, S. Bize, and P. Wolf, Phys. Rev. Letters 117(6), id. 061301 (2016), arXiv:1604.08514 [gr-qc].
- P. Wcisło, P. Ablewski, K. Beloy, S. Bilicki et al., Science Advances 4(12), id. eaau4869 (2018).
- C.J. Kennedy, E. Oelker, J.M. Robinson, T. Bothwell, et al., Phys. Rev. Letters 125(20), id. 201302 (2020), arXiv:2008.08773 [physics.atom-ph].
- S.M. Vermeulen, P. Relton, H. Grote, V. Raymond, et al., Nature 600(7889), 424 (2021), arXiv:2103.03783 [gr-qc].
- D.E. Kaplan, A. Mitridate, and T. Trickle, Phys. Rev. D 106(3), id. 035032 (2022).
- L. Bernus, O. Minazzoli, A. Fienga, A. Hees, M. Gastineau, J. Laskar, P. Deram, and A. Di Ruscio, Phys. Rev. D 105(4), id. 044057 (2022).
- S. Schlamminger, K.Y. Choi, T.A. Wagner, J.H. Gundlach, and E. G. Adelberger, Phys. Rev. Letters 100, id. 041101 (2008), arXiv:0712.0607 [gr-qc].
- T.A. Wagner, S. Schlamminger, J.H. Gundlach, and E.G. Adelberger, Classical and Quantum Gravity 29(18), id. 184002 (2012), arXiv:1207.2442 [gr-qc].
- J. Bergé, P. Brax, G. Métris, M. Pernot-Borrás, P. Touboul, and J.-P. Uzan, Phys. Rev. Letters 120(14), id. 141101 (2018), arXiv:1712.00483 [gr-qc].
- T. Bothwell, D. Kedar, E. Oelker, J.M. Robinson, S.L. Bromley, W. L. Tew, J. Ye, and C. J. Kennedy, Metrologia 56(6), id. 065004 (2019).
- K. Kim, A. Aeppli, T. Bothwell, and J. Ye, Phys. Rev. Letters 130(11), id. 113203 (2023).
- A. Arvanitaki, J. Huang, and K. Van Tilburg, Phys. Rev. D 91(1), id. 015015 (2015), arXiv:1405.2925 [hep-ph].
- A. Derevianko, Phys. Rev. A 97(4), id. 042506 (2018), arXiv:1605.09717 [physics.atom-ph].
- B.M. Roberts, G. Blewitt, C. Dailey, M. Murphy, et al., Nature Comm. 8, id. 1195 (2017), arXiv:1704.06844 [hep-ph].
- V. Schkolnik, D. Budker, O. Fartmann, V. Flambaum, et al., Quantum Sci. Technology 8(1), id. 014003 (2023), arXiv:2204.09611 [physics.atom-ph].
- A. Hees, O. Minazzoli, E. Savalle, Y.V. Stadnik, and P. Wolf, Phys. Rev. D 98(6), id. 064051 (2018), arXiv:1807.04512 [gr-qc].
- J. Veltmaat, B. Schwabe, and J.C. Niemeyer, Phys. Rev. D 101(8), id. 083518 (2020), arXiv:1911.09614 [astro-ph.CO].
- Y.-D. Tsai, J. Eby, and M.S. Safronova, Nature Astron. 7, 113 (2023), arXiv:2112.07674 [hep-ph].
- Y.A. El-Neaj, C. Alpigiani, S. Amairi- Pyka, H. Araújo, et al., EPJ Quantum Technology 7(1), id. 6 (2020).
- C.M. Will, Liv. Rev. Relativity 17(1), 4 (2014).
- R.F.C. Vessot, M.W. Levine, E.M. Mattison, E.L. Blomberg, Phys. Rev. Letters 45, 2081 (1980).
- D.A. Litvinov, V.N. Rudenko, A.V. Alakoz, U. Bach, et al., Phys. Letters A 382(33), 2192 (2018).
- P. Delva, N. Puchades, E. Schönemann, F. Dilssner, et al., Phys. Rev. Letters 121(23), id. 231101 (2018), arXiv:1812.03711 [gr-qc].
- S. Herrmann, F. Finke, M. Lülf, O. Kichakova, et al., Phys. Rev. Letters 121(23), id. 231102 (2018).
- P. Jetzer, Intern. J. Modern Physics D 26(5), 1741014 (2017).
- B. Altschul, Q.G. Bailey, L. Blanchet, K. Bongs, et al., Adv. Space Research 55(1), 501 (2015), arXiv:1404.4307 [gr-qc].
- M.P. Heß, L. Stringhetti, B. Hummelsberger, K. Hausner, et al., Acta Astronautica, 69, 929 (2011).
- D. Litvinov and S. Pilipenko, Classical and Quantum Gravity 38(13), id. 135010 (2021), arXiv:2108.09723 [gr-qc].
- A. Derevianko, K. Gibble, L. Hollberg, N.R. Newbury, C. Oates, M.S. Safronova, L.C. Sinclair, and N. Yu, Quantum Sci. Technology 7(4), id. 044002 (2022).
- J. Jaffe and R.F. Vessot, Phys. Rev. D 14(12), 3294 (1976).
- S. Turyshev, M. Shao, K. Nordtvedt, H. Dittus, et al., Exp. Astron. 27, 27 (2009).
- W.-T. Ni, Intern. J. Modern Physics D 17(7), 921 (2008).
- Y.V. Stadnik and V.V. Flambaum, Phys. Rev. Letters 115(20), id. 201301 (2015).
- G. P. Centers, J.W. Blanchard, J. Conrad, N.L. Figueroa, et al., Nature Comm. 12, id. 7321 (2021), arXiv:1905.13650 [astro-ph.CO].
- A.K. Drukier, K. Freese, and D.N. Spergel, Phys. Rev. D 33(12), 3495 (1986).
- N.W. Evans, C.A.J. O’Hare, and C. McCabe, Phys. Rev. D 99(2), id. 023012 (2019).
- C.A.J. O’Hare, N.W. Evans, C. McCabe, G. Myeong, and V. Belokurov, Phys. Rev. D 101, id. 023006 (2020).
- T. Flacke, C. Frugiuele, E. Fuchs, R.S. Gupta, and G. Perez, J. High Energy Phys. 2017(6), id. 50 (2017).
- T. Damour and J.F. Donoghue, Phys. Rev. D 82(8), id. 084033 (2010), arXiv:1007.2792 [gr-qc].
- T. Damour and J.F. Donoghue, Classical and Quantum Gravity 27(20), id. 202001 (2010).
- V. Dzuba and V. Flambaum, Phys. Rev. A 77(1), id. 012515 (2008).
- J. Guéna, M. Abgrall, D. Rovera, P. Rosenbusch, M.E. Tobar, P. Laurent, A. Clairon, and S. Bize, Phys. Rev. Letters 109(8), id. 080801 (2012), arXiv:1205.4235 [physics.atom-ph].
- A. Hees, O. Minazzoli, E. Savalle, Y. V. Stadnik, P. Wolf, and B. Roberts, arXiv:1905.08524 [gr-qc] (2019).
- N. Ashby, in Proc. of the 1998 IEEE Intern. Frequency Control Symp. (Cat. No.98CH36165), p. 320 (1998).
- L. Blanchet, C. Salomon, P. Teyssandier, and P. Wolf, Astron. and Astrophys. 370(1), 320 (2001).
- D. Litvinov, Astron. Letters 50(4), 55 (2024).
- R.F.C. Vessot and M.W. Levine, General Relativ. and Gravit. 10, 181 (1979).
- A. Khmelnitsky and V. Rubakov, J. Cosmology and Astroparticle Phys. 2014(2), id. 019 (2014), arXiv:1309.5888 [astro-ph.CO].
- L. Liu, D.-S. Lü, W.-B. Chen, T. Li, et al., Nature Comm. 9(1), 2760 (2018).
- H.L. van Trees, K.L. Bell, and Z. Tian, Detection, Estimation, and Modulation Theory. Part 1. Detection, Estimation, and Filtering Theory, 2nd ed. (New York, USA: Wiley, 2013).
- Z. Kang, S. Bettadpur, P. Nagel, H. Save, S. Poole, and N. Pie, J. Geodesy 94(9), id. 85 (2020).
- K. Abich, A. Abramovici, B. Amparan, A. Baatzsch, et al., Phys. Rev. Letters 123(3), id. 031101 (2019).
- P. Kurczynski, M.D. Johnson, S.S. Doeleman, K. Haworth, et al., in Space Telescopes and Instrumentation 2022: Optical, Infrared, and Millimeter Wave 12 180, 189 (2022).
Supplementary files