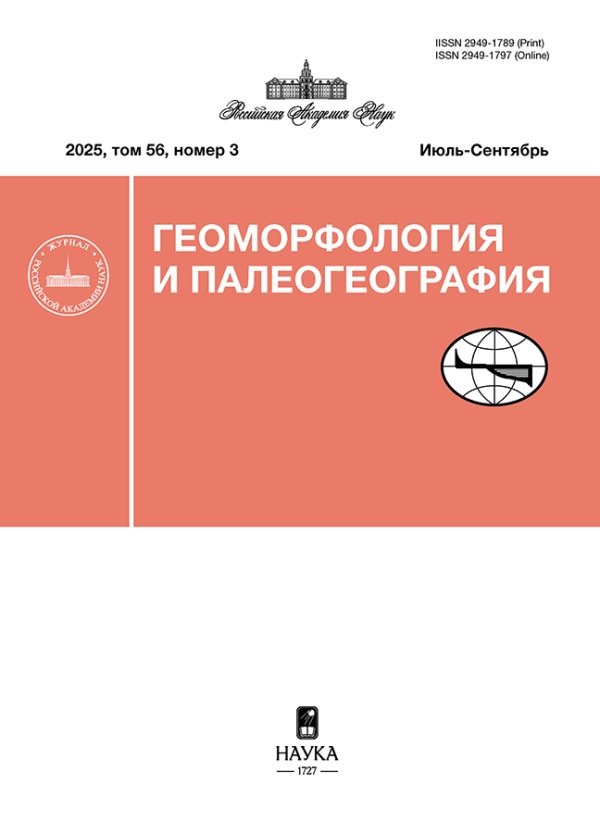Динамика клифов западного Крыма
- Авторы: Горячкин Ю.Н.1
-
Учреждения:
- Морской гидрофизический институт РАН
- Выпуск: Том 55, № 1 (2024)
- Страницы: 52-69
- Раздел: ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ
- URL: https://bakhtiniada.ru/2949-1789/article/view/257490
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949178924010058
- EDN: https://elibrary.ru/IQQMPY
- ID: 257490
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассмотрена многолетняя динамика клифов Западного Крыма. Анализируются спутниковые снимки открытого доступа и продолжительные (более 40 лет) данные измерений на створах. Приводятся данные о геоморфологии отдельных участков побережья. Показано, что на бóльшей его части основным механизмом, вызывающим отступание клифов, являются обвалы. Оползни характерны для побережья к югу от р. Кача, их подвижки сравнительно редки. Усиление обвальных процессов наблюдается в зимне-весенний период, когда значительно увеличивается влажность глинистых пород клифа и абразия. Обвалы могут также провоцироваться кратковременными сильными осадками, которые обычно наблюдаются в летний период. Однозначная связь между годовыми суммами осадков, штормовой деятельностью и активностью оползней синхронно или со сдвигом во времени не выражена. Какой-либо периодичности в динамике оползней не выявлено. Установлено, что характерные среднемноголетние скорости отступания бровки клифа для отдельных участков составляют от 0.1 до 1.2 м/год. В северной части побережья скорости максимальные, по мере продвижения к южной части региона они уменьшаются. Полученные среднемноголетние скорости отступания бровки клифа существенно меньше ранее приводимых в литературе. Отмечено сокращение поступления пляжеобразующего материала в береговую зону из-за уменьшения протяженности клифов. Из первоначально существовавших в рассматриваемом районе 50 км берегов с клифами из-за их закрытия различными сооружениями и террасирования к настоящему времени осталось 39 км. Обсуждается антропогенная деятельность, которая приводит к образованию техногенных оползней и увеличению активности природных оползней. Показано, что строительство поперечных пляжеудерживающих сооружений приводит к блокированию вдольберегового потока наносов и вызывает увеличение скорости отступания клифов за пределами закрепленного участка.
Ключевые слова
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Возможности Южного берега для рекреационного и хозяйственного развития Республики Крым практически исчерпаны, а Восточного существенно ограничены. Поэтому побережье Западного Крыма на сегодняшний день является наиболее крупной зоной развития и предметом повышенного внимания инвесторов. Существует целый ряд проектов (в том числе и реализуемых в настоящее время) строительства рекреационных объектов, набережных, яхтенных марин, восстановления причалов и т.п. (Горячкин, 2020). К сожалению, часто не учитываются результаты проведенных исследований процессов в береговой зоне, что приводит к приостановке работ и дополнительным расходам. К таковым относится динамика берегов, обусловленная как естественными причинами, так и последствиями антропогенного воздействия.
Первая наиболее обстоятельная сводка, в которой присутствуют количественные характеристики динамики берегов Западного Крыма, была приведена в работе Ю.Д. Шуйского (1974). В ней содержится карта, на которой для трех участков рассматриваемого побережья показана скорость абразии. Отмечается, что ранее приводились немногочисленные данные, основанные часто на ненадежных сведениях или приблизительных оценках (Зенкович, 1960; Зенкович, 1962; Романюк, 1967). Автором использовались данные стационарных береговых исследований, сравнительный анализ крупномасштабных карт и аэрофотоснимков, что позволило составить надежное представление о скоростях абразии. Позже вышел атлас, в котором приводилась карта средней скорости абразии и аккумуляции за 1960–1994 гг., где некоторые значения были пересмотрены (Шуйский, Выхованец, 1994; Шуйський, Вихованець, 2009). Недостатком этих работ является, на наш взгляд, отсутствие подробных данных о методике анализа карт и аэрофотоснимков, временной дискретности и периодов стационарных береговых исследований, что снижает ценность приводимых сведений.
Начиная с 70-х гг. ХХ в., ввиду очевидности значительного отступания береговой линии некоторыми организациями, например, “Крымморгеология”, “Противооползневое управление” были организованы наблюдения на створах, в том числе и в Западном Крыму. После распада СССР эти работы были прерваны, проводившие их организации или неоднократно меняли ведомственную принадлежность, или были ликвидированы, в результате чего часть материалов наблюдений и отметки реперов были утрачены.
Своеобразный итог исследований берегов Западного Крыма был подведен в работах Ю.Д. Шуйского (2005; 2007). В них абразия оценивалась по данным наблюдений (их период и дискретность не приведены) в течение летних практик студентов Одесского университета им. И.И. Мечникова. Другие сведения в основном качественного характера и, как правило, приводятся без привязки к конкретным участкам (Фокина, 2008; Игнатов, 2010; Агаркова-Лях, 2014; Иваненко, Сапронова, 2011; Игнатов и др., 2016).
В XXI в. в открытом доступе появились архивы спутниковых снимков высокого и сверхвысокого разрешения и возможности выполнить точную тахеометрическую и фотограмметрическую съемку с помощью спутникового позиционирования как наземными измерителями, так и беспилотными летательными аппаратами (Горячкин, Харитонова, 2010; Goryachkin, 2012; Горячкин, 2019; Горячкин и др., 2020; Крыленко и др., 2021). Вместе с тем полученные результаты во многом противоречивы, особенно в части приводимых абсолютных скоростей; почти ничего не говорится о временной изменчивости этих скоростей. Как правило, приводимые значения неоправданно относят к протяженным участкам побережья. В настоящей работе сделана попытка максимально ликвидировать эти пробелы, используя анализ ранее не использовавшихся данных. Целью работы является получение количественных характеристик отступания клифов Западного Крыма протяженностью 54 км: от возвышенности Красная горка на севере до м. Коса Северная на юге. Северная часть (28 км) административно относится к Республике Крым, а южная (26 км) к городу федерального значения — Севастополю (рис. 1).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использованы данные наблюдений на створах, выполнявшиеся в 1975–2020 гг. формально различными организациями, но реально ведущим инженером Морского гидрофизического института РАН А.П. Федоровым. Эти измерения выполнялись ежегодно, начиная с 70-х гг. ХХ в., преимущественно в осенний период с помощью ручной рулетки, которые ниже определяются как контактные данные. Кроме этого, нами использовались спутниковые снимки открытого доступа сервиса Google Earth с разрешением 0.61 м.
Использование снимков для определения положения бровки клифа без предварительной их обработки не корректно из-за их неточной привязки. Как показывает сравнение положения имеющихся ориентиров, для рассматриваемого региона ошибка достигает 10 м в период 2006–2022 г., на ранних снимках (2004–2005 гг.) — 30 м, что неприемлемо для наших целей. Поэтому снимки привязывались в пакете ArcGIS с помощью известных на местности ориентиров, после чего оцифровывалось положение кромки клифа.
Затем рассчитывалась утраченная за счет смещения бровки площадь клифа. Она делилась на длину участка, что давало скорость отступания клифа. На участках, где не было выраженных ориентиров, в сервисе Google Earth с помощью инструмента “многоугольник” рассчитывалась площадь между бровкой и местными дорогами. Разность площадей, деленная на длину участка, также давала скорость отступания клифа. Смещение бровки стенки срыва оползней рассчитывалось по наблюдениям на створах и осреднялось за промежутки времени. Кроме этого, использовались немецкие аэрофотоснимки 1942 г., космические снимки США 1966 г., панорамные съемки с квадрокоптера и геодезические съемки GPS-тахеометром с использованием режима RTK (Real Time Kinematic), выполненные в период 2010–2020 гг. Для дальнейшей обработки полученных данных применялось программное обеспечение Agisoft Metashape, позволяющее создавать высококачественные 3D-модели объектов и ортофотопланы на основе цифровых фотографий.
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ
Протяженность побережья с клифами до 60-х гг. прошлого века составляла около 50 км. Только на 4 км (7%) существовали аккумулятивные формы в виде пересыпи оз. Богайлы и песчаных пляжей полного профиля в устьях рек Альма, Кача и Бельбек.
Высота клифов относительно уровня моря составляет в основном от 8 до 25 м, в районе Берегового — до 32 м, между районами устьев рек Кача и Бельбек — до 50 м. От оз. Богайлы до Севастопольской бухты береговая линия имеет меридиональное простирание. В целом выровненный берег нарушается несколькими мысами: Керменчик, Тюбек, Лукулл, Маргопуло, а также безымянным мысом у пгт Николаевка. Линию клифа также нарушают устья рек Зап. Булганак, Альма, Кача и Бельбек, а также несколько крупных балок. Клиф сложен континентальными отложениями среднего и верхнего плиоцена, представленными желтовато-бурыми и красно-бурыми глинами с прослоями и линзами галечниковых конгломератов и песчаников. Наносов, кроме устьев рек, недостаточно для формирования широких пляжей и защиты берега от разрушения волнами, поэтому клифы активно отступают. Реки зарегулированы водохранилищами, построенными в основном в 60—80-х гг. ХХ в., в связи с чем объем приносимых ими твердых наносов резко сократился, что привело к сокращению пляжей (Горячкин, Долотов, 2019).
Вдоль кромки клифов ведется активная сельскохозяйственная деятельность: выращиваются виноград, зерновые, подсолнечник, овощи. Официальные зоны отдыха расположены в пгт Николаевка, с. Песчаное и с. Угловое, а также в Нахимовском районе Севастополя. Неофициально пляжи используются и на других участках. Часть пляжей пгт Николаевка и с. Песчаное закрыта, поскольку ранее построенные берегозащитные сооружения признаны аварийными. Они не только не выполнили свою роль, но и создали серьезную угрозу для отдыхающих (Горячкин, 2016).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для рассмотрения динамики побережье разделено на 10 участков с относительно однородными геолого-геоморфологическими условиями (рис. 1).
Рис. 1. Картосхема Западного Крыма (а), цифрами отмечены номера участков и типичные среднемноголетние значения отступания клифов, м/год (б), индексом А отмечены участки побережья, где клифы были террасированы.
Fig. 1. Schematic map of Western Crimea (а), the numerals indicate site numbers and typical long-term average annuals of the cliff retreat rate, m/year (б), index A indicates coastal sites with terraced cliffs.
Участок 1 (между оз. Кызыл-Яр и оз. Богайлы) имеет протяженность 2.6 км. Клиф высотой до 15 м сложен красно-бурыми глинами, вверху слой суглинков. По мере продвижения к югу в нижнем слое 1—6 м появляются горизонты (линзы) гравийно-галечниковых конгломератов, разрушение которых является источником пополнения обломочного материала на пляжах к северу от участка; встречаются также линзы песка. Ближе к оз. Богайлы в основании клифа становится больше волноприбойных ниш, их типичная ширина 5—7 м, высота 2—2.5 м, глубина 1—1.5 м. Углубление ниш приводит к обвальным процессам. Ступенчатая набережная, существовавшая на оконечности клифа у озера, разрушена, равно как эллинг и ангар.
C 1975 по 1992 г. наблюдения проводились на 19 створах, расстояние между ними 140 м; в качестве реперов использовались столбы линии электропередачи. За это время средняя скорость отступания клифа составила 1.1 м/год, максимальная — 2.2 м/год. Часть реперов в 90-е гг. ХХ в. была уничтожена, к 2020 г. остался только один репер, полученный на нем ряд приведен на рис. 2.
Рис. 2. Динамика кромки клифа на створе № 17 на участке между оз. Кызыл-Яр и оз. Богайлы.
Fig. 2. Cliff edge dynamics at Section 17 at the site between Kyzyl-Yar Lake and Bogaily Lake.
За 45 лет (1975—2020 гг.) клиф отступил на 52 м, со средней скоростью 1.2 м/год. Периоды с большими скоростями сменяются продолжительной стабилизацией, так как основной причиной отступания являются обвалы. Спутниковые данные показывают отступание со скоростью 0.8 м/год между 2005—2020 гг. (контактные данные в этот же период — 0.9 м/год), при этом близ оз. Кызыл-Яр — до 1.3 м/год (рис. 3). Геодезические измерения 2010—2014 гг. показали среднюю скорость 1.0 м/год. Потеря площади сельскохозяйственных земель с 1975 по 2020 гг. на этом участке — 12.5 га.
Участок 2 (между оз. Богайлы и пгт Николаевка) протяженностью 4.2 км. Представляет собой выровненный абразионно-обвальный берег без балок и с клифом высотой 8—12 м. Обрывы слагают желтовато-бурые алевриты и алевритистые глины, чередующиеся с тонкими слоями, окрашенными в красновато-бурый или ярко красный цвет. Имеются тонкие прослои песчаников, переходящие в мелкогалечниковые конгломераты, которые состоят из галек юрских известняков и других пород, вынесенных водотоками из горного Крыма. Протяженность песчано-галечниковых линз достигает нескольких десятков метров, а мощность — от одного до нескольких метров. Этот участок с 1960 г. является памятником природы, поскольку здесь неоднократно находили костные остатки ископаемой фауны плиоцена (мастодонты, гиппарионы, жирафы, носороги).
Наблюдения на трех створах проводились с 1999 г. по 2019 г. в южной части участка длиной 1.1 км, расстояние между ними около 300 м. Клиф отступил на 17 м со средней скоростью 0.85 м/год (максимум 1.0 м/год, минимум 0.54 м/год). По спутниковым данным между 2004 и 2016 гг. отступание составило 10.0 м (0.83 м/год), по контактным — 11.2 м (0.93 м/год). В 2019 г. бровка клифа была срезана и обвалована, в связи с чем наблюдения прекратились.
Примерно такая же скорость наблюдается и в северной части участка, за исключением берега, прилегающего к кооперативу “Якорь”, построенного путем врезки его в береговой обрыв и фиксации бетоном береговой линии. В результате по обе стороны от бетонного берега абразия продолжилась, образовался искусственный мыс, а волногасящий пляж исчез к северу от участка (вниз по преобладающему направлению вдольберегового потока наносов), что еще больше усилило абразию. С 2004 по 2014 гг. клиф отступил здесь на 15 м. Врезав сооружения в береговой обрыв и зафиксировав бетоном береговую линию, не учли отступание берега. В результате этого строительства в береговой зоне возникли серьезные проблемы с эксплуатацией зоны отдыха.
Рис. 3. Берег в районе возвышенности Красная Горка: на пляже видна обсадная труба скважины, пробуренной в 1977 г. на плато в 27 м от бровки клифа (фото Ю.Н. Горячкина, 2019 г.).
Fig. 3. Coast in the Krasnaya Gorka Upland area: on the beach, the casing of a well can be seen, which was drilled in 1977 on the plateau 27 meters from the cliff edge (Photo by Yu.N. Goryachkin, 2019).
Участок 3 (пгт Николаевка) протяженностью 4 км. Изначально глинистый клиф имел высоту 3—8 м, а в его основании повсеместно фиксировались конгломераты. Во время штормов они размывались и подпитывали пляжи галькой, гравием и песком. С началом освоения этой курортной зоны в 70-х гг. ХХ в. в непосредственной близости от бровки были построены рекреационные объекты. В это время усилилась абразия из-за резкого сокращения пляжей, связанного с уменьшением твердого стока р. Альма. В последующие годы берегозащита осуществлялась точечно и без общей стратегии. В 2006—2008 гг. на южном участке было построено шесть поперечных бун с целью защиты уцелевших к этому времени набережных и создания искусственных пляжей в межбунных отсеках. Реализация проекта вызвала существенную перестройку литодинамических процессов. Сравнение спутниковых снимков показывает: к югу от бун пляжи увеличились, а к северу уменьшились, что неудивительно, поскольку аккумуляция пляжеобразующего материала на примыкающем с юга участке береговой зоны и частичное заполнение межбуновых отсеков произошли в результате блокировки части вдольберегового потока наносов, направленного на север (Горячкин, Долотов, 2019). В результате строительства бун началась стремительная деградация пляжей, деформация и разрушение берегозащитных сооружений к северу от них. В настоящее время бетонными укреплениями закрыто до 90% клифа, и в естественном состоянии остались только его фрагменты (Горячкин, 2016). В 2015 г. из-за разрушения конструкций 30% курортной зоны были признаны аварийными и закрыты для посещения. В настоящее время разрабатываются проекты восстановления всей пляжной полосы.
Участок 4 (от пгт Николаевка до с. Береговое) протяженностью 3.5 км. Клиф высотой до 25 м сложен коричневыми суглинками с прослоями и линзами галечника и песчаника. В 80-х гг. ХХ в. на южной окраине пгт Николаевка галечник разрабатывался для строительных нужд, здесь клиф на протяжении 300 м был срезан. Подножье клифа кое-где увлажнено, в этих местах находятся очаги растительности — признак выхода подземных вод. Для участка типичны обвальные явления. Отступание бровки клифа по спутниковым данным в период 2004—2020 гг. составило в среднем 0.5 м/год, наибольшее отступание отмечается в южной части. По данным одного створа, находившегося в этой части, средняя скорость в 1978—2020 гг. составила 0.6 м/год.
У с. Береговое в 1985 г. в процессе строительства пансионата и подготовки к строительству берегозащиты склон был выположен и террасирован на протяжении 250 м. Была построена ступенчатая набережная, которая покрывала только короткий отрезок береговой зоны в месте понижения клифа к речной долине. Довольно быстро пляж перед ней исчез, и набережная начала разрушаться; ремонтные работы не дали результата. Использование этого участка в рекреационных целях было запрещено. В 2013 г. набережная была разобрана, и начато строительство новой бетонной с бунами, которое полностью закончилось только в 2021 г. Буны, две из которых были построены уже в 2013 г., перехватывали поток наносов, в результате чего пляж на юге стал выдвигаться, а на севере, соответственно, уменьшаться, а клиф — интенсивно разрушаться (рис. 4). Здесь на протяжении около 500 м средняя скорость отступания по спутниковым данным за 2005—2020 гг. составила 1.6 м/год. Определить конкретную скорость после возведения бун не представляется возможным из-за отсутствия в этот период спутниковых снимков.
Рис. 4. Спутниковые снимки района набережной с. Берегового: (а) — октябрь 2004 г., (б) — май 2021 г.
Fig. 4. Satellite imagery of the seafront area in the village of Beregovoe: (а) — October 2004, (б) — May 2021.
Участок 5 (от с. Береговое до с. Песчаное) протяженностью 7.3 км. Берег представлен клифами высотой до 27 м, сложенными преимущественно желтовато- и красновато-бурыми глинами с линзами мелкогалечниковых конгломератов. Типичны интенсивные обвально-оползневые процессы, особенно на севере, где крупные оползневые цирки имеют ступенчатое строение и создают характерные зубчатые изгибы стенки отрыва оползня. В южном направлении клиф понижается, берег выравнивается, мощность слоя конгломератов с галькой увеличивается. В основании повсюду отмечаются волноприбойные ниши, в верхней части клифа — блоки отседания. Кое-где просачиваются грунтовые воды, что сопровождается появлением растительности и активизацией обвалов. С 1974 г. наблюдения проводились на 5 створах, а с 1978 г. — на 22 створах. В 2015 г. линия электропередач, столбы которой служили реперами, была демонтирована. Средняя скорость отступания бровки клифа за 1974—2014 гг. составила по всем реперам 0.37 м/год, всего за этот период 15 м (в зависимости от створа 6—23 м). В среднем по 4-летним периодам отступание составляет от 0.16 м/год (1986—1990 гг.) до 0.58 м/год (1982—1986 гг.), а максимальное — от 1.3 м (1986—1990 гг.) до 7.0 м (2010—2014 гг.). Соответствующая гистограмма показана на рис. 5.
По спутниковым данным скорость отступания в период 2004—2020 г. — 0.7 м/год. Южную половину участка занимает курортная зона. Ранее берег здесь был представлен невысоким (до 5 м) клифом с широкими песчаными пляжами. После зарегулирования р. Альмы пляжи начали сокращаться, а клиф стал интенсивно отступать. С тех пор здесь проводились неудачные берегозащитные мероприятия, включая строительство 14 бун, в результате которых на протяжении 3.7 км клиф сейчас блокирован бетонными сооружениями, местами полностью разрушенными (Горячкин, 2016).
Рис. 5. Межгодовая изменчивость скорости отступания бровки клифа на участке № 5.
Fig. 5. Interannual variability of the cliff edge retreat rate at Site 5.
Участок 6 (от с. Песчаного до с. Андреевка) протяженностью 6.5 км. За Песчаным берег делает два изгиба, на которых расположены мысы Керменчик и Лукулл. Высота клифа повышается до 35 м, мощность конгломерата и линз песка, обнажающихся в клифе, резко возрастает и содержит от 2 до 5 слоев общей мощностью до 10—15 м. Местами эти слои выклиниваются, и появляются песчаники, обваливающиеся на пляж крупными блоками. Между слоями конгломератов залегают бурые глины, а вся толща перекрыта 2-метровым слоем желтого лёссовидного суглинка. У подножья клифа и на подводном береговом склоне — скопления глыб конгломератов. За м. Лукулл береговая линия поворачивает на юг, высота обрывов снижается до 20 м. Клиф сложен слоями желтовато-бурых глин, перемежающихся линзами мергеля и песчаника. Характерной чертой берега к югу от м. Лукулл является отсутствие овражной эрозии. Бровки клифов прямолинейны, исключением является искусственно срезанный клиф у с. Андреевка.
Проанализировав большое количество архивных фотографий, начиная с 1904 гг. по настоящее время, можно утверждать, что м. Керменчик отступил примерно на 70 м (0.6 м/год). На участке от м. Керменчик до м. Лукулл использовались спутниковые данные, показавшие, что в период 2004—2020 гг. средняя скорость отступания бровки клифа составила 0.12 м/год. Это относительно небольшая величина связана как с наличием на урезе и пляже глыб конгломератов, так и с экспозицией берега, закрытого от наиболее сильных штормов западного и юго-западного направлений.
К югу от м. Лукулл наблюдения на 14 створах проводились с 1977 г., расстояние между створами составляло от 60 до 190 м. В южной части участка, примыкающего к с. Андреевка, скорости отступания бровки клифа больше, чем в северной, примыкающей к м. Лукулл. В первом случае они составили за весь период в среднем по 11 створам 0.27 м/год, а средняя величина отступания за период измерений — около 10 м. В северной части участка скорости были существенно меньше, средняя скорость здесь составила 0.13 м/год, что связано с наличием на дне и урезе глыб конгломератов. Средняя скорость, определенная по космическим снимкам, составила 0.14 м/год. Скорости, осредненные для различных периодов, изменялись от 0.14 м/год (1982—1989 гг.) до 0.38 м/год (2004—2009 гг.), т. е. различались в 2.7 раза.
Отдельно нужно отметить отступание клифа у северной буны в с. Андреевка. Берегозащита из набережной и трех бун была построена в 1989 г. Из-за блокировки вдольберегового потока наносов пляж перед клифом исчез, а скорость отступания клифа более чем в два раза превысила фоновые скорости. Так, на участке длиной 150 м в 2004—2019 гг. она составляла в среднем 0.53 м/год. В этот же период на створах, примыкающих с севера к этому участку, она равнялась 0.23 м/год.
Участок 7 (от с. Андреевка до пгт Кача) протяженностью 6 км. Абразионно-обвальный берег с клифом высотой до 20—25 м. Береговая линия делает несколько небольших изгибов. В вогнутостях — небольшие прислоненные пляжи. На мысах навалы глыб сцементированного галечника прослеживаются на расстоянии до 100 м от берега. Эти глыбы некогда были крупными (2—3 м) нависающими карнизами на клифе. В верхней части обрывов в отдельных местах (в основном на севере) присутствуют линзы галечных конгломератов. Перед северной окраиной пгт Кача расположен небольшой выступ берега шириной около 300 м, на южной оконечности которого находится м. Маргопуло. На участке до мыса стационарных наблюдений на створах не проводилось. По спутниковым данным на этом участке средняя скорость отступания бровки клифа между 2004—2020 гг. — 0.18 м/год. С 1973 г. наблюдения за отступанием клифа проводились на створе у маяка на м. Маргопуло. Маяк был построен в 1945 г., но впоследствии из-за отступания бровки клифа был перенесен. В 2005 г. фундамент старого маяка оказался на бровке клифа, а в 2006 г. упал к его подножью. С 2001 г. замеры производятся от репера в створе с новым маяком. По этим данным, с 2001 по 2020 г. клиф отступил на 8.1 м со средней скоростью 0.43 м/год. Наблюдения, проводившиеся на створе в 300 м южнее м. Маргопуло в 1998—2013 гг., показали среднюю скорость отступания клифа 0.16 м/год. Впоследствии репер был уничтожен при отступании клифа. В южной части участка (пгт Кача) на значительном расстоянии клиф закрыт бетонными сооружениями набережной и построек.
Участок 8 (от пгт Кача до устья одноименной реки) протяженностью 3.8 км. Клиф высотой до 20 м сложен глиной различного окраса и плотности, а также гравийно-галечными отложениями с прослоями и линзами песчаников. Мощность галечников в среднем составляет около 8 м. Обвалам благоприятствуют наличие трещин в прибровочной части обрыва, интенсивная инфильтрация ливневых атмосферных осадков, распашка территории под посадку технических культур. В основании клифа наблюдаются абразионные ниши.
В южной части участка у навигационного знака за 1973—2020 гг., по данным одного створа, среднее отступание клифа составило 0.10 м/год. Наибольшие скорости отмечались в 1992—2012 гг. — 0.21 м/год. Наблюдения в северной части участка на двух створах показали очень малые скорости отступания. В период 2001—2020 гг. — 0.03 и 0.05 м/год соответственно, причем в результате осыпания, а не обвалов. По спутниковым данным в 2004—2020 гг. оценка суммарного отступания клифа на участке равна 0.27 м/год.
В центральной части участка ранее располагалась балка. В 2018 г. для предотвращения обвалов началось террасирование территории. Как показало сравнение 3D-моделей, полученных с помощью квадрокоптера, на прилегающей к клифу территории размером 300×150 м было незаконно добыто и вывезено около 220 тыс. м3 верхнего слоя песчано-галечного грунта, который использовали для строительных целей. Поскольку это был основной источник материала для пополнения пляжей, то работы по террасированию надолго прекратили его поступление. Кроме этого, карьер изуродовал прибрежный ландшафт в рекреационной зоне. Планировалось продлить работы еще на 600 м вдоль берега, но из-за вмешательства общественности они были остановлены.
Участок 9 (от устья р. Кача до устья р. Бельбек) протяженностью 6.7 км. Если на выше рассмотренных участках главной причиной отступания клифов являются обвалы, то на двух последних участках основной механизм — оползневая деятельность. Оползни развиваются в средне- и верхнеплиоценовых желто-бурых и красно-бурых глинах, в которых имеются редкие линзы песчаников и галечников. Основной причиной активизации оползней, фронтальных в плане и ступенчатых на профиле, является абразия. Она не только поддерживает неустойчивость склона, но и приводит к росту напряжений в прибровочной части клифа. На рассматриваемом участке зафиксировано 10 оползней (рис. 6). Восемь из них относительно небольшие, площадью от 4 до 10 тыс. м2, длиной по фронту от 70 до 200 м. Наблюдения за динамикой оползней проводятся с конца 70-х гг. ХХ в. Средние скорости отступания бровки приведены в табл. 1. Они относительно невелики: 0.1—0.3 м/год, вместе с тем максимальные подвижки могут достигать 3.5 м/год.
Один из оползней — Бол. Любимовский (№ 918 на рис. 6), стенка срыва имеет длину 2650 м, а площадь оползня — около 350 тыс. м2. Базис оползня находится под уровнем моря. В целом по четырехлетиям скорость его подвижки изменялась от 0.1 до 0.5 м/год, хотя на отдельных створах достигала и бóльших значений. Исключение отмечено в период 2001—2005 гг., когда она составила 2 м/год. На это повлияла катастрофическая подвижка оползня в 2001 г., в среднем составившая более 8 м. Сравнение спутниковых снимков 1966 и 2020 гг. показало, что за 54 года кромка клифа в районе Любимовского большого оползня отступила примерно на 20 м, что соответствует средней скорости около 0.37 м/год.
Рис. 6. Расположение оползней на участках № 9 и № 10. Цифры — кадастровые номера оползней. Красными линиями показаны контуры оползней.
Fig. 6. Location of landslides at Sites 9 and 10. The numerals are for the landslide cadastral number. The red lines show the landslide outlines.
Другой крупный оползень — Балочный (№ 915 на рис. 6), бровка его стенки срыва имеет длину 1150 м, базис оползня находится ниже уровня моря. До 1997 г. он был мало активен, скорость до 0.27 м/год. В ночь с 12 на 13 марта 2001 г. оползень продвинулся в сторону моря на одном из створов на 25 м. В зоне сжатия (выпора) в 50 м от уреза возник остров длиной 170 м и шириной до 24 м, который через два года был размыт. На севере оползень продолжал медленно смещаться, благодаря чему сохранялся вал выпирания. Средняя скорость отступания стенки срыва оползня за 41 год составила 0.25 м/год. При этом основной вклад (75%) дала подвижка в 2001 г. — 6.9 м. Без нее средняя скорость составила бы 0.13 м/год. В последние пять лет значительные подвижки не отмечаются.
Участок 10 (от устья р. Бельбек до м. Коса Северная) протяженностью 5.2 км. Здесь зафиксировано шесть оползней, из них один большой — Учкуевский (№ 921 на рис. 6) с длиной стенки срыва 1100 м и площадью около 90 тыс. м2. Он существует по крайней мере с XIX в., о чем свидетельствуют старые карты (Sevastopol, 1856). По аэрофотоснимку 1941 г. он имел относительно прямолинейную линию бровки. Изъятие в прилегающей акватории значительных объемов песка привело к его активизации. По спутниковому снимку 1966 г. на месте ранее относительно прямолинейного в плане клифа образовались мыс и два оползневых цирка. Среднее отступание клифа в 1976—2010 гг. составило 0.5 м/год. При интенсивных и катастрофических смещениях происходило оседание крупных (до 10—50 тыс. м³) оползневых блоков. В период 2011—2017 гг. оползень в целом был стабилен. Сравнение спутниковых снимков 1966—2020 гг. показало, что среднее отступание клифа за этот период составила 0.5 м/год. В прибровочной части плато периодически происходили обвалы, которые действовали как дополнительная нагрузка на оползень. Интенсивным было воздействие и антропогенного фактора. Так, в 2014 г. при подготовке площадки под строительство на оползень было сброшено около 5 тыс. м3 грунта. Характерно переувлажнение склонов за счет утечек из водонесущих коммуникаций и отсутствия централизованной канализации на дачных участках. Оползень Учкуевский по сравнению с типичными оползнями рассматриваемого побережья считается наиболее активным. Существующий узкий пляж не в состоянии гасить энергию штормов. Последняя крупная подвижка оползня, приведшая к отступанию в среднем на 5 м, была в 2018 г. Сейчас под угрозой находятся все дачные участки вдоль бровки, построенные после 1991 г.; до этого строительство здесь было запрещено. В апреле 2023 г. на языковой части оползня началось очередное строительство, что вызвало резкую реакцию владельцев домов, расположенных на прибровочной части клифа.
К северу от оползня ранее находился оползнеопасный клиф, который в 70-х гг. ХХ в. был террасирован, на его месте была создана зона отдыха. В южной части участка существуют несколько небольших оползней антропогенного происхождения. Они начали возникать в 1990-е гг. В результате освоения прибровочной части клифа под дачи и апартаменты возникло техногенное обводнение склонов. Площади оползней здесь составляют до 4 тыс. м2. Скорости отступания клифа — от 0.1 до 0.5 м/год, в максимуме они достигали 3.5 м (табл. 1). Эти оползни реально угрожают постройкам на плато, отдельные случаи их уничтожения уже фиксировались. В 2015—2022 гг. оползни относительно стабильны.
Таблица 1. Среднемноголетние и максимальные скорости отступания бровки клифа
Table 1. Average long-term and maximum rates of the cliff edge retreat
Кадастровый номер оползня | Отступание бровки клифа | |||
среднее, м/год | максимальное, м/год | количество лет, за которое оно определено | Годы наблюдений | |
911 | 0.3 | 1.1 | 41 | 1976, 1980 |
912 | 0.2 | 0.6 | 40 | 1976, 1980 |
913 | 0.2 | 3.5 | 40 | 2004 |
914 | 0.1 | 2.0 | 40 | 2006 |
915 | 0.25 | 6.9 | 41 | 2001 |
916 | 0.25 | 6.9 | 41 | 2001 |
917 | 0.2 | 0.5 | 41 | 1990 |
918 | 0.3 | 8.8 | 41 | 2001 |
947 | 0.1 | 0.5 | 12 | 2006, 2009 |
929 | 0.16 | 3.0 | 41 | 2003 |
921 | 0.47 | 5.0 | 42 | 2018 |
922 | 0.03 | 0.5 | 42 | 2011 |
949 | 0.2 | 1.5 | 20 | 2007 |
948 | 0.54 | 3.5 | 20 | 2007 |
940 | 0.4 | 2.7 | 20 | 2006 |
941 | 0.1 | 1.0 | 20 | 1997 |
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По результатам наблюдений выделяются ведущие процессы, вызывающие отступание клифов. На севере до устья р. Кача это обвалы, к югу от нее — оползневая активность. Дополнением для них являются осыпи. Заметно уменьшение скорости отступания клифов с севера на юг. С одной стороны это можно связать со строением клифов (увеличение доли трудно размываемых фракций) и шириной прислоненных пляжей, с другой — с изменением конфигурации берега. Так, для северной части характерен максимальный разгон волн во время штормов юго-западного направления, а южная часть прикрыта от такого волнения юго-западной оконечностью Крымского п-ова — Гераклейским п-овом, на котором расположен г. Севастополь (Горячкин, Репетин, 2009; Наумова, Евстигнеев, 2010).
Представляется важным также определение скоростей отступания клифов за длительный период. На севере зафиксированы скорости в среднем 1.2 м/год. Ранее для этого района приводились значения 2.7—3.3 м/год (Шуйский, 1974; Шуйский, Выхованец, 1994) или 2.1 м/год (Шуйский, 2005). Также в вышеприведенных работах в 2—3 раза больше скорости отступания клифов и для других участков, чем полученные нами. Они более близки к полученным нами максимальным годовым значениям.
В работе Tătui et al. (2019) приводится карта, по которой в рассмотренном нами районе значение отступания берегов определяется как 1—5 м/год. Можно с уверенностью говорить, что эти цифры явно завышены, поскольку, исходя из них, за последние 50 лет берег должен был отступить с 50 до 250 м, что находится в противоречии с данными топографических съемок. Полученные нами значения представляются более обоснованными, поскольку охватывают период осреднения бóльший, чем принятый в метеорологии (30 лет). Такой период охватывает все основные крупномасштабные атмосферные процессы, воздействующие на береговую зону. Так, например, показано, что в низкочастотной изменчивости максимальных высот волн в Азово-Черноморском бассейне выделяются колебания с периодом около 35 лет, который связывают с изменчивостью циркуляции атмосферы в Атлантико-Европейском секторе. Формирование такой изменчивости обусловлено крупномасштабными процессами в системе океан — атмосфера Северной Атлантики. Над Черным морем они проявляются в периодическом смещении в меридиональном направлении траекторий движения атлантических и средиземноморских циклонов, что обуславливает изменчивость в штормовой активности (Полонский и др. 2012).
Интересно сравнить полученные значения скоростей с другими районами на побережье Черного моря. Глинистые клифы со сходным строением на Крымском п-ове имеются в его северо-западном районе и на Керченском п-ове, а также в Румынии и Болгарии. У Бакальской косы, по нашим данным (Горячкин, Долотов, 2019), глинистый клиф, полностью лишенный пляжа, отступил между 2002 и 2018 гг. на 54.3 м со средней скоростью 3.2 м/год. Причем, если в период 2002—2008 гг. средняя скорость отступания составляла 2.3 м/год, то в период 2008—2018 гг. она возросла до 3.7 м/год. Как показал анализ спутниковых снимков, такие скорости отмечались только на небольшом участке длиной около 200 м. На соседних участках скорость была меньше в два раза. Юго-западнее этого района скорость отступания за тот же период была значительно меньше — около 0.7 м/год. На Керченском п-ове по мнению Ю. Д. Шуйского (2006) в 1960—1994 гг. скорость составляла 0.6—1.3 м/год. Здесь же по данным одного створа в 2015—2020 гг. средняя скорость отступания клифа составила 1.3 м/год с максимумом 2.1 м/год (Опасные абразионные…, 2022).
В Румынии к югу от порта Констанца почти весь берег занимают абразионно-обвальные в глинистых породах берега с прислоненными пляжами. Средняя скорость отступания клифа, определенная путем сравнения топографических карт 1924 г. и спутниковых изображений Ikonos, сделанных в 2002 г., оценивается в 0.5—0.7 м/год (Constantinescu, Giosan, 2017). В северной части побережья Болгарии клифы, сложенные лёссовыми породами, отступают со средней скоростью от 0.3 до 1.6 м/год, в районе курортного с. Крапец глинистый клиф отступает со скоростью 1.2—1.6 м/год (Stancheva et al., 2016). В Варненском заливе средняя скорость отступания клифов, сложенных глинами, песчаниками и мергелями, составляет 0.2 м/год (Peychev, 2004). На северо-западе Бургасского залива из-за активных оползневых процессов скорость отступания клифов, сложенных алевролитами и глинами, достигает 1.2 м/год, в отдельных районах — до 2.5 м/год (Пейчев, 1998). Можно сделать вывод, что по скорости отступания клифов Западный Крым близок к берегам Болгарии и Румынии.
В Западном Крыму основным процессом, приводящим к отступанию клифов, являются обвалы; подвижки оползней происходят сравнительно редко и только на юге. Активизация обвалов отмечается в зимне-весенний период, когда возрастает влажность глинистых пород и усиливается абразия, связанная со штормами. Обвалы также могут провоцироваться кратковременными сильными осадками в летний период. Ежегодно в среднем происходит до 90 обвалов объемом 1—2 тыс. м3 каждый. В результате только за последние двадцать лет погибли отдыхающие на пляжах в пгт Кача (4 чел.), пгт Николаевка (2 чел.) и с. Андреевка (1 чел.). Вдвое больше людей получили травмы, иногда тяжелые.
Максимум активности оползней на Южном берегу Крыма имеет годовую инерцию по отношению к количеству осадков (Рудько, Ерыш, 2006). Так, максимумы оползневой активности в 1969, 1982 и 1998 гг. наблюдались год спустя после максимума атмосферных осадков 1968, 1981 и 1997 гг. Правда, это касается оползней, значительно удаленных от моря, а в береговой полосе к ним добавляется еще и абразия.
В любом случае аномально большое количество осадков обусловливает повышенное обводнение грунтов и усиление оползневой активности. Большая часть случаев активности оползней в рассматриваемом регионе наблюдалась в 1980—1983 гг., 2000—2001 гг. и 2006—2007 гг. (рис. 7). Наши наблюдения показывают, что однозначная связь между годовыми суммами осадков и активностью оползней синхронно или со сдвигом во времени не выражена. Можно только отметить, что максимальному движению двух наиболее активных оползней в 2000 г. предшествовало большое количество осадков в 1999 г. (587 мм). Максимальной активности трех оползней в 2006 г. соответствовало большое количество осадков в 2005 г. (599 мм). Для других случаев максимума осадков активизации не наблюдалось, в том числе и для абс. максимума осадков в 1997 г. Из трех самых больших оползней — Учкуевского, Балочного и Любимовского большого — только для последнего можно связать активность с максимумом осадков в 2000 г., да и то подвижка наблюдалась в ноябре 2001 г. Скорее всего, активность оползней в этом районе связана не с общей суммой осадков за год в регионе, а с локальной интенсивностью осадков за короткий период. Конечно, она обусловлена еще и выше отмеченными фактами обводнения склонов из-за поливов, утечек и отсутствия канализации.
Рис. 7. Межгодовая изменчивость количества осадков (мм) по данным морской гидрометеостанции Севастополь (1), сглаживание скользящей средней за 4 года (2) и периоды активизации оползней (3).
Fig. 7. Interannual variability of precipitation rate (mm) according to hydrometeorological station Sevastopol (1), smoothing with a moving average for 4 years (2) and periods of landslide activation (3).
Связать активность обвальной и оползневой деятельности со штормовой активностью для района исследований по натурным данным, представляется некорректным, так как две ближайшие морские гидрометеостанции (Евпатория и Херсонесский маяк) из-за особенностей их географического положения не передают особенности волнового режима Западного Крыма. Кроме этого наблюдения на указанных гидрометеостанциях проводятся визуально, в светлое время суток. Поэтому для анализа привлекались данные математического моделирования для Каламитского залива (Фомин, Горячкин, 2020). Волновой режим анализировался с использованием 40-летних временных рядов (1979—2019 гг.), полученных на основе ретроспективных расчетов ветрового волнения по модели SWAN (SWAN, 2018) и данных атмосферного реанализа ERA (forecasts). Установлено, что наиболее интенсивное волнение возникает при юго-западном ветре. Наиболее информативными для сопоставления волнения с интенсивностью отступания клифа являются такие характеристики, как распределение по годам суммарной продолжительности штормов и суммарного индекса мощности штормов — SPI (Storm Power Index), нормированного на его среднемноголетнее значение (Фомин, Горячкин, 2020).
Сопоставление с первой характеристикой показывает довольно значительные величины суммарной продолжительности штормов в 1980 и 1983 гг. (28 и 25 сут., при среднем значении за период расчетов 18 сут.), и средние значения в 1981—1982 гг. (18 и 15 сут.). 2000—2001 гг. характеризовались высокими значениями (25 и 30 сут.), а 2006 и 2007 гг. средними (16 и 22 сут.). Другие годы с высокими значениями (27—29 сут.) никак не отражались на активности отступания клифов. Сопоставление с SPI дало следующие результаты: выделяются три года (1979, 1995 и 2001) со штормовой активностью в 2 раза больше средней. Из них только один (2001 г.) можно связать с активностью отступания клифов. В остальных случаях SPI был средним. Таким образом, прямая связь штормовой активности и количества осадков с динамикой клифов явно не выражена. Вероятно, что их действие совместное и проявляется с накопительным эффектом. По нашим наблюдениям активизация обвалов и оползней чаще бывает после штормов, особенно катастрофических, однако, это совсем не обязательное условие.
Необходимо отметить еще один аспект практического значения получения достоверных величин отступания клифов. Существование пляжей, а, следовательно, и рекреационный потенциал Западного Крыма зависит в первую очередь от запасов наносов на пляже и их непрерывного поступления. Пополнение наносов здесь происходит в основном за счет материала, поступающего на пляж в результате абразионных и обвально-оползневых процессов (Шуйский, 2005).
Нужно также отметить, что поступление пляжеобразующих фракций постоянно сокращается из-за уменьшения протяженности клифов. По нашим расчетам, из первоначально существовавших в рассматриваемом районе 50 км берега с клифами, из-за их закрытия различными сооружениями и террасирования к настоящему времени осталось 38.7 км (уменьшилось на 23%). К сожалению, эта проблема актуальна и для других причерноморских стран. Так, в Болгарии за 1960—2008 гг. поступление наносов на пляжи по разным причинам сократилось с 1.34 до 0.22 млн т/год, а длина незакрепленных участков клифов уменьшилась с 271 до 219 км (на 20%) (Peychev, Stancheva, 2009).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- На побережье Западного Крыма среднемноголетняя скорость отступания клифа составляет 0.1–1.2 м/год. На севере она максимальная, по мере продвижения на юг уменьшается;
- полученная среднемноголетняя скорость отступания клифа существенно меньше ранее приводимой в литературе;
- от оз. Кызыл-Яр до устья р. Кача основным процессом отступания клифов являются обвалы, к югу от нее — подвижки оползней, однако, они происходят сравнительно редко;
- строительство поперечных пляжеудерживающих сооружений (бун) в районе пгт Николаевка, сел Песчаное, Береговое и Андреевка вызвало блокирование вдольберегового потока наносов, что привело к ускорению отступания клифов;
- усиление обвалов наблюдается в зимне-весенний период, когда значительно увеличивается влажность глинистых пород и усиливается абразия. Обвалы могут провоцироваться кратковременными сильными осадками в летний период;
- периодичность в динамике оползней не выявлена. Однозначная связь между годовыми суммами осадков и активностью оползней синхронно или со сдвигом во времени не выражена;
- эксплуатация сооружений на территории, примыкающей к бровке клифа при отсутствии водоотведения, приводит к образованию техногенных оползней и увеличению активности природных оползней;
- поступление пляжеобразующих фракций постоянно сокращается из-за уменьшения протяженности клифов. Из первоначально существовавших в рассматриваемом районе 50 км берегов с клифами из-за их закрытия различными сооружениями и террасирования к настоящему времени осталось 38.7 км.
БЛАГОДАРНОСТИ
Работа выполнена в рамках государственного задания Морского гидрофизического института РАН (тема FNNN-2024-0016).
ACKNOWLEDGEMENTS
The work was performed under state assignment of Marine Hydrophysical Institute of RAS (topic FNNN-2024-0016).
Об авторах
Ю. Н. Горячкин
Морской гидрофизический институт РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: yngor@mhi-ras.ru
Россия, Севастополь
Список литературы
- Агаркова-Лях И.В. (2014). Современное состояние пляжей Западного побережья Крыма и актуальные вопросы берегового природопользования. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. № 29. С. 50–60.
- Горячкин Ю.Н. (2016). Берегозащитные сооружения Крыма: Западное побережье. Часть 1. Гидротехника. № 1. С. 49–54.
- Горячкин Ю.Н. (2016). Берегозащитные сооружения Крыма: Западное побережье. Часть 2. Гидротехника. № 2. С. 38–43.
- Горячкин Ю.Н. (2020). О стратегии использования береговой зоны Западного Крыма. В сб.: Моря России: исследования береговой и шельфовой зон. Тез. докл. Всерос. науч. конф. Севастополь: ФГБУН ФИЦ МГИ. С. 28–30.
- Горячкин Ю.Н., Долотов В.В. (2019). Морские берега Крыма. Севастополь: ООО “Колорит”. 256 с.
- Горячкин Ю.Н., Долотов В.В., Федоров А.П. и др. (2020). Природные условия и антропогенное изменение береговой зоны в районе пос. Кача. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. № 4. С. 5–21. https://doi.org/10.22449/2413-5577-2020-4-5-21
- Горячкин Ю.Н., Репетин Л.Н. (2009). Штормовой ветро-волновой режим у Черноморского побережья Крыма. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. № 19. С. 56–69.
- Горячкин Ю.Н., Харитонова Л.В. (2010). Изменения береговой линии Крыма по спутниковым данным. Причорноморський екологічний бюлетень. Вип. 1 (35). С. 122–129.
- Зенкович В.П. (1960). Морфология и динамика советских берегов Черного моря. Т. 2. М.: Изд-во АН СССР. 216 с.
- Зенкович В.П. (1962). Основы учения о развитии морских берегов. М.: Изд-во АН СССР. 710 с.
- Иваненко Т.А., Сапронова З.Д. (2011). Геоморфология и динамика берегов Западного Крыма. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. № 25. С. 19–25.
- Игнатов Е.И. (2010). Современное состояние береговой зоны Черного моря вдоль юго-западного Крыма. Причерноморский экологический бюллетень. № 1 (35). С. 102–120.
- Игнатов Е.И., Лукьянова С.А., Соловьева Г.Д. (2016). Морские берега Крыма. Геоморфология. № 1. С. 55–63. https://doi.org/10.15356/0435-4281-2016-1-55-63
- Крыленко В.В., Горячкин Ю.Н. Косьян Р.Д. и др. (2021). Сходства и различия малых пересыпей северо-восточной части Черного моря. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. № 1. С. 63–83. https://doi.org/10.22449/2413-5577-2021-1-63-83
- Наумова В.А., Евстигнеев М.П., Евстигнеев В.П. (2010). Ветро-волновые условия Азово-Черноморского побережья Украины. Наук. пр. УкрНДГМІ. № 259. С. 263–283.
- Опасные абразионные и оползневые процессы в береговой зоне Азовского моря и социально-экономические последствия их проявлений. (2022). Отв. ред. С.В. Бердников. Ростов-н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. 288 с.
- Пейчев В. (1998). Абразионният процес на Българския черноморски бряг. Брегоукрепване и дълготрайно стабилизиране на склоновете на Черноморското крайбрежие. София: АИ “Проф. Марин Дринов”. С. 139–142.
- Пейчев В. (2004). Морфодинамични и литодинамични процеси в бреговата зона. Варна: Славена. 231 c.
- Полонский А.Б., Воскресенская Е.Н., Маслова В.Н. (2012). Изменчивость циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе в связи с процессами в Тихом океане и Атлантике. Доклады НАН Украины. № 3. С. 123–131.
- Романюк О.С. (1967). Генезис крымских пляжей. Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР. Вып. 1. Киев: КГУ. С. 178–182.
- Рудько Г.И., Ерыш И.Ф. (2006). Оползни и другие геодинамические процессы горно-складчатых областей Украины (Крым, Карпаты). Киев: Задруга. 624 с.
- Фокина Н.А. (2008). Рекреационная деятельность и абразионные процессы. Строительство и техногенная безопасность. Вып. 23. С. 88-–92.
- Фомин В.В., Горячкин Ю.Н. (2022). Учет локальных волновых и морфодинамических процессов в прибрежном гидротехническом строительстве. Морской гидрофизический журнал. Т. 38. № 3. С. 662–682. https://doi.org/10.22449/0233-7584-2022-3-291-311
- Шуйский Ю.Д. (1974). Процессы и скорости абразии на украинских берегах Чёрного и Азовского морей. Известия АН СССР. Серия географическая. № 6. С. 108–117.
- Шуйский Ю.Д. (2005). Основные закономерности морфологии и динамики западного берега Крымского полуострова. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. № 13. С. 62–72.
- Шуйский Ю.Д. (2007). Механический состав пляжевых наносов на западных берегах Крымского полуострова. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. № 15. С. 370–385.
- Шуйский Ю.Д., Выхованец Г.В. (2006). Карта средней скорости абразии и аккумуляции 1960—1994 гг. Атлас охраны природы Черного и Азовского морей. СПб: Изд-во ГУНиО МО РФ. С. 44.
- Шуйський Ю.Д., Вихованець Г.В. (2009). Середня швидкість абразії та акумуляції 1960–1994 гг. Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів: Розділ 2. Берегова зона Чорного моря. Киев: ДУ Держгідрографія. 356 с.
- Constantinescu Ș., Giosan L. (2017). Marginal deltaic coasts in transition: from natural to anthropogenic along the southern Romanian cliffed coast. Anthropocene. V. 19. P. 35–44. https://doi.org/10.1016/J.ANCENE. 2017.08.005
- Goryachkin Yu.N. (2012). Coastal erosion and protection in Ukraine. Coastal erosion and protection in Europe. London: Routledge. P. 413–426.
- Peychev V., Stancheva M. (2009). Changes of sediment balance at the Bulgarian Black Sea coastal zone influenced by anthropogenic impacts. C. R. Acad. Bulg. Sci. V. 62. № 2. P. 277–284.
- Stancheva M., Stanchev H., Peev P. et al. (2016). Coastal protected areas and historical sites in North Bulgaria — challenges, mismanagement and future perspectives. Ocean & Coastal Management. V. 130. P. 340–354. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.07.006
- SWAN Cycle III version 41.20, User Manual. (2018). Delft University of Technology, Netherlands. 121 p.
- Tătui F., Pîrvana M., Popa M., et al. (2019). The Black Sea coastline erosion: Index-based sensitivity assessment and management-related issues. Ocean & Coastal Management. V. 182. 104949. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.104949
- Wilkinson G.R., Spratt T. (1856). Sevastopol, shewing the Russian defence works and the approaches of the allied armies: map. R.N.C.B. 1:18,300. [London]: Hydrographic Office. 1 map: col. 77×118 cm.
Дополнительные файлы