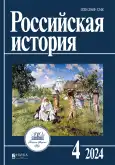The Labor movement and Revolutionary Social Democracy in the borderlands of late Imperial Russia
- Авторлар: Bogomolov I.K.1
-
Мекемелер:
- Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences
- Шығарылым: № 4 (2024)
- Беттер: 234-239
- Бөлім: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/2949-124X/article/view/268653
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24040285
- EDN: https://elibrary.ru/FDJQKP
- ID: 268653
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
A review of a new monograph by Professor Eric Blanc of Rutgers University (USA) is presented. The book is devoted to the history of the labor movement and the development of revolutionary social democracy on the outskirts of the Russian Empire from 1882 (the year of the creation of the first social democratic organization in Poland) to the revolutionary 1917. Blanc focuses specifically on the "non-Russian" socialist parties in the territory of modern Poland, Ukraine, the Baltic States, Georgia and Armenia. The author concludes that the development of the socialist and labor movement in the border areas of late Imperial Russia was characterized by greater radicalism, a more developed structure and popularity among the local working class. At the same time, the situation in Finland with its autonomy and legalized party struggle, which could include socialists, differed from the virtually illegal life of social democracy in Poland and the Caucasus.
Толық мәтін
Рабочее движение и революционная социал-демократия на окраинах позднеимперской России 1
Эрик Блан – профессор Ратгерского университета (США), исследователь рабочих организаций, трудового активизма, забастовок и политической активности рабочего класса. Хотя значительная часть его вышедших и готовящихся трудов повествует о современном рабочем движении, в 2021 г. Блан выпустил полноценное исследование о революционной социал-демократии в позднеимперской России. Во введении автор отмечает, что многолетние исторические и социологические исследования российской революции «имели общий недостаток: они рассматривали только центральную Россию, а не империю в целом. Русская революция была гораздо менее русской, чем часто предполагалось»2. Поскольку «нерусские» социалистические партии были «проигнорированы или маргинализированы… представления о революционной России остаются в лучшем случае односторонними, а в худшем – вводящими в заблуждение» (p. 1).
Истоки этого «однобокого» представления о социалистическом движении в царской России Блан усматривает в особенностях развития историографии после окончания холодной войны. В 1990-х гг. возросшее внимание учёных к истории рас и национальностей привело, помимо прочего, к всплеску академических исследований на периферии Российской империи. Тем не менее, поскольку «имперский поворот» произошёл одновременно с «паническим бегством от исследований рабочих движений и социалистических партий, подавляющее большинство этих новых работ продолжало игнорировать марксистов пограничья» (p. 2). Сведéние социал-демократического движения к двустороннему конфликту меньшевиков и большевиков затемнило «гораздо более динамичную картину: более дюжины марксистских партий дискутировали, сотрудничали, раскалывались и объединялись по всей империи» (p. 4).
Отметив, что первая марксистская организация в Российской империи возникла в Польше в 1882 г. (более чем за 20 лет до появления большевиков и меньшевиков), Блан приводит и статистические сведения. Так, в империи, где нерусские народы составляли 58% населения, приграничные партии представляли более 75% организованных марксистов (с. 4). Однако этот фактор практически не учитывался в западной литературе. Другой недостаток существующей историографии – устойчивое представление о «большевистской исключительности». Согласно распространённой точке зрения, большевики отделили себя от всех других социалистических партий той эпохи, «порвав с умеренным социализмом», воплощённым в немецкой СДПГ. Если либеральная историографическая школа трактовала этот разрыв как часть «генезиса советского тоталитаризма», то социал-демократическая считала его «предварительным условием победоносной Октябрьской революции, а также программным основанием для спасения марксизма от его предполагаемого второго международного развала» (p. 9).
На окраинах империи не было ни одной крупной большевистской позиции, которую не разделяли бы различные социалистические партии. При этом ни одна такая позиция «сама по себе не могла привести непосредственно к октябрю 1917 г., или, как сказали бы учёные-антикоммунисты, – к сталинизму» (p. 10). Для более глубокого и всестороннего изучения борьбы российского рабочего класса рубежа XIX–XX вв. требуется гораздо большее внимание к социал-демократическим партиям на окраинах империи. Этот анализ в конечном счёте поможет объяснить «поражение самого серьёзного вызова, когда-либо брошенного глобальному капитализму: международной революционной волны после 1917 г., сдерживание которой проложило путь к консолидации буржуазного правления на Западе и последующему возникновению сталинского авторитаризма в России» (p. 4).
Монография состоит из десяти глав, разделяющих повествование по проблемному и хронологическому принципам. В первой главе Блан кратко освещает социально-экономический и политический контекст развития рабочего класса в центральной России и на окраинах империи на рубеже XIX–ХХ вв. Хотя большинство пролетариев в дореволюционный период оставались в стороне от марксистских организаций, сформировалось «прочное и растущее ядро социалистических активистов рабочего класса». Вплоть до начала ХХ в. рабочие движения на окраинах были значительно сильнее, чем в центральной России, что является «одной из причин, по которой революция 1905 г. дальше всего продвинулась на периферии» (p. 25). Отсутствие политических свобод в целом сделало социал-демократические партии в самодержавной России «более радикальными как на словах, так и на деле, чем их родственные организации на Западе» (p. 36).
Во второй главе анализируются широкие политические рамки революционной социал-демократии до 1905 г. В то время как социал-демократы стремились основывать свою стратегию на уроках прошлого и своём понимании экономических тенденций капитализма, они также отмечали непредсказуемость политической жизни. В странах с гражданскими свободами и парламентами революционные марксисты утверждали, что социал-демократические партии должны сосредоточиться на продвижении своих идей через прессу, на участии в выборах, создании сильных партийных организаций и профсоюзов. Напротив, условия в позднеимперской России исключали любые попытки перенять организационную структуру или политическую направленность СДПГ. Стратегия «терпеливого накопления сил» не могла быть реализована в ситуации, когда государство пресекало попытки самоорганизации рабочих. Поэтому подпольные социалистические организации в России больше полагались на «тактику массовых действий, чем их товарищи за рубежом». Создание «нелегального марксистского движения в контексте самодержавия стало беспрецедентным историческим экспериментом» (p. 55).
Дискуссиям в среде российской интеллигенции о природе социализма и путях его достижения посвящена третья глава. У рабочих вызывал недовольство тот факт, что интеллигенты-социалисты «не сталкивались с такими же материальными лишениями и эксплуататорскими отношениями, как их товарищи-пролетарии». Социалисты, вышедшие из «высших классов» общества, зачастую имели образование, свободное время и достаточное количество денег, что давало им возможность формировать партийную политику и доминировать в руководстве партий (p. 76). После 1905 г. разочарование в рабочем классе охватило интеллектуалов всех национальностей, увидевших, что «их прежние надежды на власть пролетариата были неуместны». Вопрос об отношениях между рабочими и интеллигенцией также отошёл на второй план по той причине, что «интеллигенции в социалистических партиях стало значительно меньше» (p. 81).
По сравнению с 1905 г. «лишь незначительное меньшинство интеллектуалов после свержения царя в феврале 1917 г. поддержало борьбу за пролетарскую гегемонию». К этому времени среди интеллигенции преобладали либералы, националисты и правые социал-демократы различных оттенков. В отличие от радикальных марксистов, «ни одно из этих течений не считало, что трудящиеся в России способны захватить власть и использовать её для прогрессивных социальных преобразований. Попытки править без буржуазии, по их мнению, могли привести только к контрреволюции, гражданской войне и анархии». Для либералов это недоверие к рабочему классу не было чем-то новым, но означало серьёзный отход от традиций 1905 г. На протяжении 1917 г. «основная критика, выдвигаемая радикальными рабочими в адрес интеллигенции, заключалась не в том, что она господствовала над рабочим движением, а в том, что она отказалась от него» (p. 84).
Отдельная, четвёртая глава посвящена сравнительному анализу стратегии социал-демократов в «подпольной России и парламентской Финляндии». «Условия абсолютизма» препятствовали созданию массового легального рабочего движения по образцу политических систем Западной Европы. В России такой подход был возможен только в «исключительном случае» Финляндии с её легализованным рабочим движением. Полицейские репрессии «задавали странный ритм деятельности марксистов империи, которым каждые несколько месяцев приходилось начинать свои организационные усилия практически с нуля». Это затрудняло создание прочной партийной системы и организаций рабочего класса (p. 98).
В пятой главе Блан исследует, как марксисты в позднеимперской России подходили к стратегическим альянсам с либеральными партиями. За исключением Финляндии, социал-демократические партии до Первой российской революции в подавляющем большинстве придерживались принципов непримиримой классовой борьбы. После 1905 г. «распался первоначальный консенсус по вопросу о гегемонии пролетариата. Отныне поддержка… блоков с буржуазными партиями и капиталистическими правительствами стала определяющей линией». Деморализованные поражением революции, различные марксистские партии и течения в империи сделали заметный поворот вправо. Прежде всего это проявилось в «отказе от их прежнего антагонистического подхода к буржуазному либерализму». В Финляндии сложилась противоположная ситуация: после 1905 г. ортодоксальные марксисты захватили лидерство в ранее умеренной социал-демократической партии (СДП). Под их руководством финское социалистическое движение «сопротивлялось попыткам создать межклассовое национальное единство, заложив тем самым основу для острых классовых конфликтов 1917–1918 гг.» (p. 150).
Более подробно эволюция взглядов революционной социал-демократии на партийное строительство и место партии в организации трудящихся рассматривается в шестой главе. Согласно доминировавшей до 1905 г. «ортодоксальной» точке зрения, должна существовать только одна партия, с которой все массовые рабочие организации политически и организационно связаны. Такое мнение, которое Блан называет «монополизмом», было «приемлемым в Германии, но оно оказалось неподходящим для самодержавной России, где сосуществовало множество относительно небольших социалистических организаций». На практике такой подход «подрывал эффективную координацию массовой деятельности и приводил к чрезмерным фракционным баталиям». После 1905 г. социал-демократы осознали необходимость единства действий различных течений. В конечном счёте социалисты согласились с созданием массовых беспартийных организаций – профсоюзов, федеральных комитетов и советов – для координации борьбы и организации широких слоёв беспартийных трудящихся. Этот метод стал почти общепризнанным компонентом марксистской практики в России после 1905 г. и одним из решающих факторов для «успеха радикальных социалистов в 1917 г.» (p. 200–201).
Оспаривая тезис о том, что большевики отошли от преобладающей модели партийного строительства Второго интернационала, Блан в седьмой главе подробно проанализировал позиции и практику организации немецкой СДПГ, финской СДП, польской СДКПиЛ и большевиков. Когда дело доходило до совместной партийной работы, большевики «оказывались где-то между вышеупомянутыми польским и финским примерами». С 1912 г. Ленин настаивал на разрыве с меньшевистскими «ликвидаторами», но его непримиримость редко применялась на практике. Только летом 1917 г. создание отдельных большевистских комитетов стало нормой по всей России. Если бы большевики «преждевременно вышли из РСДРП, их способность сплотить большинство рабочего класса в 1917 г. была бы гораздо менее вероятной» (p. 238).
На протяжении всей книги Блан подробно рассматривает опыт финской СДП как во многом уникальный для российских условий начала ХХ в. В восьмой главе он показал, что история СДП «опровергает широко распространённые утверждения об оппортунизме “марксизма Второго интернационала”» и представляет собой «лучший пример для изучения теории и практики революционной социал-демократии, чем её бюрократизированная родственная партия в Германии» (p. 284). Благодаря высокой самоорганизации и последовательной политической борьбе финские социал-демократы на выборах 1916 г. получили парламентское большинство. После Февральской революции лидеры партии попытались воспользоваться своей победой и провести законодательным путём ряд радикальных демократических и социальных реформ. В ответ финская и российская правящие элиты распустили парламент, «подготовив почву для революционного восстания под руководством социалистов в январе 1918 г.». Здесь вполне уместна приведённая автором цитата финского историка Р. Алапуро: «Урна для голосования не стала гробом революционеров, как это часто утверждается. В случае Финляндии урна для голосования оказалась их колыбелью» (p. 284).
В двух заключительных главах Блан сравнивает особенности тактики социал-демократов в 1905 и 1917 гг. на примере центральной России, а также Украины и Польши. Автор, в частности, доказывает, что в 1905 г. не произошло «серьёзного разрыва» между позицией большевиков и «ортодоксальным марксизмом Второго интернационала». Напротив, «марксисты по всей России в тот момент выступали за прямой захват государственной власти» и в конце 1905 г. были к этому очень близки. Во многих приграничных регионах империи они действительно захватили власть. Подробно анализируются позиции и практики основных умеренных социал-демократических организаций империи. Особое внимание уделено большевикам, поскольку в 1917 г. они стали «самым влиятельным ортодоксальным марксистским течением, а также потому, что в течение года к ним примкнуло много нерусских радикалов». Блан отстаивает точку зрения, что большевистские лидеры задолго до прибытия Ленина в Россию в апреле 1917 г. призывали к свержению Временного правительства, требовали передать власть в руки советов, немедленно окончить войну, «удовлетворить социальные требования народа и спровоцировать международную революцию». Таким образом, Октябрьская революция, «по сути, выразила и подтвердила стратегию ортодоксального марксизма в исключительном политическом контексте России» (p. 344).
Монография Блана оставляет впечатление капитального труда, основанного на широкой и многоязычной источниковой базе. Впечатляет количество привлечённых к работе финских, латвийских, польских, украинских, русских, немецких и французских источников. Блан проводил исследования в 25 архивах и академических библиотеках в постсоветских и восточноевропейских государствах, Западной Европе и США. Достаточно сложный и насыщенный материал излагается доступным языком, благодаря чему книга читается легко и с интересом. Можно констатировать, что история социал-демократии и рабочего движения в революционной России получила новый импульс к исследованию за рубежом после более чем 30 лет фактического забвения.
Представляется, однако, что монография могла бы быть более компактной без повторов тезисов и сюжетов, которые нередко встречаются в разных главах и усложняют структуру, затрудняют выделение основной мысли и выводов книги. Заявленная во введении цель – показать развитие социал-демократии на окраинах позднеимперской России – во второй части работы отходит на второй план, фактически уступая место полемике о роли и месте большевиков в российской революции. Красной нитью по всей книге проходит тема борьбы с «господствующими», «политизированными», «ошибочными» течениями в исторической литературе, однако не всегда понятно, с кем именно автор спорит. Во введении подчёркивается, что речь идёт в первую очередь о европейской и американской историографии, в то время как «большинство серьёзных исследований о нерусских социалистах, а также первоисточники, на которых они основаны, были написаны на малоизвестных восточноевропейских языках» (p. 2). В библиографии присутствует немало таких работ, в которых, кстати, уже не раз и весьма подробно рассматривалась поднятая Э. Бланом тема. Неясно при этом, почему они практически не учитываются в критике. Работе в целом не хватило качественного историографического обзора, который необходим при исследовании столь широкой проблемы. Без него указанные эпитеты выглядят порой излишне резко и не вполне обоснованно, придавая серьёзному труду научно-популярный разоблачительский «налёт». Несмотря на это, монография безусловно достойна внимания и вызовет интерес специалистов по революционной России и русской социал-демократии.
Примечание
1 Blanc E. Revolutionary social democracy: Working-class politics across the Russian Empire (1882–1917). Leiden: Brill, 2021. 455 p.
2 Соглашаясь с этим тезисом, историк Й. П. Арнасон в своей рецензии на книгу отмечает: «Другая половина правды заключается в том, что чем ближе революционный переворот подходил к окончательному урегулированию, тем более русским он становился» (Arnason J. P. Book Review: Revolutionary Social Democracy: Working-Class Politics Across the Russian Empire (1882–1917) // Acta Sociologica. 2023. Is. 2. P. 233).
Авторлар туралы
Igor Bogomolov
Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: otech_ist@mail.ru
Кандидат исторических наук, Старший научный сотрудник
Ресей, MoscowӘдебиет тізімі
- Arnason J.P. Book Review: Revolutionary Social Democracy: Working-Class Politics Across the Russian Empire (1882–1917) // Acta Sociologica. 2023. Is. 2.
- Balnc E. Revolutionary social democracy: Working-class politics across the Russian Empire (1882–1917). Leiden: Brill, 2021.
Қосымша файлдар