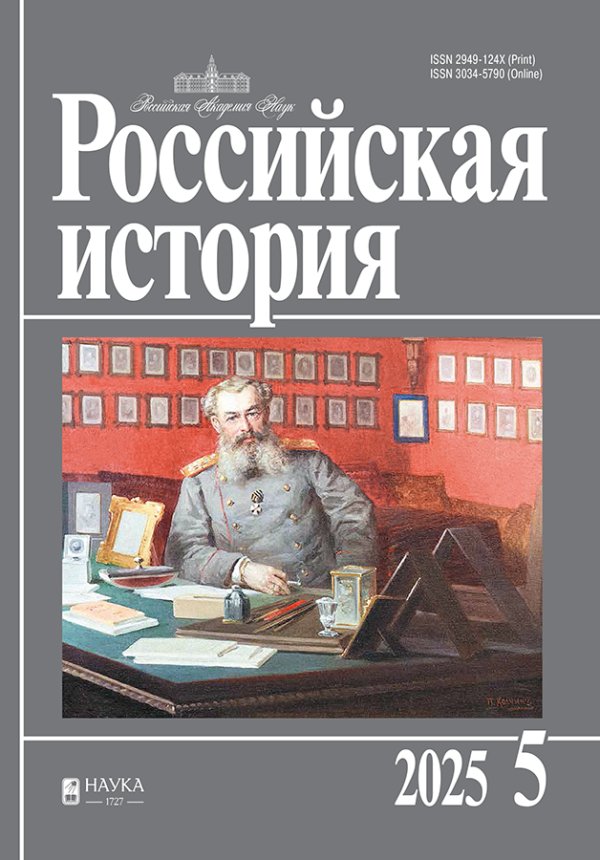The political theater of August 1917: stage and backstage
- Authors: Solovyov K.А.1,2
-
Affiliations:
- Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
- HSE University
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 202-206
- Section: Reviews
- URL: https://bakhtiniada.ru/2949-124X/article/view/264349
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24030207
- EDN: https://elibrary.ru/GBUKXP
- ID: 264349
Cite item
Full Text
Abstract
Analyzing the monograph by A.B. Nikolaev "The State Conference of 1917: convocation, composition, activity", the author raises the question of the nature of the emerging political system of Russia in 1917, about its internal contradictions, which contributed to the holding of crowded forums, the establishment of new collegial authorities. In fact, there is a significant discrepancy between the institutional design of power and the categorical language of its description, between the social experience of those who tried to determine the political agenda, and the agenda itself, the popular slogans of that time. For this reason, the course of the Moscow State Conference, which became the subject of A.B. Nikolaev's close attention, is very indicative for understanding the political players of that time: they did not fully represent the "game" in which they participated. Moreover, they were unable to determine its rules.
Full Text
«Красивый пышный зал московского Большого театра. Всюду золото и пурпур. Для совещания первостепенной важности даже слишком много театральной пышности. Декорации, окаймлявшие огромную сцену, переполненную делегатами, вызывали смутные, раздражающие воспоминания о когда-то виденных операх, о мишурных злодеях и о героях, о театральных действиях. А между тем в этой зале час за часом разыгрывалось действие государственное, живая трагедия огромной страны, мятущейся среди бедствий и испытаний», – писала журналистка и член ЦК Партии Народной свободы А. В. Тыркова о Государственном совещании 1. За 1917 г. прошло много форумов, однако Государственное совещание стало особенным. Его участники подводили итог предыдущему бурному полугодию. Наконец, они собрались в ожидании пока неведомых событий, о которых можно было только догадываться.
За 1917 г. сменилось несколько непродолжительных, но значимых эпох. Для каждой из них характерны свои герои, свой горизонт ожиданий. В последние дни февраля – начале марта 1917 г. могло показаться, что политическая система Российской империи имела шанс на относительно плавную трансформацию. Состав элиты, правила игры были заметно скорректированы, и всё же в новом угадывалось что-то старое. Февраль стал временем пускай мнимого, но триумфа российской общественности, которая складывалась десятилетиями до этих роковых событий. Правда, управлять политическими процессами у неё не получалось. Улица стремительно ворвалась в политическую жизнь. Об этом много писал А. Б. Николаев, размышляя о природе «думской революции» и роли Временного комитета Государственной думы в конце февраля – начале марта 1917 г.2
И всё же вплоть до апреля 1917 г. политический режим в России пытался сохранять хотя бы условную преемственность в отношении предыдущих порядков. Это прямо декларировалось Временным правительством, которое было сформировано при активном участии Прогрессивного блока, сложившегося ещё в дореволюционной, цензовой Думе 3. Весьма характерна особая роль Юридического совещания при Временном правительстве. В данном случае законодательные полномочия передавались не избранным делегатам регионов или корпораций, а экспертам, знатокам права. Они, не обладая даже тенью легитимности, представляли не народную волю, а науку, знание 4. Это вполне соответствовало взглядам думских лидеров, имевших за спиной высшее образование (преимущественно юридическое) и, нередко, годы государственной службы, но явно диссонировало с настроениями улицы. По это причине «общественный» этап революции оказался столь скоротечен.
Апрельский кризис потребовал «пересборки» власти, а следовательно, и новой формулы её легитимности. Представители цензовой публики попытались заключить договор с «демократией», представленной исключительно социалистическими партиями. В последующие месяцы политически активная часть общества искала более или менее устраивающий всех баланс сил, но не находила его. В итоге за непродолжительной передышкой следовал новый кризис.
Неустойчивая и, главное, неуверенная в себе власть всё же рассчитывала найти точку опоры. Ради этого созывались разнообразные коллегиальные учреждения, которым предстояло поделиться своей легитимностью с Временным правительством. Все эти эксперименты были обречены на провал, что в значительной мере объясняется несоответствием господствовавшей риторики «архитектуре» власти, сформировавшейся после Февральской революции. «Улица» требовала демократии, под которой обычно подразумевалось бесспорное лидерство леворадикальных партий и широчайшая социальная повестка. Министры в большинстве случаев с этим не соглашались, невольно признавая сомнительность собственных прерогатив. Конечно, это их не устраивало, и они делали очередную напрасную попытку. Изобретаемые ими коллегиальные учреждения представляли более или менее широкий спектр партийных объединений. Казалось бы, собранные вместе, их представители имели право говорить от имени всего российского общества.
При этом, конечно же, за скобками оставался вопрос, в какой пропорции должны были присутствовать те или иные политические силы. Во Временном правительстве рассчитывали на консенсус, к которому могли прийти политические партии. Министры следовали логике, характерной для ранней весны 1917 г. Тогда население приравнивалось к общественности, а общественность – к партиям. Спустя пару месяцев эти тождества уже вызывали сомнения.
Так или иначе, правительство остро нуждалось в «костылях» – различных формах представительства. Как бы их ни оценивали, структура и состав этих коллегий весьма показательны. Министры Временного правительства стремились действовать рационально и логично, разумеется, отталкиваясь от собственных представлений о рациональности и логичности. Они принимали решения в собственной системе координат, которая соответствовала горизонту их ожиданий.
Один из таких представительных форумов, призванных способствовать умиротворению России, – Государственное совещание. Ему и посвящена новейшая монография А. Б. Николаева. Это представительство по-своему уникально. В чём-то оно могло напоминать Земский собор в версии славянофилов. В нём должны были быть представлены интересы, а значит – корпорации, за спинами которых правительство пыталось спрятаться от чрезмерного влияния политических партий. Как показывает исследование Николаева, эта надежда оказалась тщетной.
Любая книга – это не просто совокупность научных наблюдений и архивных цитат. Прежде всего, это особый стиль, свойственный лишь конкретному автору. Николаев с присущей ему скрупулёзностью изучил считанные дни в одном столичном городе – будь это февраль–март или август 1917 г., Петроград или Москва. Масштабное полотно пестрит деталями, именами, событиями. Это «тотальное описание» явления. Конечно, было непросто собрать «мозаику» воедино, потребовалась кропотливая работа в ГА РФ, РГИА, ЦГА Москвы. Разумеется, автор привлёк опубликованные материалы делопроизводства, периодику, публицистику.
Характер источниковой базы всегда влияет на исследователя. И в данном случае Николаев вполне обоснованно принял риторические конструкции, характерные для периодических изданий того времени. Как известно, в Государственном совещании нашлось место и «цензовой публике», и «демократии». Сама по себе подобная стратификация в высшей степени характерна для 1917 г. Ведь тогда речь шла не о социальной, а, прежде всего, политической дифференциации, более того, партийной. От имени «цензовиков» преимущественно говорили кадеты. «Демократию» представляли разнообразные социалистические партии. Это лучшее доказательство того, что в российской политике 1917 г. партии играли роль «несущей конструкции». Кроме того, такая дихотомия – убедительное свидетельство глубокого мировоззренческого кризиса, который переживала «мыслящая Россия» того времени.
Категориальный аппарат со всей очевидностью говорил читателю периодических изданий, за кем будущее. «Цензовики» по определению представляли старую Россию. «Демократия» – это перспектива на многие годы вперёд. Пока «буржуазные» партии считались неизбежными (но, конечно, временными) старшими партнёрами в коалиции, они ещё имели шанс на политическое бытие. Их существование становилось бессмысленным в тот момент, когда силы «демократии» переставали в них нуждаться.
Однако проблема заключалась в том, что изменения в общественных настроениях и институциональная перестройка политической сферы не были синхронизированы. Общественная жизнь в значительной мере выстраивалась вокруг институтов, сложившихся ещё до 1917 г. В них первую скрипку играли представители «цензовой общественности» – и до, и после Февральской революции. Их слово оказывалось решающим в большинстве издательств, в общественных организациях, в органах местного самоуправления. Вытеснение «цензовиков» из политики обозначало обрушение основ общественной жизни. В августе 1917 г. об этом речи не шло. В Государственном совещании цензовый элемент был представлен неплохо. Более того, этот форум лишь подтвердил, что в сложившейся системе координат с «буржуазной демократией» невозможно не считаться 5. Это «цвет интеллигенции, цвет образования», соглашался один из лидеров меньшевиков И. Г. Церетели 6. Следовало сбросить на пол привычную для всех «шахматную доску», чтобы с неё слетели уже все фигуры.
Как раз по этой причине конструкция Государственного совещания не кажется случайной. Николаеву предстояло выбрать угол зрения, который позволил бы рассмотреть этот форум не сам по себе, а как составную часть складывавшейся (но на тот момент ещё не сложившейся) политической системы постреволюционной России. В 1917 г. порой ставился вопрос о возрождении Государственной думы 7. Однако даже во Временном правительстве первого состава не многие принимали идею цензового представительства. Министры не верили, что пережитки старого режима могут хоть как-то пригодиться.
В итоге попытались создать учреждение принципиально иного свойства: Государственное совещание должно было представлять не партии, не регионы, а общественность, а значит – общественные организации. Временное правительство стремилось сформировать новую коалицию, когда массовые настроения заметно радикализировались. Проблема в том, что общественность беспартийной только называлась, в то время как за общественными институциями часто стояли партии «цензовой демократии», прежде всего кадеты. При всём желании преодолеть «партийное средостение» оказалось невозможно. Это – как раз то открытие, которое сделало Временное правительство в Москве в дни Государственного совещания.
Партии в нём солировали. Однако могли ли они предложить свою повестку, свой сценарий событий? По словам философа, публициста и деятельного участника событий 1917 г. Ф. А. Степуна, в Большом театре «все были как в лихорадке, все чего-то боялись, на что-то надеялись, во всяком случае чего-то ждали. Характерной чертой этого ожидания было то, что собравшиеся чего-то ждали не от себя, не от своего почина, а от каких-то тайных, закулисных сил. Такое настроение было тем более непонятно, что все ответственные политические деятели и стоявшие за ними группы прибыли на Московское государственное совещание с целью сговора, т. е. с целью всемерной поддержки Временного правительства» 8. Степун подметил парадоксальное положение того времени: участники диалога подчёркивали свою готовность к компромиссу, занимали преимущественно примирительную позицию. Однако никто из них в возможность конструктивного сотрудничества «демократии» и «цензовых элементов» всерьёз не верил: «Может быть, только один Керенский верил ещё в то, что канат, по которому он, балансируя, скользит над бездной, есть тот путь, по которому пойдёт революция» 9.
В дневниковой записи от 12 августа 1917 г. Тыркова сформулировала очевидную проблему, прочувствованную ею в день открытия Московского совещания: «Всё яснее, что дело в физической силе» 10. Оставалось неясным, откуда её ждать. Ораторы, выступавшие со сцены Большого театра, позволяли себе весьма резкие суждения. Бывший председатель II Думы Ф. А. Головин вспоминал выступления П. А. Столыпина, за которым чувствовалась сила 11. Этого нельзя было сказать о Керенском, который явно проигрывал в сравнении с царским премьером. А. И. Гучков прямо диагностировал проблему текущего момента: «Эта власть больна тем, что её нет. Эта власть – тень власти, подчас являющаяся со всеми подлинными и помпезными атрибутами власти, с её жестикуляцией и её терминологией, с её интонациями, в которых слышатся подчас оттенки, от которых мы как будто стали отвыкать, и тем трагичнее этот контраст между жизненной необходимостью создания подлинной, твёрдой, истинно государственной власти и между судорожными поисками и страстной тоской по этой власти» 12. Это были яркие, запомнившиеся высказывания, в которых подчёркивалась слабость Временного правительства, но не сила его оппонентов.
Вскоре после окончания Государственного совещания журналист и литератор П. Я. Рысс написал: «Московское совещание сказало все свои слова. Их было много, очень много. Были слова ударные, тяжёлые. И были слова бесцветные и испаряющиеся из памяти. И после всех этих слов осталось впечатление, что совещание в Москве не было совещанием. Там не совещались, не делились мнениями, чтобы выработать единое. Нет, там шла тяжба, где обе стороны были прокурорами, и ни одна не хотела быть подсудимым. Иначе и быть не могло: политики – сегодня лишь прокуроры. Суд над ними творит история, превращая их в подсудимых» 13. В таких обстоятельствах Временному правительству оказалось непросто придумать себе опору. Ему, как и всем прочим, оставалось лишь ждать ветра истории.
1 Тыркова А. В. Перед лицом страны // Революция 1917 года глазами современников. В 3 т. Т. 2. М., 2017. С. 252.
2 Николаев А. Б. Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года: в 2 т. СПб., 2017.
3 Весьма характерно, что, согласно постановлению Временного правительства от 9 мая 1917 г., «дела, направлявшиеся в порядке статей 86 и 87 Основных государственных законов… разрешаются властью Временного правительства» (Сборник указов и постановлений Временного правительства. Вып. 2. Ч. 1. Пг., 1918. С. 19). Тем самым подчёркивалось, что Основные государственные законы в редакции от 23 апреля 1906 г. продолжали действовать.
4 Российская революция 1917 года: власть, общество, культура / Отв. ред. Ю. А. Петров. В 2 т. Т. 1. М., 2017. С. 467–468, 502.
5 Рысс П. Я. Покаяние // Революция 1917 года глазами современников. Т. 2. С. 266.
6 Государственное совещание / Под. ред. М.Н. Покровского. М.; Л., 1930. С. 127.
7 Там же. С. 103–104.
8 Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. СПб., 1995. С. 422.
9 Там же. С. 423.
10 Наследие Ариадны Владимировны Тырковой: Дневники. Письма / Сост. Н. И. Канищева. М., 2012. С. 203.
11 Государственное совещание. С. 54.
12 Там же. С. 101.
13 Рысс П. Я. Указ. соч. С. 264.
About the authors
Kirill А. Solovyov
Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences; HSE University
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
доктор исторических наук, профессор факультета гуманитарных наук, главный научный сотрудник
Russian Federation, Moscow; MoscowReferences
- Государственное совещание. М.; Л., 1930.
- Наследие Ариадны Владимировны Тырковой: Дневники. Письма / Сост. Н.И. Канищева. М., 2012.
- Николаев А.Б. Государственное совещание 1917 года: созыв, состав, деятельность: монография. СПб.: Астерион, 2022.
- Российская революция 1917 года: власть, общество, культура / Отв. ред. Ю. А. Петров. В 2 т. Т.1. М., 2017.
- Рысс П.Я. Покаяние // Революция 1917 года глазами современников: в 3 т. М., 2017. Т. 2. С. 264 – 267.
- Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. СПб., 1995.
Supplementary files

Note
* Николаев А. Б. Государственное совещание 1917 года: созыв, состав, деятельность. СПб.: Астерион, 2022. 480 с.