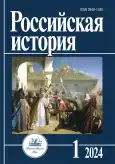Power and cinema of the «developed socialism»
- 作者: Buldakov V.1
-
隶属关系:
- Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
- 期: 编号 1 (2024)
- 页面: 226-234
- 栏目: Reviews
- URL: https://bakhtiniada.ru/2949-124X/article/view/257295
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24010221
- EDN: https://elibrary.ru/BYDKQG
- ID: 257295
如何引用文章
全文:
全文:
Власть и кино «развитого социализма»[1*]
Рецензируемая книга уникальна. Трудно представить себе «микроисторическую» тему, через которую можно было бы по-новому вглядеться в советскую систему, в некотором смысле уловить её суть. И что примечательно, автор книги сделал это, отнюдь не ставя себе такой задачи. Поэтому, прежде всего, о нём самом. Е. В. Цымбал окончил исторический факультет Ростовского университета, но кандидатскую диссертацию не защитил (помешало одно «бдительное» ведомство). Перебравшись в Москву, он занялся подсобной работой на «Мосфильме», а в 1976 г. стал ассистентом А. А. Тарковского, режиссёра фильма «Сталкер». Ему было интересно, хотя мэтр предупреждал: «В кино вас научат лгать, воровать, предавать… И ничему больше» (с. 398). Позднее Цымбал учился на Высших курсах сценаристов и режиссёров, работал и даже снимался в эпизодах у Н. С. Михалкова, Э. А. Рязанова, Л. И. Гайдая и других. Наконец, в 1988 г. самостоятельно снял на «Мосфильме» короткометражную ленту «Защитник Седов» (по повести И. Зверева), получившую множество международных наград, а в следующем году – полнометражный фильм «Повесть непогашенной луны» (по нашумевшей в своё время книге Б. Пильняка), также удостоившийся лестных оценок. Однако в связи с развалом кинематографии Цымбалу пришлось переквалифицироваться в документалиста (снял полтора десятка лент). Параллельно он вёл лекторскую и преподавательскую работу за рубежом, общался с известными деятелями мирового кинематографа.
В общем, автору книги сначала не удалось стать историком, затем – кинорежиссёром (вопреки несомненным способностям к тому и другому). Отсюда, вероятно, желание рассказать об особенностях «своей» кинематографической эпохи. И проделано это на впечатляющем примере.
Обычно историки не любят вторгаться в сюжеты, связанные с культурой – считается, что ею должны заниматься искусствоведы и культурологи. Связано такое самоограничение с давней позитивистской установкой на отмежевание от всего «иррационального». Сегодня ущербность сложившегося положения очевидна. Дело не только в том, что именно культура – в широком смысле слова – довлеет над историческим существованием человека, сказываясь даже на повседневной жизни. «Большая» культура и определяет траектории мировой политики, и лимитирует возможности выбора «исторического пути», и задаёт специфику людских эмоций. Правда, уловить это непросто.
На «самое массовое из искусств» в советской России смотрели как на средство, призванное сначала отвлечь народ от «кабака и церкви» (Л. Д. Троцкий), затем идейно вдохновить, настроить на трудовые подвиги, научить «бдительности», а по ходу дела развлечь. Постепенно кино становилось всё более «рыночным», а кинематографисты – сервильными. Талант разменивался на деньги, об «идейности» стали забывать даже те, кто сделал на ней карьеру. Однако о «государственном интересе» помнили. А поскольку суть последнего становилась всё более неопределённой, штатные охранители не столько наставляли, сколько вставляли палки в колёса «непонятливым» авторам.
Цымбал пишет, что «в России большой талант всегда считался чем-то не вполне нормальным» (с. 281). Иначе быть не могло: система, исторически и психологически связанная с авторитарным патернализмом, воспринимала всякую индивидуальность как нечто несовместимое с собой. О том, как деятели культуры «бодались» с «родной» советской властью, сказано немало. Писали об удивительной полосе препятствий, которую приходилось преодолевать в ходе производства фильмов, создаваемых по самым невинным, а то и заведомо «ортодоксальным» сценариям. Партийный надзор, невежественное начальство, не говоря уже об отсталой технике, превращали кинематографистов в заложников абсурда. К этому добавлялись борьба амбиций и всплески эмоций в самой творческой среде. В данной книге всё это представлено в концентрированном виде. А «попытка реконструкции» рождения киношедевра поневоле обернулась опытом деконструкции советской системы по не замечавшимся ранее критериям и параметрам.
Ситуация руководство–исполнители–народ применительно к позднесоветской эпохе ещё не осмыслена. Люди по-прежнему склонны приписывать власти нерассуждающую репрессивность, осуществлявшуюся через доверенных лиц. Автор книги цитирует писателя Б. С. Ямпольского: «Литературные палачи сменяли друг друга с железной неумолимостью – становясь всё меньше и ничтожнее, вырождаясь из кобры в клопа. Сначала были те, которые сами умели писать, но и убивать хорошо умели, а потом те, которые не могут ни писать, ни убивать, а только кусать» (с. 32). На деле же оказалось не столь просто. Как говорил Тарковский, «руководящие товарищи обуржуазились», были «самодовольны, завистливы, жадны и подозрительны». Они чувствовали себя элитой общества, но при этом банальным образом «стучали» (с. 521). Система пропитывалась ядом взаимного недоверия.
Тем не менее в год 90-летия Тарковского именно Цымбал смог наиболее впечатляюще рассказать о перипетиях работы мастера над его последним снятым на родине фильмом. Небезосновательно упомянув о «девяти кругах ада», он выступил не просто как свидетель или киновед. К работе привлечены мемуары и публикации, связанные с творчеством выдающегося режиссёра, собственные воспоминания и фотографии, документы архивов (РГАЛИ, Архив Госкино СССР, Архив киноконцерна «Мосфильм»). Это не историческое исследование в узком смысле слова, а нечто большее – очерки рождения знаковых кадров фильма (1976–1979) и восприятия его коллегами и начальством. Повествование захватывает благодаря мастерству изложения, включающего юмористические описания некоторых побочных ситуаций. В результате в неожиданном свете предстаёт облик не только советской творческой элиты, но и «приглядывавшей» за ней номенклатуры.
Взаимоотношения внутри творческой среды не бывают благостными. Нельзя назвать покладистым и характер Тарковского. Цымбал рассказывает о некоторых его малоприятных поступках и малопонятных метаниях. Это не просто напоминание того, «из какого сора» растут шедевры. Это попытка показать, в силу каких «внешних» обстоятельств образы перерастают в метафоры, а поступки героев приобретают онтологическую масштабность. Возникает эффект «обратной перспективы», позволяющий увидеть взаимоотношения власти и творческой элиты изнутри и снаружи. Вряд ли можно разглядеть потаённый механизм развала системы иным способом.
Тарковскому, сыну фронтовика, журналиста и поэта, когда-то бросившего учёбу в Институте восточных языков и едва не превратившегося в столичного плейбоя, пришлось не столько «создавать прекрасное», сколько в буквальном смысле слова выживать. Это составляло суть творческой деятельности в условиях социализма. При этом Тарковскому-младшему относительно везло. В своё время фильм «Андрей Рублёв» оказался «положен на полку», и только заступничество Г. М. Козинцева, Д. Д. Шостаковича, В. Б. Шкловского, а также «почти единодушное признание мировой кинокритики вернуло этот шедевр к жизни» (с. 30). Но становиться в ряд одобренных властью корифеев Тарковский не желал. В феврале 1975 г. руководитель Госкино Ф. Т. Ермаш предложил ему снять фильм о… В. И. Ленине. Режиссёр сделал вид, что готов согласиться, но затем отговорил министра-«доброхота» от этой (то ли вздорной, то ли провокационной) затеи (с. 124–125).
В общем, рождение «Сталкера» стало своего рода побочным продуктом взаимодействия противоречивых интересов: режиссёра, руководства «Мосфильма» (где ему сочувствовали), Госкино (где «бдели»), наконец, ЦК КПСС (где надзирали, одёргивали, наказывали, хотя порой и поощряли). Что, к примеру, заставляло Ермаша раз за разом отступать? По всей вероятности, решения партийных инстанций, поддержка друзей Тарковского «наверху», восторженная реакция на его предыдущий фильм «Зеркало» за рубежом. Ещё одна причина, считает Цымбал, заключалась в том, что бюрократия стала бояться международного скандала, в результате которого могли вскрыться тёмные дела ряда «ответственных» чиновников (с. 500). Директивная по своей природе система делалась всё более боязливой, т. е., в конечном счёте, неуверенной и потому обречённой. Впрочем, последнее стало понятно лишь после её развала; современники считали, что имеют дело с «нерушимым единством партии и народа».
Кинорежиссёр не может работать без сценария или хотя бы без впечатляющей фабулы. Согласно Цымбалу, Тарковский обратил внимание на литературные успехи А.Н. и Б. Н. Стругацких довольно давно. Писатели не были фантастами в привычном для советского читателя смысле слова. А. Н. Стругацкий как-то объяснил Цымбалу: «В нашей стране есть только один научный фантаст – Карл Маркс. А остальные фантасты – совсем не научные. Включая нас с братом». Поэтому эти авторы всегда были готовы «осовдепить» свой текст (с. 423).
Между тем система впала в застой, сопровождавшийся жалкой попыткой тогдашних идеологов вдохновить недавних «строителей коммунизма» призраком «развитого социализма». Как результат, «пышно расцвели религиозные и мистические течения». Люди искали новых «наставников» (с. 281), тянулись ко всему необычному и запретному (со временем это выродилось в конспирологию).
Что впечатлило Тарковского в повести «Пикник на обочине»? Вероятно, образ метафизической экстремальности человеческого бытия в результате случайного «столкновения цивилизаций». Однако окончательному выбору «помог» случай: простой режиссёра растянулся на пять лет, денег отчаянно не хватало. Он разрывался между проектами сомнительной «проходимости»: «Идиотом» по Ф. М. Достоевскому, «Смертью Ивана Ильича» по Л. Н. Толстому, «Гофманианой» и т. п. В середине августа 1975 г. в небе над деревенским убежищем Тарковского возникло необычное явление. «Надвигалось сияние, похожее на шляпку гриба и ограниченное по дуге более ярким свечением, подобным лунному», – записал он со слов жены, сына и ещё одного свидетеля. «Нужно знать суеверность и мнительность Тарковского, чтобы понять, какое впечатление произвело на него это событие», – считает Цымбал. Может быть и так, хотя склонность творческих людей связывать свои поступки со «знаками судьбы» – явление довольно обычное. Как бы то ни было, Тарковский в очередной раз вспомнил о «Пикнике» (с. 139–140, 142).
Повесть может показаться незатейливой. Способна ли нести какой-либо особый смысл невольная шутка инопланетных туристов, беззаботно оставивших технологический «мусор» в жизненном пространстве «дикарей»? Возможно, посыл заключался в том, что некоторые невозможные явления словно материализовались на бытовом уровне, «метафизика» предстала атрибутом «буржуазной» повседневности. Повесть даже несла в себе определённый патриотический заряд, полезный выпад по адресу «бездуховного» Запада: единственный положительный герой – советский учёный, искренне веривший, что опасные инопланетные диковинки из Зоны могут осчастливить человечество. Напротив, Сталкер хаживал туда за «зелёными» – этим мерилом «буржуазного счастья».
Стругацким, похоже, хотелось просто «расшевелить» обывателя. Но чем? Объяснить, до какой степени мы зависимы от Случая, фактора непредсказуемости? Рассказать, как всякое человеческое желание в советской системе неизбежно вырастает до заклинания: «Счастье всем, бесплатно!». Или о том, что тогдашняя наука была практически бессильна и аксиологически бессодержательна? Но это стало понятно ещё столетием ранее.
Во всяком случае, повесть выглядела идеологически нейтральной и не вызвала у охранителей «принципиальных» претензий (с. 37–38). Скрытых смыслов они уже не искали: им важно было не пропустить видимых нападок на советскую действительность. Однако настораживала способность Тарковского видеть в обыденных вещах «нечто, делающее их странными и таинственными», его умение воспроизводить на экране «магическую простоту, создающую ирреальность» (с. 530, 535).
А главное, образ Зоны не мог не породить у мнительного советского человека массу ассоциаций с современностью. Зритель получил право воспринимать происходящее на экране в соответствии со своим социально-историческим опытом и воображением. Так или иначе, и писатели, и режиссёр говорили со «своей» публикой на языке, непонятном бюрократам, использовали художественный язык, отличный от языка признанных советских «мастеров культуры». В «монолите» возникал поток «параллельной» духовной жизни. Найти противоядие от него стало уже невозможно.
Художник всегда вольно или невольно «хитрит»: творчество должно прикидываться «глуповатым» (Пушкин), т. е. вроде бы доступным. Между прочим, чтобы «пробить» заявку Стругацких (сценарий проходил тогда под несуразным названием «Машина желаний»), руководство Мосфильма использовало стандартные коммунистические доводы: «Разоблачение агрессивных устремлений военно-промышленного комплекса одного из современных империалистических государств» (с. 149). Однако Тарковский был далёк от этого, его творчество тянулось к чему-то неведомому. В натурных кадрах буквальное словно перетекало в метафорическое, конкретное – в символическое, обыденное – в сакральное. Художник силой своего таланта способен – вольно или невольно – поставить человека перед вечными загадками бытия, разгадать которые подчас не под силу и ему самому. Кто-то включается в эту «игру», кто-то её не замечает, кого-то она отвращает.
В этих условиях и произошло рождение «Сталкера». Тарковский не был ни диссидентом (хотя подписывал известного рода петиции), ни авангардистом или модернистом. Он упорно отстаивал классическую линию художественного творчества. По отношению к «зубрам» советского кино, сросшимся с партийной номенклатурой, он испытывал скорее «патриотическую тревогу»: «Орденоносцы и облечённые званиями, не умеющие связать двух слов, превратили наше кино в руины». Политика Госкино вызывала у него недоумение: «Неужели опять сидеть годы и ждать, когда кто-то соизволит выпустить картину? Что же это за поразительная страна, которая не хочет ни побед на международной арене..? Настоящее искусство их пугает… ибо оно гуманно, а их назначение давить всё живое, все ростки гуманизма… Они не успокоятся до тех пор, пока не превратят личность в скотину. Этим они погубят всё – и себя и Россию» (с. 41).
Нельзя сказать, что бюрократы того времени бездумно давили всякое проявление творческого инакомыслия. Появлялись среди них даже «либералы». В общем, заботы кинематографического начальства по части духовного воспитания «незрелых масс» усложнялись. Соответственно приходилось решать, кому из режиссёров (учитывая степень их «понятливости»), что конкретно (в смысле востребованности наверху и внизу) и когда снимать. В результате «благожелательные» по форме наставления принимали форму то ли удушающих объятий, то ли игры в кошки-мышки. Для режиссёров это оборачивалось вынужденным простоем, т. е. выливалось в «наказание рублём». Наконец, чиновники решали, кого из жертв своей «заботы» на каком кладбище хоронить (с. 110).
Разумеется, сами кинематографисты не ангелы: «хитрили» с начальством, стремились «подхалтурить» написанием занятных сценариев2, искали «проходные» темы, жаловались «наверх». Сам Тарковский готов был использовать угрозы «пожаловаться Брежневу», обратиться в ЦК КПСС (с. 99–100, 172, 176, 174, 181), написать письмо XXV съезду партии. В последнем случае уловка сработала: в верхах любили одёргивать исполнителей, последние же с холуйской готовностью каялись в чрезмерном усердии. Более того, и Ермаш, и его заместитель Б. В. Павленок «благословили» и Тарковского, и Стругацких на новые творческие достижения (с. 191–192, 231), а позднее Ермаш без звука подписал приказ о переводе «Сталкера» в двухсерийную картину «с соответствующими дотациями» (с. 424). В 1978 г. Совет министров СССР принял невероятное, казалось бы, решение: сроки производства ленты фактически не ограничивались (с. 506).
Дьявол порой становится услужливым. Цымбал считает, что в КГБ и ЦК знали об отчаянном положении и настроениях «доведённого до крайности» Тарковского, готового покинуть СССР, чем и объяснялись уступки (с. 256). Люди противоположных установок оказывались в симбиозе друг с другом, «палачи» и «жертвы» попадали в заколдованный круг – объективно им приходилось обслуживать систему даже вопреки своим желаниям.
Что интересно, некоторые начальственные «благожелатели» Тарковского оставили после себя «недоумённые» мемуары. Так, Павленок – в прошлом небесталанный журналист, однако, по характеристике Тарковского, «неприятный, грубый и тёмный человек» (с. 61), – с лёгкостью отмежевался от «чиновных эстетов», «возня» которых якобы сломала волю создателя «Рублёва». Этим, рассуждал он, «добились только того, что в глазах интеллигенции Тарковский стал мучеником, а страдальцам на Руси всегда поклонялись»3.
А после того, как удалось «пробить» показ «Зеркала», тот же Павленок, оставшись наедине с автором, полюбопытствовал: как возникла потребность использовать библейский образ «Неопалимой купины»? Тарковский якобы «процедил сквозь зубы»: «Я библию не читал…». «Такая откровенная ложь и нежелание разговаривать меня даже не обидели: он в каждом “руководящем” вопросе видел подвох, – комментировал мемуарист. – А мной руководил неподдельный интерес к его творческому методу»4.
Характерно, что разрешение на съёмку стало для Тарковского неожиданностью. Сценарий фильма не был готов. Получается, что будущий шедевр оказался плодом целого цикла авторских метаний и лихорадочных импровизаций. О мучительных тяготах этого процесса Цимбал рассказывает порой с натуралистическими подробностями.
Примечательны демагогические приёмы, с помощью которых руководители Мосфильма, особенно его Экспериментального творческого объединения (не случайно вскоре распущенного), отстаивали ещё не готовый сценарий. Будущее кинопроизведение представлялось актуальным в связи с «разоблачением агрессивных устремлений военно-промышленного комплекса одного из современных империалистических государств»; автор решает кардинальную задачу ХХ в. – «атомная война или мир во многом зависит от ЧЕЛОВЕКА» (с. 149, 179). Между тем внешнеполитическая обстановка двинулась в ином направлении – готовилось Международное совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Однако заслуженные деятели кино использовали «проверенную» антиимпериалистическую риторику, а киноначальники запрещали то, чему внутренне сочувствовали. Это внутреннее «двуличие» системы ускорило её развал.
В таких условиях профессия кинорежиссёра становилась всё более нервной, что постоянно оборачивалось стрессами, болезнями и преждевременными смертями. В апреле 1978 г. в возрасте 46 лет Тарковский перенёс инфаркт. Обычно сдержанный Б. Н. Стругацкий реагировал бурно: «суки» (начальники) его «доконали». И добавил к этому пожелание: «Чтоб им всем сдохнуть в этом же году!» (с. 508).
Не удивительно, что «съёмки стали таким же хождением по кругам ада, как и тот путь, которым шли персонажи фильма». Замысел картины лишь складывался, приходилось действовать методом проб и ошибок. А тем временем некоторые коллеги, особенно старшего поколения, «воспринимали плохие новости со “Сталкера” с явным удовлетворением». Стали поговаривать, что Тарковский оказался «дутой фигурой» и «звезда его закатилась» (с. 412, 413).
Человеку важно понять, куда, зачем, в какой мир, в какое время он был заброшен судьбой. Это необходимо, чтобы попытаться оптимально распорядиться собственными возможностями. Вряд ли кому это удаётся вполне – такова вечная история Сталкера. Цымбал не случайно заметил, что в любом фильме Тарковского «главный герой – если это мужчина – это практически один и тот же характер. Это творец: сомневающийся, рефлексирующий, обуреваемый комплексами, болезненный, физически слабый человек. Но сильный духом, последовательный и упорный в достижении цели… В значительной степени это отражение характера самого Тарковского» (с. 458). Действительно, режиссёр гнул свою линию, всё больше отходя от Стругацких («фантастика без фантастики», с. 402), предпочитая реальность, затянутую характерным российским «туманом» (с. 258).
В фильме ему подыгрывают всего два персонажа – Писатель и Учёный. Первый (Н. Г. Гринько) выступает занудливым скептиком, второй (А. А. Солоницын) – обозлённым реалистом. Оба они по житейским понятиям люди состоявшиеся, но «неудачники»: раздвинуть границы познания не удаётся ни с помощью воображения, ни в результате позитивистских экспериментов. Заведомым неудачником предстаёт и Сталкер – человек, отчаянно пытающийся вдохнуть надежду в опустошённых людей. Такой разворот сюжета мало кому мог понравиться – ещё не отвыкли от обязательного советского «оптимизма». Не случайно мучительно страдал от навязанного ему амплуа А. Л. Кайдановский, привычный герой которого – «победитель», а не «блаженный».
Конечно, кино «врёт». И, несомненно, оно представляет собой величайший в истории (до появления телевидения) симулякр живой жизни. Но как добраться до истины, если не с помощью тотальной лжи, дошедшей до абсурда? Книга убеждает, что режиссёр это понимал как никто, создавая свою особую, «похоже-непохожую» кинореальность.
Коллеги, даже искренне симпатизировавшие Тарковскому, далеко не всегда приходили в восторг от его замыслов и приёмов их реализации. А. Г. Зархи ещё в 1977 г. говорил, что Тарковский, с одной стороны, «крупный художник», с другой – «фигура одиозная» (с. 741). Позднее О. Д. Иоселиани рассказал Цымбалу, что его не устраивает в «Сталкере»: «Громоздкость надуманных рассуждений», чрезмерная продолжительность, наконец, то, что она «ужасно серьёзная, абсолютно без юмора». Редактор фильма А. Я. Степанов высказался более обстоятельно. Его не устраивало «рациональное» и «проповедническое» начало при отсутствии привычного эмоционального накала. Главные герои – «фактически… маски, отражающие абсолютно рациональное распределение ролей» (с. 703–704).
Реакция понятна. Гений ставит цель, которую не видит никто. Соответственно выстраивается линия её достижения с использованием соответствующих – оптимальных, как ему кажется, – выразительных средств. Талант деспотичен, его обладатель беспощаден и к самому себе, и к окружающим. Но оценивается всё это обычно по совершенно иным – вполне банальным – критериям. К тому же Тарковский, по свидетельству современников, «никогда не мог точно объяснить, чего он хочет»5. Да и знал ли он, во что выльются его усилия?
Очень многим хотелось увидеть в фильме привычного Тарковского – такого, каким приняла его власть и они сами, т.е. автора «Иванова детства», «Рублёва», «Соляриса», «Зеркала». О том, что всякому художнику в поисках истины не стоит повторяться, они не задумывались. Их вполне устроил бы автор, вставший в длинную шеренгу обласканных властью «ручных гениев», о которых с презрением говорил сам Тарковский (с. 50). Такова природа «благожелательности», охватившей все сферы советской – становящейся всё более застойной – жизни.
Старая, как мир, система репрессивности прикидывалась не только самой передовой, но и единственно справедливой. Это растущее несоответствие лишь приближало её развал. Возможно, Тарковский просто устал за этим наблюдать. Отсюда болезненное решение – отъезд за границу.
При известных обстоятельствах талант может стать легендой, гений – мифом. Цымбал это учитывает, ничуть не идеализируя Тарковского. Столь же «понимающе» и благожелательно он относится к его сподвижникам. Исключение сделано для последней жены режиссёра, одержимой, по его мнению, демоном делячества (такое соседство с великим художником тоже не редкость).
Книга Цымбала выделяется в ряду обычных юбилейных потоков славословия с непременным напоминанием о своей близости к гению. Так, Николай Бурляев, обязанный своей кинокарьерой «Иванову детству» и «Рублёву», объявил себя «соавтором и другом» Тарковского. Что, по крайней мере, странно, если сопоставить возраст и статус юного актёра и режиссёра во время работы над этими картинами.
Автор создал уникальную, блестящую по стилю, богатую невидимыми сторонами творческой обыденности работу. Вероятно, он адресовался в первую очередь киноведам, искусствоведам и, разумеется, труженикам кинопроизводства. Но стоит вчитаться в его текст и профессиональным историкам.
Примечания
[1*] Цымбал Е. Рождение «Сталкера»: попытка реконструкции. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 768 с.
2 Кончаловский А. Возвышающий обман. М., 1999. С. 18, 51.
3 Павленок Б. В. Кинолегенды и быль: воспоминания и размышления. М., 2004. С. 115.
4 Там же. С. 73.
5 Кончаловский А. Низкие истины. Семь лет спустя. М., 2006. С. 168.
作者简介
Vladimir Buldakov
Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
编辑信件的主要联系方式.
Email: info@rcsi.science
доктор исторических наук, главный научный сотрудник
俄罗斯联邦, Moscow参考
补充文件