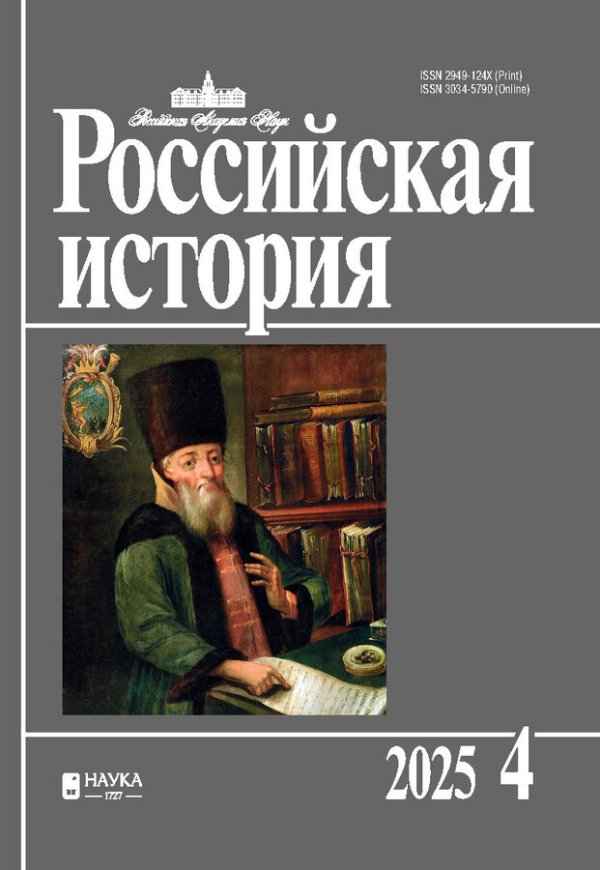The living memory of South Russian Slavophilism
- Authors: Kotov A.E.1
-
Affiliations:
- Saint Petersburg State University
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 163-167
- Section: Reviews
- URL: https://bakhtiniada.ru/2949-124X/article/view/264342
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24030133
- EDN: https://elibrary.ru/GCRNIC
- ID: 264342
Cite item
Full Text
Abstract
Olga Leonidovna Fetisenko is a famous researcher of Russian conservative thought of the second half of the 19th century, publisher of the complete works of K.N. Leontiev and a number of epistolary complexes associated with him. Her new monograph is dedicated to the forgotten Russian writer N.S. Sokhanskaya (Kokhanovskaya). At first glance, this book is intended primarily for philologists and literary scholars. However, it will certainly be useful to historians studying the social life of Russia in the mid-19th century. After all, the main attention in it is paid to the study of Kokhanovskaya’s literary connections and her journalism. In the writer’s work, Fetisenko identifies “two main directions”: a kind of “archeology” of southern Russian “antiquity” and “a response to current events in their “small details”.”
Keywords
Full Text
Ольга Леонидовна Фетисенко – известный исследователь русской консервативной мысли второй половины XIX в., издатель полного собрания сочинений К. Н. Леонтьева и ряда связанных с ним эпистолярных комплексов 1. Ранее ей удалось осуществить научную реконструкцию системы взглядов мыслителя, которая, как оказалось, в реальности была весьма далека и от «ницшеанских» интерпретаций Серебряного века, и от современных попыток выдать «византизм» за некий «православный сталинизм» 2.
Новая монография Фетисенко посвящена забытой русской писательнице Н. С. Соханской (Кохановской). На первый взгляд, эта книга предназначена прежде всего филологам и литературоведам. Однако она безусловно будет полезна историкам, изучающим общественную жизнь России середины XIX в. Ведь основное внимание в ней уделено литературным связям Кохановской и её публицистике (с. 7).
В творчестве писательницы Фетисенко выделяет «два основных направления»: своеобразную «археологию» («увековечение старины с её преданиями, святынями, песенной традицией и речевой архаикой») и «отклик на текущие события в их “маленьких частностях”». При этом «в отличие от представителей натуральной школы, сетуя на отсутствие в России подлинной “литературы фактов”», Соханская «ставила перед собой при собирании “живых заметок” ту же самую задачу, что и в художественной “археологии”, – изучение “родного нашего осязательно-присущего духа”», и, по сути, выступала «как историк национального самосознания» (с. 174). Таким образом, на страницах книги Кохановская представлена не только как беллетрист, но скорее как общественный деятель славянофильского круга.
Как и для «отцов» славянофильства, для Кохановской характерна укоренённость в национальной «почве», тесная связь с малой родиной – для неё это были Слободская Украйна и Новороссия, «маленький степной хутор Макаровка в Изюмском уезде Харьковской губернии» (с. 13). Отсюда и подзаголовок книги, взятый из названия программной для писательницы статьи «Степной цветок на могилу Пушкина» (с. 92). Указывая на «смешанное украинско-польско-русское происхождение» Надежды Степановны (с. 6), Фетисенко отмечает: «Жизнь на самой границе двух культур, опознаваемых, впрочем, как часть единой культуры, поразившее современников языковое новаторство или, на другой взгляд, речевая архаика (на самом деле – владение теми пластами языка, которые были забыты или же мало проникали в художественную литературу), глубокое знание южнорусского и малороссийского фольклора, теснейшая, поистине соседская связь с украинскими хуторянами, – всё это говорит о том, что Кохановская (Н. С. Соханская) – именно тот писатель, к которому стоит присмотреться сейчас, желая отыскать исторический прецедент со-бытия двух народов» (с. 5–6).
Характерно, что в своём творчестве она изначально ориентировалась «именно и только на русскую культуру и русский язык», воспринимая «украинское слово» как «южнорусское наречие» (с. 15). «Вы не малороссиянка; Вы – дочь Украйны, в том смысле, как понимала Украйну наша старина, – писал ей К. С. Аксаков, – Украйны, где оба элемента встречаются, взаимно помогают друг другу, но и взаимно ослабляют друг друга» (с. 16). В сущности, она являлась ярким представителем «большого» или, как скажут позднее, «триединого» русского народа. По мнению Фетисенко, «обращение к личности и слову Кохановской важно даже в исторической прагматике и стратегии наших дней: ведь она гармонично соединяет в себе две культуры, которые, надеемся, до конца никогда не смогут быть расторгнуты, как бы над этим ни трудились. Само место её жительства – скажем словами из старинной оперы “Аскольдова могила” – “близко города Славянска” знаменательно. Её особая любовь к Крыму, паломничество туда и мечта поселиться там, её почитание могил героев Севастопольской обороны тоже как будто обращены прямо к нашим дням» (с. 39).
Как и другие работы Фетисенко, данная монография основана на широком круге архивных источников. Однако собственный архив Соханской утрачен. Сохранились лишь некоторые её письма, небольшая их часть опубликована, а остальные рассеяны по личным фондам её корреспондентов. Среди них особенно важна переписка с Аксаковыми – «ценный, а в некоторых случаях просто уникальный источник для истории славянофильства, аксаковских периодических изданий, русского литературного быта, наконец, истории провинциальной культуры» (с. 12).
Оспаривая утверждение А. А. Григорьева о «подчинении этого блестящего таланта славянофильским теориям» (с. 87), Фетисенко показывает, что взгляды Надежды Степановны сложились ещё до её знакомства со славянофилами. Кстати, свойственную им «кружковщину» она так и не приняла. Поэтому, несмотря на первоначальную «радость встречи с мощным голосом, который, казалось, создан для того, чтобы влиться в славянофильский “лик” (хор)» (с. 85), в аксаковских письмах вскоре зазвучало беспокойство о «монархических мотивах», обнаруженных в статье Кохановской о Пушкине (с. 92), начались попытки «проверить» писательницу, «живущую в песенной культуре», на «истинную народность» (с. 93). В 1860 г. К. С. Аксаков ригористически твердил, что «более всего боится нечистого союза» (с. 100). Отвечая ему, Соханская недоумевала: «Но неужели славянофилы не любят – они, которые проповедывают любовь и братство с самыми отдалёнными славянскими племенами, исполнены такого жаркого внимания и сочувствия к своему народу? А к своим наиближним братьям, к своим соперникам на поприще проповеди исполнены они сочувствия? Да, конечно. “Мы никому не мешаем сочувствовать нам на половину, на четверть и ещё менее; но уж и стой на своём месте, на законном отдалении, не подходя ближе того, как ты стоишь на самом деле. Ни в свой тесный круг, ни в свои действия ни тени сделки мы не допускаем”. И не допускайте этой тени, но удалите аскетизм партии. Вместо того, чтобы радостно, по-русски приветствовать, распахнувшись душою, первые ростки того семени дорогого, которое с таким трудом и опасною решимостию Вы сами 20 лет назад положили в землю, – Вы что же говорите, мой старый многоуважаемый знакомый! Вы говорите: “опасная минута” – что Вы более всего боитесь “нечистого союза” и во избежание чего думаете ещё более сомкнуться, сжаться, схорониться в один тесный славянофильский кружок. Как это грустно! И для чего же?» (с. 101).
Впрочем, эти споры не помешали Кохановской занять видное место на страницах аксаковского «Дня». Читая одну из её повестей, бывший редактор «Журнала землевладельцев» А. Д. Желтухин не случайно констатировал, что «она, как главная тема в создании музыкальном, поддерживает строй и единство в направлении издания, по необходимости толкующем о предметах разнообразных, и воплощает в образы ту величавую простую и любовную идею православно-русскую, которой проводником служит “День”» (c. 109).
Публиковалась она и в «Москве». В этих органах славянофильской печати появлялись её интереснейшие «Письма с хутора» с описанием малороссийского быта, повести (например, «Рой-Феодосий Саввич на спокое»), заметка об известном местном монастыре (с. 112–113), в которой воспевалась «Святогорская скала и эта меловая церковь на скале в красоте и зелени соснового леса» (с. 178). В очерках «Поездка на Волынь» в 1867 г. говорилось о посещении Киево-Печерской лавры и Острога, изображённого как «Сион православия не только для Волыни, но и для всего, что было тогда Литовскою Русью и Киевскою святорусскою землёй» (с. 235). Глядя там на княжескую усыпальницу, писательница восклицала: «Но может ли этот мученический гроб не убраться цветами новой весны, когда единственная уния, которую теперь исповедует глагол нашего времени, есть теснейшее воссоединение всего русского народа, есть живая связь общественного понимания всех его отдельных страданий и существований в одной святыне нашей исторически-всенародной жизни, сначала шедшей с юга на север и теперь возвращающейся с севера на юг, до русского моря и всего православного востока» (с. 237).
Активно участвовала Соханская и в общественном движении 1870-х гг. В 1876–1878 гг., «когда залилась мученическою кровью славянская земля, когда всякое русское сердце дрогнуло и заболело родною святою болью» (с. 240), она помогала добровольцам, отправлявшимся в Сербию, и раненым в боях на Балканах. В «Русском мире» выходили её статьи и очерки, посвящённые поездке в 1876 г. в Севастополь, ещё не восстановленный после разрушений 1854–1855 гг. Эти тексты, а также связанные с ними письма Фетисенко впервые вводит в научный оборот. Как и многим, писательнице казалось, что «только в водах Золотого Рога могут быть достойно омыты утрудившиеся ноги русского воителя за братнюю кровь» (с. 255). Когда же этим мечтам не довелось осуществиться, наступило разочарование. «В прошлом году, – признавалась она, – война поглотила всё внимание моей русской души, я и одной строчки не могла написать. Теперь, отгоревавши наш несчастный мир, выливши в нескольких письмах всю бурю душевного негодования на парадного лакея Биконсфильда, нашего Шувалова, так знатно себя показавшего на запятках кареты Берлинского конгресса, я с глубокой скорбью и со слезами предала Славянское дело воле Божией и теперь не гляжу и не читаю газет, никаких политических известий» (с. 256).
В письмах к Н. А. Чуеву, опубликованных в приложении к книге, Надежда Степановна, вполне в духе Н. Я. Данилевского, обличала «фарисейскую Европу» как «окаянную ненавистницу славян» (с. 384) и предсказывала грядущее столкновение, при котором, «когда бы ни наступило это грозное кровавое гнетение винограда и исторических отношений Европы к Славянству, мы должны знать и быть готовы к тому: что на одном крыле у нас, во врагах наших, будет стоять славянская окатоличенная Польша; а на другом, увы!, сама мать православия – англизированное Королевство Греции, и, таким образом, недостатка в самых заклятых врагах, какими обыкновенно бывают кровные и духовные, не идущие ни на какую мировую, – этого недостатка у России с славянами не будет. Чаша горечи полна будет до краёв» (с. 386).
Раскрывая литературные связи Соханской, Фетисенко освещает не только общение писательницы с такими её единомышленниками, как П. А. Плетнёв, К.С. и И. С. Аксаковы или М. Ф. Де-Пуле, но и едкие упоминания о ней в романах и переписке И. С. Тургенева (с. 145). Нельзя было не сказать и о неприязни Надежды Степановны к Ф. М. Достоевскому, проявлявшейся с 1860-х гг. «Понимаю всё Ваше негодование, – поддерживал её тогда И. С. Аксаков, – и слышу всю здоровую его силу. Это ещё что, “Эпоха”! А вот прочтите-ка за эти же месяцы “Современник” и “Русское слово”. Просто делается какое-то физическое ощущение тошноты, точно чего-то скверного наелся. Вот цветы петербургской почвы! Впрочем, законные цветы. Дело не в цветах, а в почве, и почва эта не в одном городе Санкт-Петербурге, а везде и всюду, где правда жизни слишком тяжело накрыта слоем лжи и фальши нашей Петровской цивилизации» (с. 161). Сама Соханская, обращаясь к гр. Л. Н. Толстому, выразилась ещё резче: «Это был один из Ваших неверующих: ожесточённый, загрязнённый нравственно до цинизма, оставшегося даже на многих страницах, нечитаемых, его последнего произведения. В сравнении с этою вороной, наклевавшеюся всякой мертвечинной гадости, Ваша душа, как она отражается в зеркале Ваших произведений, есть чистая голубица. Зато и каким же тяжким путём шёл и прошёл Достоевский даже до самого “Мёртвого дома”, чтобы ему ожить, очиститься и обновиться душой!» (с. 161–162). После таких оценок опубликованный в 1884 г. отклик умиравшей от рака писательницы на «Исповедь» графа, подробно рассмотренный в монографии (с. 263–276), кажется просто образцом доброжелательности и подлинного свободомыслия.
Книга О. Л. Фетисенко – лишь первый шаг на пути к возвращению забытой писательницы в отечественный «литературный канон» и в интеллектуальную историю второй половины XIX в. Уже выходит семитомное полное собрание сочинений Н. С. Соханской. В 2023 г. появились первые три тома, включающие преимущественно беллетристические произведения 3. Очевидно, в ближайшее время следует ожидать переиздания её эпистолярного и публицистического наследия.
1 См., в частности: Котов А. Э. Рец.: Пророки византизма: Переписка К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова (1875–1891) / Сост., вступ. ст., коммент. О. Л. Фетисенко // Российская история. 2012. № 3. С. 208–211.
2 Фетисенко О.Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб., 2012. Подробнее об этом исследовании см.: Семикопов Д. В. Смелость его мысли пугала всех // Российская история. 2014. № 2. С. 4–8; Репников А. В. «Личность… грешная, ломаная, в которой, однако, есть и великие силы добра» // Российская история. 2014. № 2. С. 9–15; Котов А. Э. Люди и руины неудавшейся контрреформации // Российская история. 2014. № 2. С. 16–19; Бадалян Д. А. Леонтьев и «слишком либеральные» славянофилы // Российская история. 2014. № 2. С. 19–23; Стогов Д. И. Воздействие идей К. Н. Леонтьева на русских монархистов начала XX в. ещё нуждается в исследовании // Российская история. 2014. № 2. С. 23–26; Мамонова Е. В. «Православные миряне» в спорах о Церкви // Российская история. 2014. № 2. С. 26–30; Хорошева А. В. Конфликт двух исторических схем // Российская история. 2014. № 2. С. 30–34; Хатунцев С. В. «Кносский дворец» гептастилизма // Российская история. 2014. № 2. С. 34–37; Чесноков С. В., Чернавский А. Ф. Русские истоки исторической антропологии // Российская история. 2014. № 2. С. 37–39; Тесля А. А. Леонтьев и окрестности // Российская история. 2014. № 2. С. 40–42.
3 Кохановская (Н. С. Соханская). Полное собрание сочинений и писем в 7 т. / Под ред. О. Л. Фетисенко. Т. 1–3. СПб., 2023.
About the authors
Aleksandr E. Kotov
Saint Petersburg State University
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
доктор исторических наук, профессор
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Бадалян Д.А. Леонтьев и «слишком либеральные» славянофилы // Российская история. 2014. № 2. С. 19–23;
- Котов А.Э. Рец.: Пророки византизма: Переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова (1875–1891) / Сост., вступ.ст., комм. О.Л. Фетисенко // Российская история. 2012. №3. С. 208–211.
- Котов А.Э. Люди и руины неудавшейся контрреформации // Россий-ская история. 2014. № 2. С. 16–19;
- Кохановская (Н.С. Соханская). Полное собрание сочинений и писем в 7 т. Т. 1: Автобиография (1847-1848). Повести и рассказ (1844-1851). СПб., 2023.
- Кохановская (Н.С. Соханская). Полное собрание сочинений и писем в 7 т. Т. 2: Произведения 1851-1861 годов. СПб., 2023.
- Кохановская (Н.С. Соханская). Полное собрание сочинений и писем в 7 т. Т. 3: Произведения 1861-1880 годов. СПб., 2023.
- Мамонова Е.В. «Православные миряне» в спорах о Церкви // Рос-сийская история. 2014. № 2. С. 26–30;
- Репников А.В. «Личность… грешная, ломаная, в которой, однако, есть и великие силы добра» // Российская история. 2014. № 2. С. 9–15;
- Семикопов Д.В. Смелость его мысли пугала всех // Российская исто-рия. 2014. № 2. С. 4–8;
- Стогов Д.И. Воздействие идей К.Н. Леонтьева на русских монархи-стов начала XX в. ещё нуждается в исследовании // Российская история. 2014. № 2. С. 23–26;
- Тесля А.А. Леонтьев и окрестности // Российская история. 2014. № 2. С. 40–42.
- Фетисенко О.Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собе-седники и ученики. СПб., 2012.
- Хатунцев С.В. «Кносский дворец» гептастилизма // Российская исто-рия. 2014. № 2. С. 34–37;
- Хорошева А.В. Конфликт двух исторических схем // Российская исто-рия. 2014. № 2. С. 30–34;
- Чесноков С.В., Чернавский А.Ф. Русские истоки исторической антро-пологии // Российская история. 2014. № 2. С. 37–39
Supplementary files

Note
* Фетисенко О. Л. Кохановская: «Степной цветок» русской словесности: тексты и контексты Н. С. Соханской. СПб.: Пушкинский дом, 2021. 424 с.