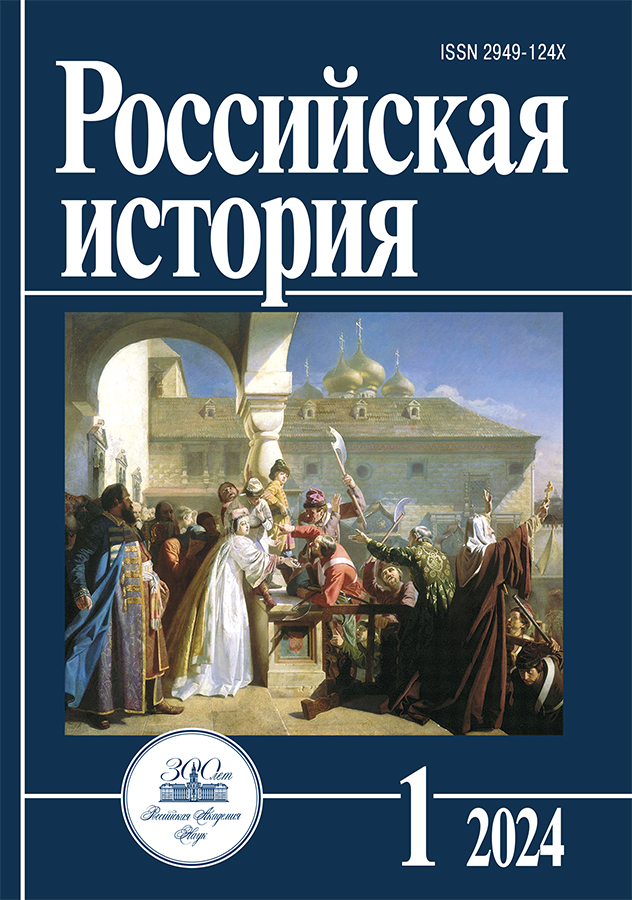Controversial problems of the history of enserfment and migration in Russia at the end of the 16ʰᵗ– first half of the 17ʰᵗ century
- Authors: Arakcheev V.1,2
-
Affiliations:
- Russian State Archive of Ancient Acts
- Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 31-48
- Section: Institutions and communities
- URL: https://bakhtiniada.ru/2949-124X/article/view/257080
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24010042
- EDN: https://elibrary.ru/CNVMMY
- ID: 257080
Cite item
Full Text
Full Text
Публикация дискуссионной статьи К. Ю. Ерусалимского о взаимосвязи крепостного права и миграционной политики – знаковое явление, обозначающее возвращение в научный дискурс ключевой проблемы истории России раннего Нового времени1. Нижеследующие полемические заметки представляют собой не только ответ на критику уважаемого автора, но и свод аргументов, призванных уточнить обоснованную мною ранее концепцию2.
К. Ю. Ерусалимский поставил своей задачей выявить «истоки новаций в праве на крестьянские души и их собственность» и категорически выступает против того, чтобы искать их «в особенностях феодальных порядков, классовой природе эксплуатации тяглого населения феодалами и в интересах крестьянского “мира”». Автор полагает, что российской историографии о крепостном праве свойственно «научное забвение» таких сопровождавших его развитие факторов, как «дипломатические договорённости и многолетняя война, вызвавшая разруху и ухудшение жизни низших слоёв российского общества и усиление податного бремени»3. Одним словом, Ерусалимский убеждён в невозможности объяснить генезис крепостного права в России эндогенными факторами, настаивая на экзогенном характере причин происходивших сдвигов.
Автор выдвинул ряд гипотез, обоснованных с разной степенью убедительности. Прежде всего он подверг ревизии умозаключения историков о «заповедных годах», и с рядом его заключений следует согласиться. Не подлежит сомнению обоснованный мною ранее и поддержанный Ерусалимским вывод об отсутствии документальных свидетельств издания «указа о закрепощении» 1592 г., доказательству существования которого посвятил свои труды В. И. Корецкий4. Столь же очевидно ключевое значение миграций населения, приводивших в конце XVI в. к сокращению налогооблагаемой базы государства и ставивших под угрозу его обороноспособность. Миграционный поток на южные и восточные границы государства до середины XVII в. неисчисляем ввиду отсутствия источников, но о его значительных масштабах можно судить по темпам освоения «Дикого поля», Поволжья, Урала и Сибири.
Вразрез с двухвековой историографической традицией Ерусалимский выдвинул и попытался обосновать гипотезу о том, что в указах о «заповедных летах» и урочных годах подразумевался запрет на выход крестьян, посадских людей и холопов за западную границу государства, а предметом расследований были нарушения запрета на приграничные «выходы» и побег за границу. «Ограничение выходов за государственные границы и отражено в международных договорах Российского царства и связанных с ними указах, известных как предвестие крепостничества, и именно с этими договорами прямо коррелируют по времени своего возникновения и содержащимся в них санкциям известные ныне указы и приговоры 1597–1618 гг.»5. Для обоснования этого предположения автор проанализировал договоры России с Великим княжеством Литовским (Речью Посполитой) с 1449 по 1619 г. Клаузулу договоров о выдаче договаривающимися сторонами друг другу «холопа, робы, должника, поручника, татя, розбойника, беглеца, рубежника» Ерусалимский понимает как обязательство возвращения в том числе и «жителей приграничных районов», уходящих «от своего тягла и со службы»6.
Вышеперечисленные гипотезы покоятся на двух методологически небезупречных концептуальных основаниях. Во-первых, представления Ерусалимского об административной системе и социальной структуре России конца XVI – XVII в. не вполне отвечают достижениям современной исторической науки. Автор является сторонником теории «закрепощения всех сословий» в России; его вывод о «частичном закрепощении служилого и тяглого населения»7 соотносится с архаичной концепцией К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина, пересмотренной уже в трудах русских историков, работавших на рубеже XIX–XX вв., – В. О. Ключевского и М. А. Дьяконова. Ключевский определённо писал о крепостном состоянии крестьян с конца XVI в., в то время как применительно к служилым людям говорил об их «государственных обязанностях» по службе, выполнение которых порождало «сословные права по состоянию», и главное из них – личное землевладение с правом владения крепостным населением8.
Во-вторых, правовое положение крестьянства в Московском государстве в конце XVI – середине XVII в. оставалось не вполне определённым. Ерусалимский пишет о крестьянах вообще, не делая разницы между крестьянами поместными, вотчинными, монастырскими, черносошными, дворцовыми. Между тем их правовое положение и формы закрепощения в описываемое время существенно различались. Даже в Соборном уложении 1649 г. процедуры возврата беглых дворцовых, черносошных и частновладельческих крестьян не были одинаковыми: если первых следовало свозить на «старые их жеребьи», используя процедуру сыска без суда, то вторых – «отдавать» на земли прежних владельцев «по суду и по сыску»9.
В гипотезе Ерусалимского важное место занимает вопрос о крепостном праве на холопов. Ключевский ещё в конце XIX в. установил, что «крепостными людьми» изначально в XV–XVI вв. назывались холопы, и именно документы на владение холопами (полные грамоты, кабальные записи) в русском делопроизводстве именовались «крепостями». Видимо, основываясь на этом представлении, автор посчитал, что закрепостительные мероприятия конца XVI – начала XVII в. касались также и холопов, тем более что в то время были приняты важные указы о холопстве10. Однако Ерусалимский не учёл, что холопы составляли отдельную страту общества, пополнявшуюся представителями практически всех других сословий, но столь же резко отделённую от них. Внешне в указах о холопах рассматривались некоторые проблемы, сходные с проблемами крестьян, например, вопрос об их бегстве от господ. Но этот вопрос никак не связан с ключевой проблемой крестьянского «выхода» – холопы в отличие от крестьян не несли тягла, а интерес государства в сыске холопов был исключительно гражданско-правовым и состоял в защите интереса собственника-холоповладельца. Вопросы истории холопства в науке как правило рассматриваются изолированно от проблемы закрепощения крестьян, и Е. И. Колычевой не удалось доказать, что «задворные люди» уже в XVI в. составляли столь значимую страту, что их положение предопределило этот процесс11.
В-третьих, Ерусалимскому свойственно фантастическое представление о системе органов власти в России конца XVI – начала XVII в. Недоразумением является утверждение автора, что «Новгородская земля была полунезависимым государством, через которое осуществлялись дипломатические отношения с Шведским королевством». Последним по времени посольством к королю от наместника Великого Новгорода стало посольство А. Ф. Тушина 1562 г., а уже с марта 1565 г. дипломатические отношения со Швецией осуществлялись ливонским наместником. После этого дипломатические контакты велись непосредственно между государями, в частности, посла И. М. Воронцова в 1569 г. король Иоганн отпустил к царю12.
Ерусалимский полагает, что в 1580–1590-х гг. договорами России и Речи Посполитой «устанавливалась двухступенчатая система приграничных судов: украинные суды князей, наместников и волостелей на первом этапе». Но дело в том, что современными исследованиями доказано, что к концу XVI в. институты наместников и тем более волостелей уже не существовали: с 1580-х гг. власть на местах находилась в руках приказных людей и воевод, и даже если последние обладали княжеским титулом, называть их «князьями» неверно13.
Обнаружив контроль Посольского приказа и его главы А. Щелкалова за исполнением законов об ограничениях выхода крестьян в пограничном Ельце и в Новгородской земле, Ерусалимский делает вывод о «межгосударственном значении» режима «заповедных лет». Далее он приводит ещё более фантастическую версию о том, что «вопрос перемещения крестьян… не закрепился за каким-то приказом, а контролировался непосредственно царём и Боярской думой при помощи биричей»14. Между тем в дореволюционных и современных исследованиях убедительно показано, что Посольский приказ управлял «польскими городами» (в том числе Ельцом) как высшая административно-судебная инстанция, а участие судьи Посольского приказа в администрировании вопросов перехода тяглого населения в Новгородской земле обусловлено тем, что территориальный приказ Новгородская четверть в 1580–1590-х гг. пребывал в стадии формирования и находился под управлением дьяка Посольского приказа15. В первой половине XVII в. сыск беглых перешёл в непосредственное ведение приказов-четвертей.
Во-вторых, понимание Ерусалимским комплекса источников по истории закрепощения не вполне соответствует новейшим достижениям исторической науки, а выводы исследователей трактуются им зачастую превратно. Так, говоря о праве крестьянина на смену места жительства в Юрьев день, автор подразумевает, в полном соответствии с представлениями советских историков, что нормы ст. 88 Судебника распространялись исключительно на частновладельческих крестьян. «Договор с господином и являлся “крепостью”, предполагающей взаимные обязательства между ним и подданным»16. В этом предложении содержится в явной и подразумеваемой формах, как минимум, сразу три спорных утверждения. Во-первых, автор проигнорировал результаты моего исследования о крестьянских переходах в XV–XVI вв., в котором доказывается, что нормы ст. 57 и 88 Судебника, описывающие процедуру отказа, распространялись на все категории крестьян, включая черносошных17. Во-вторых, функцию «крепости», закрепощавшей крестьянина за землевладельцем, порядные грамоты стали выполнять лишь в XVII в., когда документы этого типа включались в записные книги приказных изб18. И, наконец, даже крепостные крестьяне никогда не были «подданными» своих землевладельцев, оставаясь таковыми лишь для государства.
В центре внимания Ерусалимского предсказуемо оказался феномен «заповедных лет», с которым в историографии увязаны первые шаги правительства по закрепощению крестьян. Вопреки суждениям предшественников (хотя персонально автор упоминает лишь Д. Я. Самоквасова), Ерусалимский полагает: «Заповедь полностью лишала крестьян права на несанкционированный уход от господина, что было тесно связано с запретом на уход за пределы России, поскольку движение свободного крестьянина, оставившего своего господина, выходило из-под контроля и воспринималось как нарушение дипломатических соглашений»19. Это общее определение дополняется частными. Так, говоря о «заповедных годах» и ссылаясь на мою работу, автор пишет, что «обыски велись в поместьях, запустевших или утративших владельцев»20. Проверим обоснованность суждений автора.
В моём исследовании указано, что запустевшими или утратившими владельцев были поместья, где проходило большинство известных обысков второй половины 1580-х гг. (64). Если же говорить об 11 обыскных записях с упоминанием «заповедных лет», то они как раз проводились в поместьях отнюдь не запустевших (почти всегда указывается, что крестьяне ушли с тягла) и не утративших владельцев, ибо именно помещики подавали иски в суд21.
Проверка обоснованности общего определения Ерусалимского потребует установления возможной связи режима «заповедных лет» с трансграничными миграциями крестьян и внешнеполитическими договорённостями российского правительства. Феномен «заповедных лет» известен из упоминаний в 13 документах 1585–1592 гг., большинство из них относятся к Деревской пятине Новгородской земли. Если исключить наиболее раннее (1585) и поздние (1590/91 и 1592) упоминания, то основной комплекс известий об этом феномене относится к весне 1588 г.: это материалы семи обысков, проведённых губными старостами Мусиным и Бунковым с 30 марта по 16 апреля. Рассмотрим обстоятельства проведения обысков в погостах Деревской пятины весной 1588 г.
Поместья кн. Богдана Кропоткина располагались в Михайловском и Березайском погостах. За четыре года помещик лишился 12 крестьянских дворов: в 1584 г. от него вышли три крестьянина, в 1585 г. – ещё три, в 1586 г. – один, в 1587 г. – пять. Все 12 крестьян ушли в соседний Жабенский погост Деревской пятины и порядились во владения местных детей боярских. Волостные крестьяне Михайловского, Березайского и Коломенского погостов заявили, что беглецы ушли «в государевы заповедные годы с тяглые пашни, а у тех детей боярских, которые в сем обыску писаны, живут в пустых деревнях, а не на тяглых землях». В то же время жители отдалённого Боровицкого погоста, подтвердив факт ухода крестьян в «заповедные годы», не смогли точно указать, «за ково вышли имянем, и живут на тяглых ли землях, или не на тяглых»22. Исследователи единодушны в признании, что выход крестьян из тягла был главным основанием для их сыска и возвращения. Аналогичной процедуре обыска подверглись жители Сеглинского, Млевского погостов и Березовского ряда 11–13 апреля 1588 г. В 1582 г., когда помещик И. Непейцын находился на службе, участвуя в войне с Швецией, из его поместья деревни Крутец в Сеглинском погосте в Никольский монастырь соседнего Михайловского погоста сбежали два крестьянина. Непейцын подал челобитную с жалобой «на старца на Стахия на Николского монастыря Едровского в беглых крестьянех: на Васку, да на Трешку на Гавриловых детеи, что они збежали в заповедные годы»23. По царскому указу и грамоте дьяка С. Емельянова губные старосты Мусин и Бунков провели обыски в Сеглинском погосте, где жили крестьяне, а также в двух соседних – Млевском погосте и Березовском ряду.
Три последних обыска были предприняты приказчиком Едровского яма Посником Скобеевым в ноябре 1589 г. также по царскому указу и грамоте новгородских воевод. Предметом обыска стали крестьяне, которых в 1583 г. вывезли из поместья, позднее пожалованного Т. Г. Пестрикову. Осенью 1589 г. Пестриков в очередной раз обращался к властям по поводу вывоза крестьян; впервые он бил челом ещё до 14 сентября 1585 г., когда губные старосты П. Есипов и Г. Скрыплев спрашивали крестьян Березайского погоста о судьбе жителей сельца Заостровья. Из обстоятельств дела следует, что бывший владелец сельца кн. М. И. Кропоткин в 1584 г. после праздника Покрова Богородицы вывез трёх крестьян, посадив двух из них в своём поместье в сельце Велье, а одного отдал родственнику кн. П. И. Кропоткину в деревню Липское. Окрестные помещики и крестьяне подтвердили, что Кропоткин не только вывез крестьян, но и не пускал в поместье нового владельца Пестрикова, и сжал посеянную им рожь. Спустя 8,5 месяцев, 30 мая 1586 г., губные старосты приехали в поместье Кропоткина в Рютинском погосте, которое он к тому времени уже променял своему зятю Б. Белеутову, и вывезли двух крестьян «в старые их дворы»24. В материалах этого раннего дела 1585–1586 гг. термин «заповедные лета» не употреблялся. Спустя три года Пестриков вновь обратился с жалобой на прежнего владельца сельца Заостровья М. Кропоткина, в Великий пост 1583 г. вывезшего трёх крестьян из дворов церковного причта в вышеназванное сельцо Велье Рютинского погоста, которое впоследствии перешло к Б. Белеутову. По информации жителей Великопорожского погоста, крестьяне первоначально жили в Велье, затем в 7091 г. (осенью 1582 г.?) Кропоткин перевёз их в церковные дворы (на погост) сельца Заостровья, а весной 1583 г. вновь перевёл в Велье. Вывезенные крестьяне в Велье жили «не на тяглой земли, в захребетниках, и в книгах деи те его крестьяне за Борисом не написаны»25.
Открытое и изученное В. И. Корецким дело Д. И. Языкова 1590–1591 гг. позволяет заключить, что материалы обысков, проводившихся губными старостами с целью поиска беглых и вывезенных крестьян, предназначались для суда. По делу Языкова можно реконструировать движение документации и основные этапы сыска крестьян в новгородских пятинах. Дело начиналось по челобитной, причём неоднократной, служилого человека. Челобитные дважды подавал Т. Пестриков (до 14 сентября 1585 г. и до 24 ноября 1589 г.), И. Непейцын (до 11 апреля 1588 г.), четыре челобитных подал сам Языков в 1590–1591 гг. Новгородские дьяки выдавали губным старостам обыскные грамоты, на основании которых и проводились обыски. Обычно староста или приказчики осуществляли обыски в трёх–четырёх погостах, и, если «обыскные люди» подтверждали факт бегства или вывоза крестьян, это служило достаточным основанием для передачи дела в суд. Как показывают материалы по сыску крестьян Языкова, судебные решения выполнялись не сразу, и губные старосты предприняли не менее трёх неудачных попыток вывоза беглых крестьян. Тем не менее по сохранившимся источникам можно заключить, что по суду крестьян отдавали прежним владельцам. В 1586 г. губные старосты отвезли в старые дворы крестьян Пестрикова, в 1587 г. – рядовичей Березовского ряда, в 1592 г. – крестьян В. З. Скобельцына в Шелонской пятине26.
Режим «заповедных лет» по сохранившимся источникам предстаёт как система возвращения беглых и вывезенных крестьян по инициативе самих землевладельцев и по суду, введённая в начале 1580-х гг. и действовавшая по меньшей мере до начала 1590-х гг. Срок давности по таким делам, видимо, не был установлен, и власти принимали челобитные о крестьянах, бежавших с 1581/82 г. Однако главный акцент в указе о «заповедных годах» делался не на запрет перехода, а на розыск беглых по челобитью землевладельца. Этим обстоятельством объясняются ставившие в тупик многих исследователей факты переходов крестьян в новгородских пятинах в 1580–1590-х гг. 20 марта 1585 г. новгородский Духов монастырь получил льготную грамоту на вотчины в Обонежской и Деревской пятинах; в последней из них безусловно действовал режим «заповедных лет». «Оживление» запустевших вотчин предполагалось осуществить за счёт отказа крестьян: «И называти ему на те пустые на льготные деревни крестьян нетяглых, з деревень от отцов детей, и от дядь племянников, и от братии братию, а с тяглых ему мест крестьян на те на льготные деревни не называти»27. Кроме того, известны порядные Вяжищского монастыря 1590-х гг., по которым переход крестьян видится заурядной процедурой, осуществляемой в строгом соответствии со ст. 88 Судебника 1550 г. По всей видимости, «заповедные годы» представляли собой мероприятия, направленные против переходов тяглых крестьян, ответственных налогоплательщиков. Именно такие переходы сами крестьяне называли «выход побегом», и именно таких «выходцев» искали землевладельцы, объявляя их в «заповедь», т. е. в розыск.
Формуляр и содержание документов с упоминанием «заповедных лет» не оставляет сомнений, что действовавший порядок сыска беглых никак не связан с уходом крестьян за границы страны, тем более что «заповедные годы» упомянуты в акте Никольского Карельского монастыря, чья вотчина находилась в далёком от внешних границ Поморье28. Ещё важнее следующее, отмеченное выше обстоятельство: обыщикам XVI в., как и историкам, хорошо известны владения, где находили пристанище беглые. Это, как правило, соседний монастырь или помещик, которые переманивали крестьян, предоставляя им льготу за счёт того, что они не учитывались в писцовых и платёжных книгах, и налогов с них платить было не нужно. Режим «заповедных лет» действовал только на поместно-вотчинных землях и предполагал возвращение беглых по суду. Мотивация утрачивавших крестьян землевладельцев и налогоплательщиков государства слишком очевидна, чтобы предполагать здесь ещё и межгосударственные интересы.
К глубокому сожалению, Ерусалимский не обратил внимания на узловой элемент моей концепции, состоящий в том, что установление крепостного права в России в 1580-х гг. не ограничивалось введением «заповедных лет». Вопреки мнениям Корецкого, Скрынникова и ориентирующегося на их труды Ерусалимского, я пришёл к выводу об осуществлении в начале царствования Фёдора Ивановича (март 1584 – июнь 1585 г.) параллельно с установлением в ряде регионов режима «заповедных лет» комплекса мероприятий по сыску и возвращению беглых посадских людей, черносошных и дворцовых крестьян29. Выше мне уже пришлось опровергнуть построения Ерусалимского о единой страте закрепощаемых крестьян, под которыми он понимает исключительно крестьян частновладельческих.
Правовые нормы в отношении «чёрных» тяглецов действовали однонаправленно: они обязывали осуществлять сыск беглых дворцовых и «чёрных» крестьян «где ни буди», в том числе и на частновладельческих землях, но не предполагали сыск частновладельческих крестьян на посадах и в чёрных волостях. Наиболее раннее известное мне распоряжение о сыске беглых черносошных крестьян и посадских людей содержится в древнейшем сохранившемся писцовом наказе Галичского, Чухломского и Солигаличского уездов, датируемом 30 июня 1585 г. Наказ предписывал писцам не просто выводить и сажать беглых «на старые дворы», но и непременно («однолично») прикреплять их системой поручительств и налоговой развёрстки: «А однолично Юрью Ивановичю и Леонтью тех городов посацких беглых людей и волостных крестьян сыскав где-нибуди, вывести назад, посадцких людей на посад, а волостных крестьян в волости, и записи по них поручные поимати, чтоб им жить по прежнему в старых своих дворех и государевы подати платить по своим жеребьям по сошному писму ровно, и вон не выходити без государева указу ни за кого»30.
Упоминание «заповедных лет» в Торопецкой уставной грамоте 1590/91 г. вопреки мнению Скрынникова и других исследователей отнюдь не свидетельствует, что «заповедь» распространялась на посадских людей. В Торопецком уезде сложилась следующая ситуация: посадские люди Торопца вышли с посада ещё до введения «заповедных лет» и поселились в частновладельческих землях. С установлением режима «заповедных лет» в торопецких поместьях в 1580-х гг., как и в новгородских землях, их лишили права перехода. Записанные в писцовой книге 1583/84 г. тяглецы уже не могли быть вывезены «на старинные места», поскольку это нарушало введённый порядок. Поэтому по уставной грамоте 1590/91 г. посадская община Торопца получила в качестве одной из привилегий право вывоза своих «старинных» тяглецов из помещичьих и монастырских земель, не взирая на введение там «заповедных лет». Таким образом, есть основания полагать, что в писцовых наказах, составлявшихся в царствование Фёдора Ивановича, декларировалось прикрепление волостных (черносошных) крестьян и посадских людей к своим тяглым общинам. Практика прикрепления посадских людей к тяглу первоначально не осмыслялась как неизменная: по наказу 1585 г. посадским людям и волостным крестьянам предписывалось жить в своих старых дворах и «не выходити без государева указу ни за кого», что предполагало возможность отказа от такой практики «по государеву указу»31.
Указы об «урочных летах» Ерусалимский также увязывает со сроками действия договоров между Россией и Речью Посполитой, для чего делает ряд допущений: предполагает, что пятилетний сыск беглых действовал с 1586–1587 гг., а указ не позднее 1594 г. «был вызван судебными делами о побегах во время войны и предполагал амнистию для крестьян, сменивших господина без договора и уплаты “пожилого” во время Ливонской войны». Одновременно, предположил исследователь, «покидать без договора и оплаты своё место после заключения мира запрещалось». Автор отождествляет практики «заповедных лет» и указы об «урочных летах», когда, по его мнению, действовала «система запретов на пересечение границ» в течение «10-летнего срока действия мирного договора, т. е. на урочные лета». Более поздние указы об урочных годах от 1 февраля 1606 г. и от 15 марта 1607 г. автор также соотносит с датами продления Ям-Запольского договора в 1591 и 1602 гг.32
Совершенно неверно Ерусалимским трактуются положения указа от 24 ноября 1597 г. о пятилетнем сроке сыска крестьян. В указе сказано о «засуженных», но не «вершенных» «делах в беглых крестьянех» следующее: они будут завершены «по суду и по сыску», что свидетельствует о гражданско-правовом характере дел о беглых крестьянах. Автор же рассматривает гражданские иски по делам о беглых крестьянах «в одном ряду с амнистиями середины 1590-х гг. в отношении российских эмигрантов в Речь Посполитую». С точки зрения Ерусалимского, указами 1597 г. о крестьянах и холопах «опосредованно предполагалось создание льготных условий для возвращения в страну изменников, которым гарантировалась свобода и нераспространение на них крепостных обязательств»33. Несостоятельность такого отождествления очевидна. Во-первых, амнистии могли быть подвергнуты лишь государственные или уголовные преступления, к числу первых, согласно статье Судебника, относилась государственная измена в форме побега служилого человека за рубеж. Во-вторых, и самое главное, произвольное распространение на представителей служилого сословия норм права, относящихся к крестьянам и холопам, предполагает ничем не доказанные представления о русском обществе как об аморфном неструктурированном целом.
В действительности, как показано в исследованиях автора этих строк, принятый в практике заповедных лет способ сыска и возвращения беглых оказался крайне громоздок и неудобен в применении, поскольку предполагал подачу судебного иска землевладельцев, «обыск» местного населения и саму судебную процедуру. Выполнение решений судов также было сопряжено с многими препятствиями, начиная от открытого сопротивления вывозимых и их соседей. Накопление судебных исков землевладельцев привело правительство к мысли об ограничении срока сыска крестьян, предпринятом на северо-западе России по указу, изданному ранее 3 мая 1594 г. Указ процитирован в тексте двух судебных дел из фонда Новгородской приказной избы 1593–1595 гг. Первое дело возбудили по поданной 5 июня 1594 г. челобитной помещика Обонежской пятины П. Арцыбашева, обвинявшего помещика А. Бухарина в свозе из общей деревни Телицыно Раменье крестьян и бобылей, утаённых от писцов. В ответной челобитной Бухарин изложил суть дела иначе, заявив, что он назвал крестьян и бобылей в пустую деревню ещё в 1583 г., 11 лет назад. Поэтому Бухарин требовал оставить за ним вывезенных крестьян на основании царского указа: «А ныне твой государев указ: старее пяти лет во владенье и в вывозе суда не давати и не сыскивати». Аналогичная формулировка содержалась в выписке из царской грамоты по делу помещика С. Т. Молеванова от 3 мая 1594 г.: «Да и вперед бы всяким челобитчикам о крестьянском владенье и вывозе давати суд и управу за пять лет, а старее пяти лет суда и управы в крестьянском вывозе и во владенье челобитчиком не давати и им отказывати по таким челобитьям»34.
Положения этого регионального указа развиты в общегосударственном указе от 24 ноября 1597 г.: «Которые крестьяне из-за бояр, и из-за дворян, и из-за приказных людей, и из-за детей боярских, и из-за всяких людей из поместий, из вотчин, и из потриарховых, и из митрополичьих, и из владычних, и из монастырских вотчин выбежали до нынешняго 106-го году за пять лет, и на тех крестьян в их побеге, и на тех помещиков, и на вотчинников, за кем они, выбежав, живут, тем помещиком и вотчинником, из-за кого они выбежали, и патриаршьим, и митрополичьим, и владычним детем боярским, и монастырьских вотчин прикащиком и служкам давати суд и обыскивати всякими сыски накрепко, а по суду и по сыску велети тех беглых крестьян з женами и з детьми и со всеми их животы возити назад, где хто жил»35. Из текста указа с несомненностью следует лишь то, что крестьяне, бежавшие из вотчин и поместий после 24 ноября 1592 г., по результатам процедуры опроса обыскных людей и суду подлежали возврату на прежние места жительства, в то время как крестьяне, бежавшие до этой даты, сыску и возвращению не подлежали. Действие данной правовой нормы проявилось в ситуации, сложившейся в ходе конфликта Никольского Вяжищского монастыря и помещицы А. Г. Борковой. Монастырский крестьянин Игнатий Ананьин «вышел вон из-за Николы побегом в прошлом в девяносто девятом году», т. е. в 1590/91 г. Пожив некоторое время в бобылях за помещиком Борковым, крестьянин стал объектом разбирательства, и после челобитья, поданного игуменом в 1598/99 г., Боркова с сыном крестьянина «за собою искали, и сыскав, да не ходя на суд, Николы Чюдотворца з братиею отдали»36. Видимо, впервые дело было «засужено» сразу после побега, и повторное челобитье монастыря обессмыслило судебную защиту помещицы.
Значение указа от 24 ноября 1597 г. состояло в том, что правительство подтвердило особый порядок разрешения конфликтов о крестьянах, живших на частновладельческих землях. В указе рассматривались исключительно они и ни слова не говорилось о крестьянах дворцовых и черносошных, а также посадских людях, чьё положение в то время менялось в направлении государственного закрепощения. В современной историографии сущность указа 1597 г. объясняется именно тем, что он предопределил различия правового положения этих двух больших групп тяглых людей, закрепощение которых в дальнейшем, вплоть до середины XVII в., шло различными путями: через подачи судебных исков в отношении частновладельческих крестьян и в ходе избирательного государственного сыска в отношении дворцовых и черносошных, а также тяглецов посада37.
Одним из аргументов Ерусалимского о связи «между внешним и внутренним выходом, пересечением границ имений и государства» стали договорные статьи тушинцев и боярской комиссии с польскими властями от февраля и августа 1610 г. Действительно, этими статьями однозначно запрещался выход крестьянам как из Речи Посполитой в Россию и обратно, так и внутри страны: «Крестияном в Литву выходу, а из Литвы на Русь меж себя выходу не давать»; «Торговым и пашенным хрестиянам в Литву з Руси и з Литвы на Русь выходу не быть; также и на Руси промеж себя крестияном выходу не быти»38. Ерусалимский усматривает аналогию между этими постановлениями и практикой «заповедных лет», понимая «выход» и как уход горожан и пахотных людей от своего владельца в нарушение «крепостей», и как пересечение государственной границы, т. е. «измену»39. Вряд ли, однако, договорные статьи 1610 г. можно отождествлять с закрепостительной политикой правительства: договоры с Сигизмундом III и С. Жолкевским готовились в расчёте на интронизацию Владислава в Москве, результатом чего мог бы стать переход русских служилых людей на службу в Речь Посполитую, а шляхты – в Россию, тем более, что последнее подразумевалось статьями договора от 4(14) февраля 1610 г. Во избежание конфликтов, связанных с возможным переходом тяглых людей вслед за землевладельцами в пределы союзных государств, и составлялись цитированные договорные статьи. Уникальные статьи договоров 1610 г. не могли быть постановлены ни до, ни после этого краткого периода попыток создания династической унии Кракова и Москвы40.
Резко отличается от сложившихся в историографии концепций и гипотеза Ерусалимского о «старине». Автор полагает, что «старина стала не обозначением глубокой традиции или прикрепления к собственнику, общине или земле, а правовым рычагом, позволявшим искать ближайшие по времени источники права»41. В моём исследовании введены в научный оборот дела о беглых, датируемые апрелем–декабрём 1613 г., позволяющие высказать более определённые суждения о времени издания и содержании несохранившегося указа 1613/14 г.42 Первое и самое важное наблюдение состоит в том, что методы сыска и идентификации беглых крестьян остались теми же, что использовались в 1580-х гг., в период издания указов о заповедных годах. Основная форма этого метода – повальный обыск – использовалась ещё раньше, во время обысков о запустевших землях в новгородских пятинах, и в судах общей юрисдикции. В ходе повального обыска земским или церковным дьячком составлялся протокол, используемый приказным дьяком для издания указной грамоты или, при необходимости, в суде.
Последняя возможность всегда подразумевалась приказными, о чём свидетельствует их ремарка в указной грамоте от 4 октября 1613 г. по поводу челобитья кн. И. Голицына: «А будет в тех крестьянех каков спор учинитца, и ты б о том отписал к нам к Москве». Второе наблюдение обнаруживает острейший парадокс, ставший ещё в 1970-х гг. камнем преткновения в дискуссии Г. Н. Анпилогова с концептуальными построениями Б. Д. Грекова. В четырёх из семи дел, по которым приказные судьи приняли положительные, удовлетворяющие просьбы землевладельцев о возвращении беглых решения, срок бегства крестьян не превышал пяти лет. Из пятого дела ясно, что землевладельцы могли пытаться вернуть крестьян, некогда живших у них, и через 12 лет. Челобитчик кн. В. Туренин аргументировал свою просьбу не превышением указного срока, а тем, что его крестьяне в 1601 г. жили в вотчине кн. Черкасского не на тягле, а в «подсоседниках». Таким образом, содержание пяти изученных дел о беглых за апрель–октябрь 1613 г. убеждает, что норма об урочных годах в виде пятилетнего срока в 1613 г. не использовалась43.
Но значит ли это, что в начале XVII в. имел место бессрочный сыск беглых крестьян в том смысле, как об этом писал Анпилогов, т. е. возникший вследствие прикрепления крестьян совокупностью крепостных документов в период реализации указов о заповедных годах? Анпилогов считал, что бессрочный сыск в дальнейшем подтвердили указы 1597 и 1607 гг., отсчитывавшие давность на будущее время с 1592 г.44 Но приказные, судя по делам о беглых 1613 г., руководствовались в первую очередь концептом, более ста лет назад изученным Дьяконовым, но с тех пор незаслуженно отодвинутым на периферию проблемы45. Речь идёт как раз о понятии «старины» и «старых дворов, доль, жеребьев», куда следовало возвращать беглых крестьян. Крепостной порядок в начале XVII в., видимо, восстанавливался именно на основе этого концепта, понимаемого не вполне определённо. Если удавалось доказать, что на «старых дворах» жили ещё отцы и деды нынешних крестьян, это служило неоспоримым аргументом, однако в условиях массового перемещения населения во времена Смуты данный аргумент использовался далеко не всегда. Землевладельцы, как правило, тоже искали крестьян, ушедших в «последнее разорение», чьи следы ещё удавалось найти; этим, видимо, и объясняется, что сроки бегства крестьян в большинстве судебных дел 1613 г. не превышают пяти лет. Таким образом, в закрепостительных практиках российского правительства невозможно обнаружить признаки их связи с трансграничными миграциями населения.
Поскольку в центре концептуальной структуры Ерусалимского оказались подразумеваемые миграции населения на русско-польской границе, для разрешения проблемной ситуации автору следовало бы задаться вопросом о целесообразности внешнеполитических договорённостей между Россией и Речью Посполитой, учитывавших или не учитывавших интересы шляхты как владельцев крепостных, а для этого сопоставить направленность и темпы закрепощения крестьян в упомянутых восточноевропейских государствах. Коль скоро столь необходимая операция автором не проделана, возьму на себя труд суммировать имеющиеся в распоряжении историков данные. Становление крепостного права в Великом княжестве Литовском и позднее в Речи Посполитой, во-первых, опережало соответствующие процессы в России, во-вторых, совершенно не учитывало пограничные конфликты с восточным соседом.
Гораздо актуальнее для шляхты «коруны» (Польши) и «князства» (Литвы) было минимизировать внутренние конфликты между «панствами» из-за владения крепостными. Уже в ответе короля участникам Виленского сейма 1551 г. говорилось о многочисленных жалобах «от княжат, панят и от земян пограничных о кривдах их незносных, которыи мают от панов поляков и от панов мазовшан»46. В 1554 г. Сигизмунду Августу пришлось принять закон о беглых, переходивших из одного его государства в другое, запрещавший их приём. За нарушение запрета виновные подвергались штрафу в 20 гривен: «А от того часу так с коруны, яко и с князства не мают вжо на обе стороне збеги и шкодники прыймованы быть под виною судьям преречоным двадцать грывен, а стороне шкоду и наклад мает заплатити, абы вже болш добрый покой и суседство межы тыми паньствы ничым не нарушалося»47.
Конфликты у литовской шляхты возникали и с магистратом Вильно, который, руководствуясь нормами «немецкого» права, не выдавал землевладельцам сбежавших от них «людей отчызных», и «непохожих», и «паробков невольных». В «отказе» Сигизмунда Августа депутатам Виленского сейма вводился трёхлетний срок для сыска беглых, пришедших в Вильно до сейма, и 10-летний срок для бежавших после 18 октября 1551 г.48 На Виленском сейме 1565–1566 гг. вопрос о выдаче «пошедших прочь» отчичей приобрёл новые коннотации: депутатов сейма интересовало, как можно добиться выдачи отчичей, осевших «на кгрунте, волях господарских и теж князских, панских и земянских, тут в Литве и на Волыни». Федеративное устройство Великого княжества Литовского явлено в этом запросе в полной мере; землевладельцы – как «волынцы», так и литвины – платили за «людей, задержанных на неделю, по шести грошей», а изобличенным в удержании отчичей надлежало их выдать, либо включать в фискальные реестры для выплаты «серебщизны на оборону земскую». Впрочем, конфликты из-за беглых крепостных – лишь один из аспектов «кривд», которые претерпевали «панове волынцы», требовавшие у короля «обороны у кривдах их от панов поляков»49.
Главной проблемой, разумеется, были незаконные переходы «отчичей» разных владельческих категорий, которых к середине XVI в. делили на «вольных, похожих», т. е. имевших право перехода, и отчичей «господарских», «князских» и «панских» в пределах одной «земли». Статус «господарских» (государственных) крестьян фактически приравнивался к статусу частновладельческих крепостных: в «Уставе на волоки» 1557 г. о «господарском» крестьянине сказано, что «кметь и вся его маетность наша есть»50. В привилеях на пожалования господарских имений частным лицам указывалось, что их можно заселять лишь «людьми вольными, похожими, а не отчичами нашими, господарскими, ани теж князскими и панскими».
Судебные дела о бегстве «отчичей заседелых» (крестьян, живших в имении более 10 лет) свидетельствуют, что постановления Статута 1588 г. о выдаче беглых «отчичей» выполнялись. При этом 10-летний срок нахождения крепостного на одном месте в системе крепостного права Великого княжества Литовского функционально действовал так же, как и «урочные» годы в России: «засидеть» земскую давность можно было и в имении, куда крепостной убегал. Отсутствуют свидетельства об уходе крепостных за рубеж. В суды, во всяком случае, такие дела не поступали; сами же крестьяне, как и в Русском государстве, чаще всего уходили в другое имение того же повета или в соседний город51. Беглый обзор системы крепостного права Великого княжества Литовского однозначно свидетельствует, что проблема удержания крестьян на восточных границах «князства» в сеймовых дебатах и его законодательстве отсутствовала.
Но, пожалуй, главным упущением Ерусалимского является то, что он не смог привлечь к исследованию ни одного источника, характеризующего массовую миграцию крестьян пограничных регионов. Тем не менее автор изобразил апокалиптическую картину тотального разорения и бегства населения России (включая вотчинников) на окраины и за рубеж, картину, сочетающуюся с авторским представлением о закрепощении, распространявшимся на все страты русского общества. Документы о порубежных спорах и миграциях на западной границе России, начисто проигнорированные автором, позволяют привлечь факты, которым решительно не соответствует созданная автором картина. Ерусалимский интерпретирует клаузулы из Ям-Запольского мира 1582 г. и бумаг А. Поссевино как «клаузулу о нарушении границ»52. В цитированных им статьях говорится, однако, о противозаконных действиях среди пограничных жителей с обеих сторон, в действительности именовавшихся «малыми делами порубежными», или делами «о грабежи и кривды порубежные», но ни одного примера таких «дел» автор не приводит. Для проверки его утверждений проанализируем три разновременных комплекса источников.
Наиболее ранним из них, синхронным времени действия «заповедных лет», является статейный список посольства А. Д. Резанова от 10 июля 1592 г. – «список обидным делам» на русско-польском рубеже от Путивля до Пскова53. В реестре приграничных конфликтов зафиксированы более 60 случаев разбойных нападений польских подданных на русские пограничные земли и грабежей, осуществлённых ими, и более 20 случаев грабежей русских купцов на территории Речи Посполитой. Предмет нашего интереса составляет первая категория конфликтов. В течение нескольких лет станичники кн. А. Вишневецкого убили в Путивльском и Черниговском уездах 234 бортников и ограбили бортные деревни на 1 700 руб. Большой жестокостью отличались нападения «черкас» на дворцовые села Брянского уезда в 1589–1590 гг. Они захватили крестьянские пожитки на сумму 5 тыс. руб., а также взяли в плен и побили более 200 крестьян54.
Не меньшей ожесточённостью отличались нападения атамана Мухорта на пограничные волости Невельского и Пусторжевского уездов; от них пострадали более 40 крестьянских и помещичьих дворов. У крестьян и землевладельцев захватывали скот, хлеб, одежду, инвентарь; под пытками «вымучивали» спрятанные деньги и другие ценности. Сами крестьяне разбойников из-за рубежа в большинстве случаев не интересовали: лишь дважды они стали объектом посягательств. В 1590 г. в поместье С. Дубровского его крестьяне, бежавшие ранее за рубеж и вернувшиеся в качестве разбойников, захватили и увели с собой «16 деловых людей и женок». Одновременно атаман Мухорт захватил на усадище помещика И. Маврина «женку с детьми» ранее бежавшего за рубеж крестьянина55. Столь незначительное количество уведённых за границу помещичьих холопов и крестьян, а, самое главное, неупоминание самих фактов бегства крестьян за рубеж как подлежащих расследованию и урегулированию между властями пограничных территорий, убеждает в том, что Русское государство не увязывало миграции за рубеж с режимом «заповедных лет».
Не происходило этого и после окончания Смутного времени, хотя имеющиеся данные свидетельствуют о существенной интенсивности и однозначной направленности миграционных потоков. После заключения Деулинского перемирия 1618 г. и передачи Речи Посполитой значительных приграничных территорий на северо-западе, в частности, Невельского, Себежского и Красногородского уездов, в пределы Русского государства хлынул поток «выходцев из-за литовского рубежа». Среди них были как люди, захваченные во время Смуты польско-литовскими отрядами в плен и вывезенные из России, так и жители уездов, отошедших в состав Польши. Пик выхода в Россию зафиксирован двумя видами источников: летописью и «записными книгами выходцев». Под 1631/32 г. в Псковской третьей летописи содержится пространная характеристика миграции: «Выходили выходцы многие из литовские земли, всякие люди руские з женами и з детми, для великие нужи, и правежу, и гладу, и литовского насильства, православные християне; и тех власти многих насильством отдавали детем боярским во крестьянство, а многие скованы ходили по граду милостыни просили, а кои не хотели, тех в тюрмах держали, чтобы к ним шли служити с кабалами»56.
Для регистрации пленных в приказных избах Великих Лук и Заволочья составлялись специальные «записные книги». Сохранились лишь четыре из них за 1630–1631 гг., но и они позволяют представить масштабы миграции57. Только за период с 16 апреля 1630 г. по 13 октября 1631 г., т. е. за полтора года, в Великолукской приказной избе были зафиксированы 224 «выходца». Если учесть, что записные книги велись и в Великих Луках, и в Заволочье на протяжении 1620–1630-х гг., то масштабы миграции «из-за литовского рубежа» за 20 лет могут быть приблизительно определены в 6–7,5 тыс. человек.
Вышедшие из-за границы не всегда являлись регистрироваться в приказную избу, многие жили «в наймех» у крестьян и лишь впоследствии подавали челобитные о позволении им жить «за» тем или иным помещиком в крестьянах и холопах. В тех случаях, когда выходцы ранее жили в Великолукском или Пусторжевском уездах, они передавались «по старому крестьянству» прежнему помещику. Старое крестьянство сохраняло действие и в тех случаях, когда выходец был «взят в плен мал», или «взят в полон во 119 году», т. е. за 20 лет до выхода из-за границы. За полтора года 31 крестьянина, часто во главе семьи, вернули «по старине» прежним помещикам. Незначительное количество выходцев (четыре человека) были переданы «по старому холопству» во двор к своим прежним господам.
Многие выходцы прежде жили на территории Речи Посполитой или Невельского уезда, отошедшего от России в 1618 г. Таким людям «по государеву указу» давалась воля, и они имели право порядиться в крестьяне, бобыли или поступить в качестве холопа во двор к тому или иному помещику. 34 крестьянина, часто во главе семьи, получая «волю», поряжались к новым помещикам, казакам, а один выходец поселился в стрелецкой слободе. Но наибольшее количество выходцев (145 человек, включая жён и детей), являвшихся прежними жителями перешедших в состав Речи Посполитой уездов, поселили «во крестьяне со всеми их животы» во дворцовой Спасо-Никольской волости58.
Исследование «записных книг выходцам» на русско-польской границе даёт убедительное объяснение соотношению процессов закрепощения и миграции. Очевидно, что действовавшие в это время пятилетние урочные годы не связаны с миграциями из-за рубежа: никакие сроки, в течение которых прежние владельцы могли бы претендовать на возвращение беглых и полоняников, не действовали. Вопреки мнению Ерусалимского, «старинное (прежнее) крестьянство» являлось главным основанием для возвращения людей прежнему помещику; в случае его отсутствия выходец переходил на землю другого владельца или «осаживался» в дворцовой волости. Нет следов каких-либо договорённостей с властями пограничных польских уездов о возврате бежавших крестьян и холопов; впрочем, в условиях практически однонаправленного миграционного потока из Литвы русское правительство совершенно не было заинтересовано в таковых.
Но, пожалуй, наиболее представительную информацию о трансграничных миграциях содержат документы 1620–1649 гг. о перебежчиках на русско-шведской границе59. Согласно статьям Столбовского мирного договора, в течение двух «выходных» недель после его заключения местное население могло добровольно и свободно перейти на жительство в границы любого государства. Из документов 1620–1630 гг. недвусмысленно следует, что, во-первых, уже в 1617 г. шведские власти задерживали записывавшихся в «роспись» и желавших перейти в Россию, в их числе, в частности, оказались ивангородец Ф. Лебедь «с товарыщи» в количестве 351 человека. Во-вторых, в отличие от единичных случаев миграции русских подданных в шведскую Ингрию, им навстречу шёл поток православных выходцев, оседавших на русской территории. Руководствуясь царскими указами, воеводы ставили на границах «заставы» с «запрещеньем под смертной казнью, чтоб однолично в твою государеву сторону из-за рубежа с свейские стороны перебещиков руских и немецких людей нигде нихто не принимали никоими делы, а хто учнет перебегати, и тех велено отсылати назад за рубеж»60.
Местные общины и землевладельцы, невзирая на запросы воевод, отказывались их выдавать, оказывая сопротивление, и подьячие с понятыми вынужденно составляли «отбойные записи». В записи протоколировался факт сопротивления крестьян: «Тое волости староста… да волостные люди… и все крестьяне Кимашозерские волости у подьячего перед понятыми тех перебещиков выбили, и на поруки давать их не стали, и государева указу и наказу не слушали, и подьячево лаяли и с наказом, и приходили на него с копьи, и с самострелы, и с топоры». Крестьяне аргументировали сопротивление тем, что они «присуду московского, а не новгородцкого, и новгородцких наказов, и вас посланников ни в чем не слушаем, а которые у нас в волости есть перебещики, латыши и руские люди, и тех принимал и порядил на деревни данщик Рудак Фопков»61. Правовое регулирование проблемы перебежчиков осуществлялось царскими указами и «разменами», а их ход протоколировался в статейных списках. Судя по указу от 17 июня 1624 г., воеводам на местах следовало руководствоваться статьями Столбовского мира, составлять ссылочные листы и росписи перебежчиков, на основании которых осуществлять сыск и размен подданных. В многочисленных документах нет никаких намёков на урочные лета и возвращение перебежчиков прежним владельцам.
Исследование размена перебежчиками в апреле 1636 г. осуществлено А. А. Селиным. Статистика этого обмена свидетельствует о несопоставимо более многочисленном их потоке в пределы России: по данным статейного списка посольства, во время обмена 1636 г. на Осиновой Горке с территории России шведским властям передали 442 человека, на «корельском рубеже» – 316. Но даже после этого на русской стороне оставались 109 жён и детей перебежчиков, ещё 12 человек были выявлены дополнительно. Шведы объявили «царского величества перебежчиков 200 человек», из них отдали одного, а во время первого обмена выдали всего 24 человека. В отчёте в Посольский приказ о проведённом обмене от 9 апреля русские послы сообщили об обнаруженных в Новгороде и уезде 341 человеке, также перешедших из-за шведской границы, но не упомянутых в росписях. Московские власти отдали категорическое распоряжение о возвращении шведским властям всех, о выполнении указа 7 июня новгородский воевода доложил в Москву62.
Проблему перебежчиков решило посольство Б. Пушкина 1648–1649 гг., специально посвящённое урегулированию этого вопроса. Шведские переговорщики заявили своим русским визави, что «в новогородцких и во псковских местех за митрополиты и за монастыри королевского величества подданными земля наполнена»63. В ходе переговоров 1648–1649 гг. послы констатировали, что «после мирного договору перебещики на обе стороны переходили болши 30 лет», однако масштабы переходов несопоставимы. Русские послы первоначально предложили решить вопрос с перебежчиками на условиях status quo: шведских перебежчиков оставить на территории России, а русских – в Швеции. Шведские «думные люди» категорически возражали: «Царского де величества перебещиков в королевина величества стороне оставливать неково; как де они… посмотрили в их роспись перебещиком, какову они, царского величества великие послы, наперед сего в ответе оставили, и в той де росписи мало не все написаны королевского величества подданные, которые де с королевского величества стороны перебегали в царского величества сторону и, пожив немного, перешли назад, в королевского величества сторону, и у вас де в росписи и те написаны царского ж величества подданными». Шведы откровенно говорили, что «с королевина де величества стороны не толко что пашенные крестьяне, и салдаты де из Финские земли в царского величества сторону все вышли, чтоб им от службы отбыть»64.
Есть основания полагать, что за 30 лет (1617–1649) в Россию перешло не менее 5 тыс. человек православных подданных шведской короны. Договор о выкупе за перебежчиков, перешедших на русскую сторону с 1617 по 1 сентября 1647 г., заключили в Стокгольме 19 ноября 1649 г. Было достигнуто компромиссное соглашение о выплате Россией за перебежчиков контрибуции в 190 тыс. руб. и закупке для Швеции 12 тыс. четвертей ржи по цене её продажи на псковском рынке. Таким образом, русская сторона не возвращала ни перебежчиков, ни имущество, перенесённое ими на русскую сторону; равным образом, не подлежали возврату и перебежчики, перешедшие с имуществом с московской стороны на шведскую. Контрибуция и закупка ржи должны были компенсировать разницу в числе перебежчиков, перешедших на московскую сторону, по сравнению с перешедшими в Швецию65.
Источники, позволяющие исследовать масштабы и направленность трансграничных миграций на западных границах России, свидетельствуют, что сама по себе проблема прикрепления крестьян к личности их владельца в ходе разрешения пограничных конфликтов не являлась предметом рассмотрения. Следов деятельности каких-либо «приграничных судов» также не обнаруживается: размен перебежчиками осуществлялся только со Швецией, что было обусловлено статьями Столбовского договора; отношения с Речью Посполитой, регулировавшиеся договорами о перемириях, даже если содержали обязывающие статьи о возвращении перебежчиков, конкретного механизма противодействия миграциям не предполагали. Изложенные факты и критическая аргументация Ерусалимского не убеждают в обоснованности его гипотезы; масштабы освоения русскими юго-восточных степных пространств показывают несопоставимость миграционных потоков на западе и юго-востоке страны в пользу последних. Когда во второй половине XVII в. был организован государственный сыск беглых, всё внимание государства сосредоточилось на юго-восточных уездах, в то время как на северо-западе сыщики действовали изредка и с мизерными результатами.
Критический анализ гипотезы К. Ю. Ерусалимского показал, что она сформулирована в нарушение общих логико-методологических стандартов. Автор не привёл ни единого факта массовых трансграничных миграций тяглого населения России на запад и даже не счёл необходимым рассмотреть проблему закрепощения в Речи Посполитой. Поскольку в распоряжении Ерусалимского не оказалось фактов, имеющих значение опровергающего свидетельства, то и его концепция на поверку оказалась искусственной. Поиск экзогенных факторов становления крепостного права в России, как и в других восточноевропейских странах раннего Нового времени, пока не приводит к другим результатам, помимо построения остроумных гипотез.
1 © 2024 г. В. А. Аракчеев
Ерусалимский К. Ю. Крепостное право и миграционная политика в России в конце XVI – начале XVII в. // Российская история. 2023. № 1. С. 3–25.
2 Аракчеев В. А. Власть и «земля»: правительственная политика в отношении тяглых сословий в России второй половины XVI – начала XVII в. Екатеринбург, 2014. С. 282–362.
3 Ерусалимский К. Ю. Крепостное право… С. 16–17.
4 Аракчеев В. А. Власть и «земля»… С. 308–319; Ерусалимский К. Ю. Крепостное право… С. 4–5.
5 Ерусалимский К. Ю. Крепостное право… С. 7, 25.
6 Там же. С. 8.
7 Там же. С. 14, 24.
8 Ключевский В. О. Сочинения в 9 т. Т. VI. М., 1989. С. 363–374.
9 Аракчеев В. А. Соборное уложение и социально-политическая эволюция России во второй половине XVII в. // Российская история. 2023. № 1. С. 37–38.
10 Ерусалимский К. Ю. Крепостное право… С. 17–20.
11 Колычева Е. И. Холопство и крепостничество. М., 1971. С. 54–75; Панеях В. М. Холопство в XVI – начале XVII в. М., 1975. С. 48–71.
12 Ерусалимский К. Ю. Крепостное право… С. 8; Сборник Императорского Русского исторического общества (далее – Сборник ИРИО). Т. 129. СПб., 1910. С. 123–124; Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI в. М., 2003. С. 407.
13 Ерусалимский К. Ю. Крепостное право… С. 13–14; Аракчеев В. А. Власть и «земля»… С. 383–397.
14 Ерусалимский К. Ю. Крепостное право… С. 7, 22.
15 Павлов А. П. Эволюция четвертных приказов в конце XVI – начале XVII в. // Архив русской истории. Вып. 3. М., 1993. С. 217–227; Лисейцев Д. В. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты. М.; Тула, 2009. С. 190–198; Аракчеев В. А. Власть и «земля»… С. 390–397.
16 Ерусалимский К. Ю. Крепостное право… С. 17.
17 Аракчеев В. А. Власть и «земля»… С. 147–164.
18 Маньков А. Г. Развитие крепостного права в России во второй половине XVII в. Л., 1962. С. 224–230.
19 Ерусалимский К. Ю. Крепостное право… С. 23–24.
20 Там же. С. 8.
21 Аракчеев В. А. Власть и «земля»… С. 286–289.
22 Дьяконов М. А. Заповедные и выходные лета // Известия Петроградского политехнического института. 1915. Т. XXIV. С. 3–4; Анпилогов Г. Н. Новые документы о России конца XVI – начала XVII в. М., 1967. С. 415–418; Самоквасов Д. Я. Архивный материал. Т. 2. М., 1909. С. 451.
23 РГАДА, ф. 1209, оп. 3, кн. 16935, л. 287–287 об.
24 Самоквасов Д. Я. Указ. соч. № 12. С. 444; № 42. С. 482.
25 Дьяконов М. А. Заповедные и выходные лета… С. 3–4; Самоквасов Д. Я. Указ. соч. С. 452, 453; Анпилогов Г. Н. Новые документы… С. 418–420.
26 Самоквасов Д. Я. Указ. соч. С. 482–484; Анпилогов Г. Н. Новые документы… С. 422–423.
27 Анпилогов Г. Н. Новые документы… С. 414.
28 Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией (далее – РИБ). Т. XIV. СПб., 1894. С. 137.
29 Аракчеев В. А. Власть и «земля»… С. 283–308.
30 Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII в. Т. I. М., 1997. № 190. С. 158.
31 Там же. С. 156–158.
32 Ерусалимский К. Ю. Крепостное право… С. 14, 11.
33 Там же. С. 20–21.
34 Корецкий В. И. Новгородские дела 90-х гг. XVI в. // Археографический ежегодник за 1966 г. М., 1968. С. 316, 318.
35 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой половины XVII в. Тексты. Л., 1986. № 48. С. 66.
36 Архив П. М. Строева. Т. 2. Пг., 1917. № 11. Стб. 7–8.
37 Аракчеев В. А. Власть и «земля»… С. 320–332.
38 Сборник ИРИО. Т. 142. СПб., 1913. С. 68; Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной Коллегии иностранных дел. Ч. II. М., 1819. С. 396.
39Ерусалимский К. Ю. Крепостное право… С. 12.
40 Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005. С. 214–221.
41 Ерусалимский К. Ю. Крепостное право… С. 25.
42 Аракчеев В. А. Власть и «земля»… С. 353–362.
43 РГАДА, ф. 396, оп. 1, ч. 24, д. 37624, л. 3; д. 37537, 37570, 37571, 37592, 37600, 37631.
44 Анпилогов Г. Н. К вопросу о законе 1592–1593 г., отменившем выход крестьянам, и урочных летах в конце XVI – первой половине XVII в. // История СССР. 1972. № 5. С. 170.
45 Дьяконов М. А. Очерки истории сельского населения в Московском государстве XVI–XVII вв. СПб., 1898. С. 20–30.
46 РИБ. Т. XXX. Юрьев, 1914. С. 149.
47 Любавский М. К. Литовско-русский сейм. М., 1900. С. 82.
48 РИБ. Т. XXX. С. 150–152.
49 Там же. С. 336–337, 372.
50 Там же. С. 570.
51 Спиридонов М. Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (XV–XVI вв.). Минск, 1993. С. 135, 124, 107–108.
52 Ерусалимский К. Ю. Крепостное право… С. 8.
53 Анпилогов Г. Н. Новые документы… С. 80–109.
54 Там же. С. 83–84, 80.
55 Там же. С. 97.
56 Псковские летописи. Вып. 2. М., 1955. С. 181–182.
57 РГАДА, ф. 210, оп. 6в, д. 2, л. 3–106 об.
58 Там же, л. 90–106 об.
59 Селин А. А. Русско-шведская граница (1617–1700): формирование, функционирование, наследие. СПб., 2016. С. 138–268.
60 Якубов К. Россия и Швеция в первой половине XVII в. СПб., 1897. С. 166, 287.
61 Там же. С. 286–287.
62 Селин А. А. Русско-шведская граница… С. 235–240.
63 Якубов К. Россия и Швеция… С. 171, 178.
64 Там же. С. 160, 162, 163.
65 Селин А. А. Русско-шведская граница… С. 266–267.
About the authors
Vladimir Arakcheev
Russian State Archive of Ancient Acts; Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: info@rcsi.science
доктор исторических наук, директор Российского государственного архива древних актов, ведущий научный сотрудник
Russian Federation, Moscow; MoscowReferences
Supplementary files