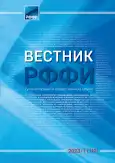Caucasian–Caspian Region in the Politics of the Russian Empire in the First Decade of the 18th Century
- Autores: Magaramov S.A.1
-
Afiliações:
- Dagestan Federal Research Center RAS
- Edição: Nº 1 (2023)
- Páginas: 9-19
- Seção: DEDICATED TO THE 350TH ANNIVERSARY OF PETER’S THE GREAT BIRTHDAY
- URL: https://bakhtiniada.ru/2587-6090/article/view/278723
- DOI: https://doi.org/10.22204/2587-8956-2023-112-01-9-19
- ID: 278723
Citar
Texto integral
Resumo
The article focuses on the latest findings of the study on the Caspian foreign policy direction of the Russian Empire under Peter the Great. The heuristic work in the federal and regional ar- chives of Russia helped to identify and introduce to academia over 300 original documents that allow to study the Russian policy in the south-western areas of the Caspian Sea in the first third of the 18th century, which became Russian territories after the Persian campaign. Detailed analysis of sources on the Persian campaign and stationing of Russian troops in the Caspian region, first in historiography, revealed the most unrenowned subjects and allowed to study those using new- ly discovered documented data with the application of new methodological approaches.
The author studies the administrative practice in the Russian Empire in the Caspian region in 1722–1735, showing the challenges of governing the region associated with the natural and geographical aspects, the remoteness of the region from the main part of the state and the ethno-political structure of the annexed territories. The Persian campaign of Peter the Great resulted in the emergence of a Russian-Turkish frontier in the eastern Transcaucasia, which separated the historically developed Caucasian and Persian communities disregarding their economic traditions and ethnocultural contacts, leading to a complex and volatile fron- tier situation in the region. The study of the behavioural actions of various actors in the fron- tier region allowed to determine their attitude to the emergence of the Russian and Ottoman empires in the Western Caspian region. The author analyses the specifics of the dual admin- istrative system established in Derbent after it was annexed to Russia in 1722, where both a representative of the local authority via the naib and the imperial commandant performed administrative functions. For the first time in Caucasian studies, the article reconstructs the image of Peter the Great in the historical memory of Dagestanis of the present and of the time of the campaign.
As a result of the project, two these and a collection of archive documents and materials have been published.
Texto integral
В связи с 350-летием со дня рождения первого российского императора Петра I, которое широко отмечалось по всей стране, особую актуальность приобретает изучение различных исторических сюжетов, связанных с деятельностью самого Петра I и Петровской эпохой. Юбилейные даты служат хорошим поводом для активизации научного исследования того или иного исторического события, деятельности выдающихся исторических личностей. Последней крупной внешнеполитической акцией Петра Великого, приведшей к коренным геополитическим изменениям в Каспийском регионе, стали Персидский поход 1722–1723 гг. и пребывание российских войск и военной администрации в юго-западных областях Каспия.
Архивно-поисковая работа
Наш исследовательский проект был посвящён исследованию историографических, методологических проблем и конкретноисторических аспектов каспийскоперсидского вектора внешней политики Российской империи в первой трети XVIII в. Проект предусматривал работу в федеральных (АВПРИ, РГВИА, РГАДА (Москва), РГАВМФ (Санкт-Петербург)) и региональном (Центральный государственный архив Республики Дагестан) архивах и научных библиотеках (РГБ, РНБ). В ходе работ был изучен большой массив документации фондов РГАДА — Кабинета Петра Великого, Рукописного и Картографического отделов библиотеки Московского Главного архива Министерства иностранных дел, Дела Правительствующего Сената. В этих фондах содержится деловая и частная переписка командующих войск и комендантов крепостей Святого Креста, Терки, Дербента, Баку, астраханского губернатора А.П. Волынского. Эта переписка раскрывает многие стороны функционирования и деятельности Низового корпуса Русской Императорской армии, основной целью которого было обеспечение присутствия российской власти в прикаспийских областях.
В РГВИА изучены документы Военной коллегии, Военно-учёного архива, в которых содержатся данные о военнополитической ситуации в Западном Прикаспии и об организации командующими войск карательных экспедиций против непокорных кавказских и персидских владетелей. В АВПРИ особую ценность представляют документы фонда «Сношения России с Персией», в котором сосредоточены указы и рескрипты дипломатическим представителям и командованию Низового корпуса. Новые документальные данные также выявлены в фонде «Канцелярия генерал-адмирала Ф.М. Апраксина», хранящиеся в РГА ВМФ в Санкт-Петербурге.
В ЦГА РД документы извлечены из фондов «Комендант крепости Терки», «Комендант крепости Святого Креста», «Дербентский комендант», «Бакинский комендант», «Походная канцелярия генерал-лейтенанта В.Я. Левашова», «Кизлярская комендантская канцелярия». Документы данных фондов содержат подробные сведения о комплектовании гарнизонов войск Низового корпуса с указанием географии поступающих на службу рекрутов, данные о финансовом и продовольственном обеспечении войск, о выплатах дагестанским владетелям для обеспечения их лояльности к русским. Весьма ценными являются данные о налаживании производства вина, виноградарства, выращивании шафрана и других культур в садах императорского величества в Дербенте. Об уровне развития торговых отношений в регионе свидетельствуют извлечения из таможенных книг.
Новый сборник архивных документов по истории Персидского похода
В ходе реализации проекта был проработан большой объём архивных материалов, связанных с различными сюжетами российской имперской политики в юго-западных областях Каспия в первой трети XVIII в. Всё это позволило собрать большую базу источниковых данных по тематике проекта. Специфика источниковедческих исследований нашла отражение в опубликованном сборнике архивных документов и материалов [1].
Собранные в сборнике данные реконструируют российскую политику на западном и южном побережьях Каспия в 1722– 1735 гг. в международном контексте, когда регион был завоёван и юридически признан за Российской империей, освещают имперский опыт управления и освоения региона, раскрывают цели и задачи российской дипломатии при взаимодействии с Персией и Османской империей, показывают политику выстраивания отношений российской администрации с кавказскими правящими элитами. Источники также позволяют выявить трудности в функционировании Низового корпуса, связанные с природно-климатическими факторами и сложным этнополитическим составом региона, воссоздать реакцию командующих войсками и комендантов крепостей на военно-политические события в регионе. Ряд документов отражает процессы комплектования, снабжения, финансирования императорских войск, содержит сведения о доходах и расходах на присоединённых к России прикаспийских землях.
В качестве приложения к сборнику опубликованы исторические карты земель на западном берегу Каспийского моря, описание похода императора Петра Великого и его войск в Западный Прикаспий, карта Каспийского моря, составленная капитанами флота К. Верденом и Ф. Соймоновым, планы крепостей, военных сооружений, гаваней. Составленные военными инженерами и картографами XVIII в. исторические карты, планы и чертежи крепостей, укреплений и гаваней являются ценнейшими источниками для изучения кавказско-каспийского вектора внешней политики Российской империи Петровской эпохи. Среди них особую ценность представляет военно-исторический плакат 1779 г. «Описание похода государя императора Петра Великого к лежащим при Каспийском море персидским провинциям», иллюстрированный планами прикаспийских городов, крепостей и картой Каспийского моря. В.В. Комаров [2] опубликовал текстовую часть военноисторического плаката, археографическую публикацию плаката из собрания Отдела рукописей Библиотеки Академии наук осуществила Л.Л. Муравьёва [3]. Картографическая часть и иллюстрации плаката до последнего времени оставались без внимания, в то время как рукописный текст и карта Каспийского моря (ил. 1), планы городов и крепостей составляют две тесно связанные между собой части плаката 1779 г., составленные на основе источников, современных описываемым событиям. Нам удалось восполнить этот пробел. В процессе работы над проектом в фонде РГВИА был выявлен и опубликован целиком военно-исторический плакат 1779 г. в сборнике документов.
Ил. 1. Карта Каспийского моря с указанием маршрутов Персидского похода Петра I, экспедиций в Решт и Баку 1722–1723 гг.
Промежуточным итогом работ по проекту явилась монография, посвящённая истории Дербентского гарнизона [4]. В ней показана история пребывания российских императорских войск в юго-западных областях Каспийского моря в первой трети XVIII в. на примере Дербентского гарнизона, обеспечивавшего, как и другие имперские институты, присутствие российской власти в регионе. Исследуются сюжеты, связанные с формированием и деятельностью Дербентского гарнизона, созданного Петром Великим, на основании анализа деятельности комендантов Дербента и других военных чинов, являвшихся проводниками российской власти в регионе, показана сущность имперского опыта управления городом. В приложении к работе даются выявленные участниками проекта в фондах федеральных архивов гравюра и три плана города Дербента и его крепости 20-х гг. XVIII в., на которых отмечено размещение российских войск в городе, план проекта дербентского порта и бастиона/шанца на берегу моря, а также военнополитические карты региона Петровской эпохи, публикуемые впервые. Монография уже успела получить высокую оценку у историков-кавказоведов [5].
Новые сюжеты истории кавказскокаспийской политики Петра I
Историографический обзор проблемы Персидского похода Петра I и его последствий [6] позволил выявить наиболее слабо разработанные аспекты проблемы, показать новаторские оценки авторов разных исторических эпох и актуализировать новые сюжеты. С учётом новых документальных данных была проведена научная разработка новых сюжетов Персидской кампании Петра Великого и её итогов, не затронутых или мало исследованных предшественниками.
Одним из последствий похода Петра I, которое до сих пор оставалось вне поля зрения исследователей, стало возникновение российско-турецкого пограничья (фронтир) в Восточном Закавказье. Применение новых подходов в исследованиях, связанных с теорией контактных (фронтирных) зон или пограничья, дало возможность акцентировать внимание на сложности демаркации пограничной линии и изучить реакцию местных сообществ и политических элит, оказавшихся по обе стороны границы. Новая пограничная линия, разделившая исторически формировавшиеся кавказские и персидские общества без учёта сложившихся традиций ведения хозяйства и этнокультурных контактов, привела к сложной и изменчивой пограничной жизни в регионе. Местные общества и их элиты, оказавшись по обе стороны пограничья, не стали мириться с новым порядком [7, с. 106].
В процессе архивно-эвристической работы в фонде 846 РГВИА была выявлена составленная геодезистами Петровской эпохи карта с указанием демаркации кавказских территорий между Российской и Османской империями, которая называется «Карта о границе, сочиненной в Ширвани»1 (ил. 2). Археографическое описание карты выполнил Л.А. Гольденберг [8], но сама карта не была издана. На ней обозначена часть Каспийского моря от Дербента до Баку и прилегающая с запада к морю территория. Красной прямой линией на карте очерчена граница между двумя государствами в соответствии с теми условиями, которые содержит первая статья Константинопольского договора 1724 г. Большие красные точки на этой линии обозначают поставленные пограничные знаки. Пунктирная красная линия позади Дербента и от реки Самур означает, что демаркация границы ещё не закончена в этой зоне.
Ил. 2. Карта демаркации российско-османской границы в Восточном Закавказье в 20-е гг. XVIII в.
В Дагестане под власть турок переходили владения Сурхай-хана Казикумухского, лезгинское общество Ахты-пара и часть общества Алты-пара в верховьях р. Самур, а остальная часть Дагестана была признана за Россией. Под османской «порцией» также признавались Грузия и Ереванская провинция. Что касается Ширванской провинции с городом Шемаха, то она передавалась под власть лезгинского владетеля Хаджи-Дауда под протекторатом Османской империи.
Относительно новым сюжетом истории присутствия российской власти в Западном Прикаспии является реконструкция имперской управленческой практики на присоединённых к России прикаспийских землях. Укрепление позиций российской власти включало целый комплекс мероприятий: обращения и призывы к населению не следовать за «бунтовщиками», выплата вознаграждений и оказание царской милости лояльным владетелям, внедрение института аманатства (заложничества), сбор информации с помощью шпионов, купцов. Российская власть в Западном Прикаспии в основном поддерживалась с помощью армии как одного из ключевых имперских институтов. Нездоровый и непривычный для русского солдата климат и соответственно большие потери среди войск от болезней, отдалённость Западного Прикаспия от основной части Российской империи, что превращало регион в «заморскую» периферию, отсутствие надёжных коммуникаций для пополнения личного состава гарнизонов и их продовольственного обеспечения, этнополитическая разобщённость региона, нежелание местного населения подчиняться «чужой» власти, противостояние персидских и турецких властей создавали серьёзные трудности в управлении регионом.
В рамках исследований по проекту проанализирована роль одной из незаурядных личностей Петровской эпохи — коменданта Дербента Андрея Томасовича Юнгера [9] («птенца гнезда Петрова») в управлении и хозяйственно-экономическом освоении города и его округи, одного из немногих, кто продолжил дело императора после его смерти. А.Т. Юнгер – «русский европеец», сын шотландца, родился в России. Его дед Эрчвальд (Арчьвалд) Юнгер в 1636 г. приехал «в Москву порутчиком из шкотцкой земли» и поступил на русскую службу. Сын Эрчвальда, отец Андрея Юнгера, Томас (Фома) также служил в русской армии, дослужился до звания полковника.
В должности коменданта Дербента, по данным исследователя М.В. Бабича, А.Т. Юнгер находился с 29 августа 1722 г. по июль 1730 г. [10, с. 42]. Однако на основе архивных источников нам удалось внести некоторое уточнение в данный вопрос, а именно, что 18 марта 1728 г. комендантом Дербента был назначен полковник фон Лукей, пожалованный в бригадиры, и занимал он эту должность до января 1729 г., пока не скончался от полученных ран. В это время А.Т. Юнгер был назначен обер-комендантом Астрахани. После смерти фон Лукея А.Т. Юнгер вновь был назначен на должность дербентского коменданта. Таким образом, А.Т. Юнгер находился в должности коменданта Дербента с августа 1722 г. по июль 1730 г. с перерывом с марта 1728 г. по январь 1729 г. После смещения с должности коменданта Дербентского гарнизона князь В.В. Долгоруков назначил А.Т. Юнгера астраханским обер-комендантом. Анализ деятельности А.Т. Юнгера в должности коменданта Дербента показывает, что он был хорошим управленцем, которому удавалось решать многие задачи, поставленные центральным правительством, а сложные вопросы всегда старался урегулировать мирным путём. А.Т. Юнгер являлся образцовым петровским офицером.
Впервые в российской историографии изучена политическая деятельность правителя (наиба) Дербента Имама Кули-бека [11], сыгравшего ключевую роль в мирной сдаче города Петру Первому, незаслуженно преданная забвению; выяснен характер его взаимоотношений с российской центральной и региональной властью, что позволило углубить и расширить исторические знания о событиях на Восточном Кавказе, связанные с имперской политикой в регионе в первой трети XVIII в.
Дербентский наиб, служивший при прежней персидской администрации, удачно перестроился под новые военнополитические реалии, перейдя на службу империи и сохранив за собой должность наиба при новой власти. Политическая позиция наиба в сложившейся международной ситуации была единственно верной, он склонился к сдаче города без боя. Благодаря его действиям жители Дербента сохранили своё имущество и положение, перешли под покровительство сильной державы, получили возможность свободной торговли в России. Горожанам не было смысла оказывать военное сопротивление многочисленной, сильной, хорошо организованной петровской армии — в противном случае их ожидала тяжёлая, гибельная участь. В качестве такого примера можно привести осаду Баку в июле 1723 г., когда после отказа от сдачи начался артиллерийский обстрел, продолжавшийся несколько дней и вызвавший гибель защитников и горожан, разрушения и пожары. В итоге начальник гарнизона (юзбаши) Дергах Кули-бек объявил о сдаче города, а жители Баку приветствовали русских солдат [12, с. 94–95].
В отличие от ряда дагестанских владетелей, у которых была возможность не проявлять лояльность Петру I и чьи владения не входили в сферу его интересов, с Дербентом дело обстояло иначе. Имевший особое стратегическое значение Дербент изначально входил в число городов, которые Петр I планировал присоединить к Российской империи, взятие его было одной из важнейших задач Персидской кампании. Мощь и сила русских войск, заблаговременно разосланный императорский манифест, гарантии безопасности обусловили решение дербентского наиба с первых дней вступления российских войск в Дагестан выразить свою покорность государю Петру Великому. Наиб Имам Кули-бек в виду очевидного превосходства сил Петра предпочитал диалог сопротивлению. Имперская власть в свою очередь высоко оценила позицию наиба, проявив благосклонность не только к наибу, но и ко всем горожанам. Наибу была предоставлена возможность служить империи и даже осуществить визит ко двору императрицы Екатерины I. Во время визита дербентского правителя ко двору императрицы он был пожалован чином генерал-майора и причислен к дворянскому сословию за его верные услуги перед российской властью. Также были удовлетворены все его прошения1 (ил. 3, 4). Политическая деятельность дербентского правителя Имама Кули-бека стала образцом служения российской власти представителей иноэтнических групп.
Ил. 3. Прошение дербентского наиба Имама Кули-бека, поданное в Санкт-Петербурге 24 декабря 1726 г.
Ил. 4. Донесение дербентского наиба Имама Кули-бека Петру Толстому от 7 мая 1727 г.
Важным направлением современной историографии являются проблемы коммеморации, изучение образа Петра Великого в российской исторической памяти. В этом плане в рамках исследований по проекту выяснено место, в том числе методом социологического опроса, первого российского императора Петра I в исторической памяти дагестанцев, а также восстановлен образ государя на момент Персидского похода [13]. Петровская эпоха и личность императора глубоко запечатлелись в исторической памяти народов Дагестана. Это проявилось в широком бытовании исторических преданий, сказок, существовании топонимов, памятников и памятных мест, связанных с Петром I.
Заключение
Конечным результатом работ по проекту стало издание коллективной монографии [14], в которой представлены новейшие результаты исследования кавказскокаспийского вектора внешней политики Петра Великого и его преемников в первой трети XVIII в. Работа написана на основе широкого круга источников, большая часть которых впервые вводится в научные оборот.
Исследования в рамках выполнения проекта базировались на комплексе подходов, включавшем кроме традиционных общеисторических методов комплекс источниковедческих методик, историографическое осмысление проблемы, историкоантропологический подход, теорию фронтира, междисциплинарное направление Memory studies, которое исследует формирование представлений о прошлом, передачу этих данных из поколения в поколение. Полученные научные результаты соответствуют мировому уровню исследований и разработок в области гуманитарных наук.
Sobre autores
Sharafutdin Magaramov
Dagestan Federal Research Center RAS
Autor responsável pela correspondência
Email: sharafetdin80@mail.ru
Candidate of Science (History), senior researcher
RússiaBibliografia
- Zapadnyi Prikaspii v sostave Rossiiskoi imperii (1722–1735 gg.): Sbornik arkhivnykh dokumen-tov / Sost. E.I. Inozemtseva, Sh.A. Magaramov, N.D. Chekulaev. Makhachkala: Mavraev'', 2020 (in Russian).
- Komarov V.V. Persidskaya voina 1722–1725 gg. M.: Tip. «Katkov i K°», 1867 (in Russian).
- Murav'yova L.L. Voenno-istoricheskii plakat XVIII veka o Persidskom pokhode Petra I // Arkheograficheskii ezhegodnik za 1961 god. M., 1962. S. 393–415 (in Russian).
- Magaramov Sh.A., Chekulaev N.D., Inozemtseva E.I. Istoriya Derbentskogo garnizona Rossiiskoi imperatorskoi armii (1722–1735). Makhachkala: Lotos, 2021 (in Russian).
- Klychnikov Yu.Yu. «Nelitsemernoyu lyuboviyu prinyali…»: 300-letie pokhoda imperatora Petra Velikogo na Kaspii (k otsenke novinki otechestvennogo kavkazovedeniya: Magaramov Sh.A., Chekulaev N.D., Inozemtseva E.I. Istoriya Derbentskogo garnizona Rossiiskoi imperatorskoi armii (1722– 1735). Makhachkala: Lotos, 2021) // Elektronnyi zhurnal «Kavkazologiya». 2022. № 2. S. 233–247 (in Russian).
- Magaramov Sh.A. Istoriografiya Persidskogo pokhoda Petra Velikogo 1722–1723 gg. i ego posledstvii (K 300-letiyu pokhoda) // Istoriya, arkheologiya i etnografiya Kavkaza. T. 17. № 3. 2021. S. 581–605 (in Russian).
- Magaramov Sh.A. Rossiisko-osmanskoe pogranich'e v Vostochnom Zakavkaz'e v 20–30-e gg. XVIII v.: problemy razgranicheniya, reaktsiya pogranichnykh soobshchestv // Zhurnal frontirnykh issledovanii. 2022. № 1. S. 94–109 (in Russian).
- Gol'denberg L.A. Rukopisnye karty i plany XVIII v. kak istochnik po istorii goroda Derbenta // Arkheograficheskii ezhegodnik za 1963 g. M., 1964. S. 115–140 (in Russian).
- Magaramov Sh.A., Magomedov N.A. Komendant Derbenta A.T. Yunger (1722–1730 gg.): opyt upravlencheskoi praktiki // Narody Kavkaza v XVIII–XXI vv.: istoriya, politika, kul'tura: Materialy VIII Mezhdunarodnogo foruma istorikov-kavkazovedov. Rostov-na-Donu, 2021. S. 133–134 (in Russian).
- Babich M.V. Andrei Yunger, ili o predkakh Erasta Fandorina v epokhu Petra Velikogo i ego preemnikov // Petrovskoe vremya v litsakh – 2005: Materialy nauchnoi konferentsii. SPb., 2005. S. 38–49 (in Russian).
- Magaramov Sh.A. «O vernosti ego izvestno vsem»: politicheskaya deyatel'nost' naiba Derbenta Imama Kuli-beka // Istoriya, arkheologiya i etnografiya Kavkaza. T. 18. № 2. 2022. S. 306–322 (in Russian).
- Kurukin I.V. Persidskii pokhod Petra Velikogo: Nizovoi korpus na beregakh Kaspiya (1722–1735). M.: Kvadriga; Ob''edinyonnaya redaktsiya MVD Rossii, 2010 (in Russian).
- Polchaeva F.A., Kasymov Dzh.A. Obraz Petra I v istoricheskoi pamyati naseleniya Dagestana // Istoriya, arkheologiya i etnografiya Kavkaza. T. 16. № 4. 2020. S. 888–899 (in Russian).
- Magaramov Sh.A., Kidirniyazov D.S., Chekulaev N.D., Seferbekov M.R., Polchaeva F.A., Magomedov N.A., Abdusalamov M.-P.B. Kavkazsko-Kaspiiskii region v politike Rossiiskoi imperii v XVIII v. / Pod obshch. red. Sh.A. Magaramova. Makhachkala: Lotos, 2022 (in Russian).
Arquivos suplementares