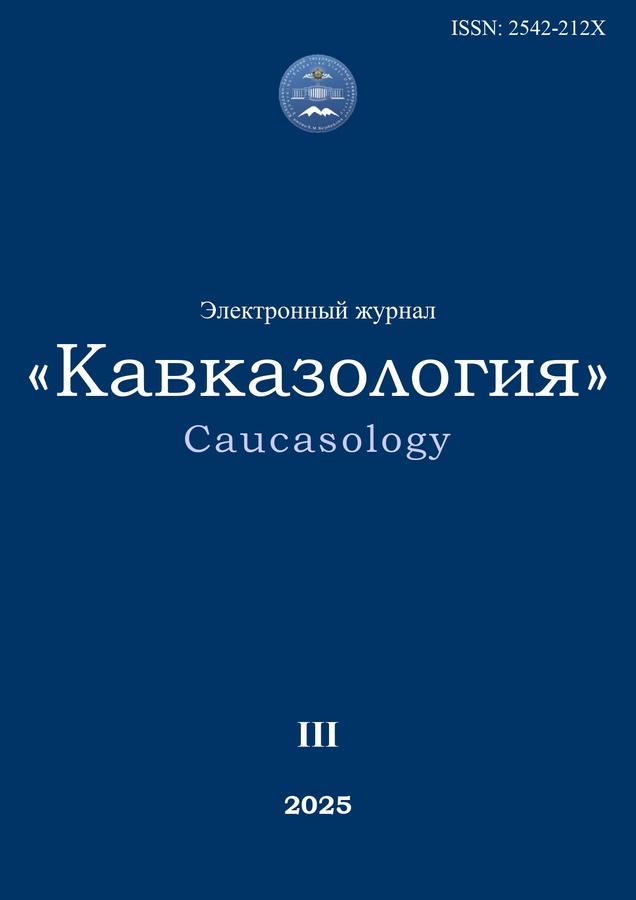Некоторые направления деятельности приставства Малой Кабарды в 1830-1858 годах
- Авторы: Беппаев А.Р.1
-
Учреждения:
- Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук
- Выпуск: № 2 (2025)
- Страницы: 14-25
- Раздел: Средневековая и новая история
- Статья получена: 05.07.2025
- Статья опубликована: 15.12.2025
- URL: https://bakhtiniada.ru/2542-212X/article/view/299302
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2025-2-14-25
- EDN: https://elibrary.ru/AGQZZQ
- ID: 299302
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье исследованы некоторые направления деятельности приставства Малой Кабарды в 1830-1858 гг. В работе с опорой в основном на делопроизводственную документацию управления Центра Кавказской линии, управления Малой Кабарды и Кабардинского временного суда и в контексте сложившейся к тому времени системы учреждений локального судебно-административного контроля рассмотрены его административные, полицейские, судебные и некоторые другие полномочия. Обращается внимание на то, что в их задачи входило пресечение укрывательства лиц, совершивших преступления (абреков), наблюдение за санитарно-эпидемиологической обстановкой среди населения с целью предотвращения распространения инфекций, проведение предварительных следственных действий по уголовным делам, самостоятельное принятие решений по мелким правонарушениям и гражданским спорам, урегулирование земельных вопросов, сбор информации о принадлежности местных жителей к различным сословиям, предоставление руководству отчетности о движении денежных средств по приставству и т.п. Эти направления деятельности рассмотрены с учетом того, что пристав Малой Кабарды в пределах своих полномочий взаимодействовал как с вышестоящими (начальник Центра Кавказской линии), так и с другими должностными лицами и учреждениями (Кабардинский временный суд, начальник Сунженской линии и др.) для решения вопросов, выходящих за рамки его прямой административной подчиненности. Сделан вывод о том, что в 1830–1858 гг. приставство Малой Кабарды было важным звеном в системе управления Центральном Кавказом, сочетавшим в себе административные, полицейские, судебные и некоторые другие функции.
Полный текст
Введение
В 1830–1858 гг. приставство Малой Кабарды занимало важное место в системе локального судебно-административного контроля на Центральном Кавказе. Пристав по-прежнему выполнял роль посредника между российской властью и местным населением, а приставское управление было важным механизмом инкорпорации населения региона в политико-правовое пространство Российской империи. Исследование основных направлений его деятельности дает возможность рассмотреть особенности развития российского аппарата государства в этом регионе в одних из сложнейших периодов истории региона и народов, его населяющих. Деятельность приставства Малой Кабарды была многогранна и охватывала широкий спектр вопросов от поддержания общественного порядка до урегулирования споров между местными жителями. Пристав, как представитель российской власти в регионе, должен был учитывать местные обычаи и традиции, чтобы эффективно управлять территорией и предотвращать конфликты. Поэтому изучение истории приставства Малой Кабарды позволяет лучше понять процессы интеграции народов Центрального Кавказа в состав Российской империи, а также особенности развития институтов российской государственности на юге страны.
Основные направления деятельности приставского управления Малой Кабарды в 1830–1858 гг. до сих пор не становились предметом специального исследования. Хотя некоторые его аспекты так или иначе затрагивались в работах кавказоведов по социально-политической истории Центрального Кавказа второй четверти XIX в. [Абазов 2016; Абазов 2023a; Абазов 2023b; Абазов, Нахушева 2020; Адыги 2022; Алхасова 2021; Алхасова 2022; Алхасова 2023; Алхасова 2024; Века 2017; Казаков 2006; Калмыков 2007; Кушхабиев, Журтова, Алхасова 2024; Марзей 2021; Нахушева 2020]. Тогда как в архивах страны хранится достаточно большой материал, позволяющий уточнить и подробно охарактеризовать основные направления деятельности приставского управления Малой Кабарды в это время. В ходе исследования были изучены в основном материалы Управления Центрального государственного архива Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики (далее. – УЦГА АС КБР (Ф. И-8 «Управление Малой Кабарды» (1845–1857 гг.), Ф. И-16 «Управление Центра Кавказской линии» (1845–1857 гг.), Ф. И-23 «Кабардинский временный суд»). Их анализ дает возможность подробно изучить основные направления деятельности приставского управления Малой Кабарды в указанный период, рассмотреть его штатную структуру, порядок финансирования и основные направления деятельности.
Результаты исследования
В 1830-1858 гг. на Кавказе функционировала целая сеть приставских управлений, подведомственных начальникам определенных дистанций Кавказской линии. И.Р. Марзей установила, что «в это время на подведомственной Центру и Левому крылу Кавказской линии территории функционировали следующие приставства и управления: Главное приставство горских народов бывшего Владикавказского округа; приставство урусбиевского, чегемского, хуламского и балкарского народов; малокабардинское приставство; дигорское приставство; приставство алагирских и куртатинских народов; приставство назрановского народа; приставство карабулаков и чеченцев; кумыкское приставство; костековское приставство; аксаевское приставство; приставство надтеречных чеченцев и брагунского народа. Кроме того, в эту систему были включены 2 старшины галгаевского народа; 2 знаменщика назрановского народа» [Марзей 2021: 117].
Документально подтверждается, что малокабардинское приставство функционировало с начала 30-х гг. XIX в. до 1858 г. В разные годы приставство Малой Кабарды попеременно возглавляли капитан Е.А. Бекович-Черкасский, майор Ф.А. Бекович-Черкасский, подпоручик А.Ш. Абаев, сотник М.В. Дыдымов, хорунжий Тефов, майор Анастасьев, штабс-капитан Ф.П. Диков, сотник Тургиев и т.д. И.Р. Марзей считает, что «малокабардинское приставство стало правопреемницей реорганизованного в 1822 г. приставства кабардинского народа» [Марзей 2021: 120]. С этим отчасти можно согласиться, т.к. с 1822 г. функции пристава в отношении населения Большой Кабарды выполнял Кабардинский временный суд. И с этого времени приставского кабардинского народа, учреждённое в 1769 г. в прежнем виде перестало существовать. Однако до настоящего времени практически не сохранилось сведения о функционировании приставства Малой Кабарды в середине 20-х гг. XIX в., равно как и нет источников об его учреждении на рубеже 20-х – 30-х гг. XIX в. и до сих пор не обнаружено инструкции либо другого учредительного документа, определявшего его права и обязанности. Функционирование приставства Малой Кабарды с начала 30-х гг. XIX в. до 1858 г. – данность, отраженная в широком массиве делопроизводственной документации.
Приставы Малой Кабарды были подведомственны начальнику Центра Кавказской линии (а в 1857–1858 гг. – начальнику Левого фланга Кавказской линии) и обладали значительными полномочиями. В их задачи входило пресечение укрывательства лиц, совершивших преступления (абреков), наблюдение за санитарно-эпидемиологической обстановкой среди населения с целью предотвращения распространения инфекций. Кроме того, они проводили предварительные следственные действия по серьёзным уголовным делам. При этом приставы имели право самостоятельно выносить решения по мелким правонарушениям и гражданским спорам, не требующим сложного разбирательства. Пристав принимал участие в урегулировании ряда земельных вопросов, осуществлял сбор информации о принадлежности представителей подведомственного населения к различным сословиям, реализовывали меры, направленные на предотвращение правонарушений, а также предоставляли вышестоящему руководству отчетность о поступлении денежных средств в общественную сумму. Ранее мы установили, что в 1848–1849 гг. пристав Малой Кабарды обладал некоторыми полномочиями по ведению малокабардинской общественной суммы и определили каналы пополнения и расходования ее средств, а также то, что основной ее доход составляли денежные сборы с населения региона «за вывоз леса за пределы Кавказской линии для продажи, штрафы за преступления и средства от продажи имущества местных жителей, самовольно переселившихся из региона проживания на неподконтрольные российской власти территории» [Беппаев 2025: 15].
Анализ документов показывает, что с начала 30-х гг. XIX в. до 1858 г. приставство Малой Кабарды играло важную роль в управлении коренным населением региона и занимало одну из ключевых позиций в системе учреждений локального судебно-административного контроля на Центральном Кавказе. Поэтому, полагаем, что наиболее наглядное представление о его деятельности можно получить на основе изучения наиболее типичных примеров из практики.
Так, пристав Малой Кабарды в пределах своей компетенции взаимодействовал с должностными лицами и учреждениями, не состоящими с ним в административной зависимости. Например, в 1847 г. с начальником Сунженской линии [УЦГА АС КБР. Ф. И-8. Оп. 1. Д. 2. Л. 14] по вопросам решения споров на почве имущественных отношений [УЦГА АС КБР. Ф. И-8. Оп. 1. Д. 2. Л. 14]. Такое взаимодействие документировалось в основном в форме отношений.
В конце 30-х – первой половине 40-х гг. XIX в. Кабардинский временный суд и пристав Малой Кабарды был вовлечен в активное обсуждение вопросов о принятии мер предосторожности против вторжения Шамиля в Кабарду. В частности, пристав Малой Кабарды майор Анастасьев направлял в адрес начальника Центра Кавказской линии многочисленные рапорта по этой части, в которых оповещал о фактах принятия жителями подведомственной ему территории преступников под предлогом обычая гостеприимства [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 138. Л. 1 об.], предлагал принять конкретные меры по противодействию им, выражал мнения о количестве и оснащении вооруженных отрядов для ликвидации угроз их пребывания на вверенной ему территории и поимке преступников, направлял полученные от посылаемых им в Чечню лазутчиками сведения [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 39. Л. 40], сведения о намерениях групп сторонников Шамиля напасть на конкретные населенные пункты Малой Кабарды [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 39. Л. 55] и т.п. Позже преемник Анастасьева штабс-капитан Ильин направлял аналогичные рапорта о присутствии абреков на вверенной ему территории, посещении Малой Кабарды преступниками из других регионов и конкретных местах их размещения [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 138. Л. 9 об.]. Пристав ингушевских и карабулакских народов сотник Мистулов о неповиновении крестьян своим подвластным и неисполнении приказов пристава [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 138. Л. 3 об.]. Начальник Центра Кавказской линии в ответ на каждый рапорт предлагал исполнить конкретные предписания. Некоторые из получаемых сведений начальник Центра Кавказской линии направлял в штаб войск на Кавказской линии и Черномории.
В некоторых случаях на приставов налагалась обязанность о приведении в исполнение решений Кабардинского временного суда, если ответчики проживали на подведомственной им территории. В этом случае суд сообщал о принятом решении начальнику Центра Кавказской линии, а тот в свою очередь адресовал приставу соответствующее предписание, в котором приводилась суть дела (спора, конфликта) и содержались сведения о мере наказания. Например, 11 декабря 1845 г. было приставу Малой Кабарды было направлено предписание начальника Центра Кавказской линии, в котором говорилось о необходимости взыскать 130 руб. сер. в пользу князя Тлостаналиева с жителя Малой Кабарды Б. за похищенную его братом абреком У. лошадь [УЦГА АС КБР. Ф. И-23. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1]. В свою очередь пристав по получении предписания направил для исполнения решения Кабардинского временного суда урядника [УЦГА АС КБР. Ф. И-23. Оп. 1 .Ед. хр. 1. Л. 2]. Сведения об исполнении решения суда и предписания начальника Центра Кавказской линии фиксировались в виде расписки ответчика и потерпевшего (истца), о чем пристав сообщал начальнику в соответствующем рапорте.
Одной из обязанностей пристава Малой Кабарды в 1848 г. была организация охраны Военно-Грузинской дороги от всяческих посягательств жителей подведомственных аулов. Например, в предписании начальника Малой Кабарды приставу Малой Кабарды от 1 апреля 1848 г. отмечалось: «препровождая при сем расписание о числе караулов, имеющих заняться в Малой Кабарде жителями подведомственных вам аулов, предписываю Вашему благородию согласно оного распорядиться немедленно назначить определенное из каждого аула число людей, отправить их на назначенные места и наблюсти, чтоб в каждом пункте находилось непременно полное число людей. В противном случае если кто из кабардинцев не явится в караул, то с него будет взыскано с штрафованием 1 быка…» [УЦГА АС КБР. Ф. И-8. Оп. 1. Д. 22. Л. 21–21 об.].
Большой объем работы малокабардинский пристав выполнял в области обеспечения и содействия расследованию преступлений. Чаще через его посредство фигуранты уголовных дел приглашались для разбирательств в соответствующие инстанции. Например, в 1847 г. начальник Центра Кавказской линии направил предписание начальнику Малой Кабарды полковнику Эристову, в котором распорядился вызывать к нему трех местных жителей, уличенных в краже быка [УЦГА АС КБР. Ф. И-8. Оп. 1. Д. 32. Л. 2]. В свою очередь Эристов направил это предписание для непосредственного исполнения приставу Малой Кабарды хорунжему Тургиеву [УЦГА АС КБР. Ф. И-8. Оп. 1. Д. 32. Л. 2 об.]. В 1836 г. пристав Малой Кабарды Бекович-Черкасский участвовал в решении споров по вопросам конфискации имущества у жителей Малой Кабарды, выселенных за уголовные преступления [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 20]. Также приставы оказывали содействие в поимке бежавших из других регионов Кавказа правонарушителей. Например, пристав Малой Кабарды Анастасьев 24 мая 1841 г. рапортовал и.д. начальника Центра Кавказской линии о поимке жителя Чечни, подозреваемого в связях с Шамилем [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 99. Л. 3]. В апреле 1845 г. пристав Малой Кабарды капитан Диков направлял рапорта начальнику Центра Кавказской линии со сведениями о привлечении к ответственности жителей подведомственной ему территории за кражу лошадей [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 460. Л. 4], о розыске сына князя Мисостова [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 441. Л. 1] и др. В 1851–1852 гг. начальник ЦКЛ состоял в переписке с приставом Малой Кабарды сотником Тургиевым по вопросу о привлечении к ответственности холопа В. за убийство черкеса Г-ва [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 1143]. В решении этого вопроса пристав Малой Кабарды выступал в качестве лица, проводившего допросы участников разбирательства, отвечавшего за их доставление к местам разбирательства спора, оповещал начальника Центра Кавказской линии о ходе расследования по делу и т.п.
Пристав за свою работу получали жалование, их деятельность обеспечивал аппарат в составе (в некоторых случаях) помощника, письмоводителя и др. Так, например, в 1839 г. пристав Малой Кабарды получал жалование по чину за счет средств экстраординарной сумму по 100 руб. по предписанию корпусного командира, а, например, дигорский пристав – из экстраординарной суммы по 150 руб. [Административная интеграции… Т. II. Ч. III. 2024. С. 49].
Иногда в составе приставского управления работали штатные переводчики. В 1847 г. иерархия административных структур просматривается на основе анализа вопросов назначения переводчика в приставское управление Малой Кабарды [УЦГА АС КБР. Ф. И-8. Оп. 1. Д. 35. Л. 1]. Так, например, 30 июня 1847 г. управление начальника Малой Кабарды уведомило пристава Малой Кабарды поручика Тургиева о том, что к нему в переводчики был зачислен казак М., который обязан был находиться там постоянно по должности [УЦГА АС КБР. Ф. И-8. Оп. 1. Д. 35. Л. 1]. В отношении генерал-майора Филипсона генерал-майору Нестерову от 22 февраля 1847 г. сообщалось о том, что «штатом, составленном для магометанских народов при подведомственном Вашему Преосвященству приставе Малой Кабарды положено иметь штатного переводчика» [УЦГА АС КБР. Ф. И-8. Оп. 1. Д. 35. Л. 2]. Здесь же отмечалось, что в большинстве случаев переводчики при приставах назначались из числа казаков [УЦГА АС КБР. Ф. И-8. Оп. 1. Д. 35. Л. 2]. В надписи на предписании начальника Малой Кабарды пристав Малой Кабарды Тургиев сообщал, что «переводчика при приставском моем управлении ныне не имеется совершенно ни их какого сословия, равно и прежде не имелось, а как в таковом указывает самая надобность…» [УЦГА АС КБР. Ф. И-8. Оп. 1. Д. 35. Л. 2 об.].
Кадровый состав малокабардинского приставства мог меняться в зависимости от необходимости. Решение принимало высшее военное начальство в регионе после определенных обсуждений. Например, в 1852–1853 гг. начальник Центра Кавказской линии вел переписку с приставом Малой Кабарды о назначении ему помощника [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 1287]. Назначение помощников приставов обсуждалось на уровне начальника Центра Кавказской линии на основании представления пристава. Как правило, на должности помощников приставов выдвигались офицеры российской армии, зарекомендовавшие себя на службе и имевшие опыт службы на Кавказе. Следует отметить, что просьбы от частных приставов о назначении им помощников в адрес начальника Центра Кавказской линии исходили часто. Например, в 1852 г. пристав балкарских и других горских народов в рапорте начальнику Центра Кавказской линии просил назначить ему двух помощников (от балкарского общества корнета М. Айдебулова и хуламского общества юнкера У. Шакманова) [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 1287. Л. 1–1 об.]. Основной мотив просьбы – скопление большого количество дел, в результате – замедление сроков их исполнения. Следует отметить, что начальник Центра Кавказской линии удовлетворил просьбу балкарского пристава [УЦГА АС КБР. Ф. И-22, оп. 1, д. 1287. Л. 2], причем в ответе не уточнялись никакие дополнительные условия их назначения помощниками (изменение штатной структуры пристава, оплата жалования работы помощников и источники финансового обеспечения их деятельности и т.п.). Примечательно, что в данном случае это были местные жители, представители своих обществ, состоявшие на российской военной службе и имевшие воинские звания и чины.
В середине 30-х гг. XIX в. частные приставы взаимодействовали с Центром Кавказской линии по вопросам розыска и возвращения к месту жительства невольников. Так, например, 19 марта 1836 г. пристав Малой Кабарды майор князь Бекович-Черкасский обратился к начальнику Центра Кавказской линии с просьбой о возращении невольника Карданова подвластного ему узденя Атажуко Абаева, который самовольно находился в Большой Кабарде в ауле князя Наурузова [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 16. Л. 2]. В качестве реакции на обращение начальник Центра Кавказской линии предписал Кабардинскому временному суду разыскать и возвратить невольника его владельцу [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 16. Л. 3]. Материалы дела показывают, что пристав Малой Кабарды и Кабардинский временный суд находились на одном уровне иерархии учреждений локального судебно-административного контроля, были наделены схожими полномочиями и выполняли аналогичные распоряжения надведомственного учреждения – управления Центра Кавказской линии. Отличия заключались лишь в территориальной подведомственности: к подведомственности Кабардинского временного суда относилось население Большой Кабарды; пристава Малой Кабарды, соответственно – население Малой Кабарды.
В 1851–1852 гг. начальник Центра Кавказской линии состоял в переписке с приставом Малой Кабарды сотником Тургиевым по вопросу о запрещении переселения холопа М-ва из аула князя Бековича-Черкасского [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 1139]. В деле содержится рапорт главного пристава чеченского народа майора Доможилова заведующему Левым флангом Кавказской линии [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 1139. Л. 1]. Командующий Левым флангом Кавказской линии решил вопросы с начальником Центра Кавказской линии посредством отношений, а основными исполнителями были подведомственные им приставы.
Кроме того, пристав сообщал начальнику Центра Кавказской линии о любых случаях природных катаклизмов, в особенности и тех, которые могли определенным образом повлиять на состояние и сбор урожая жителями подведомственной территории. Например, в 1855 г. пристав Малой Кабарды войсковой старшина Дыдымов рапортовал начальнику Центра Кавказской линии о нашествии саранчи на поля подведомственной ему территории и о гибели части урожая проса, мерах борьбы с саранчой (выжигание огнем), и о побочных эффектах (пострадавших хозяйствах от пожаров во время борьбы с ней) [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 1365. Т. 2. Л. 185].
Заключение
Таким образом, в период с 1830 по 1858 гг. на Кавказе существовала разветвленная система приставских управлений, подчиненных начальникам дистанций Кавказской линии. Эти учреждения функционировали на обширной территории, подведомственной начальникам Центра, Правого и Левого крыльев Кавказской линии. Их деятельность была направлена на управление коренным населением этой местности, включая абазин, карачаевцев, осетин, кабардинцев, балкарцев, чеченцев, ингушей и др. В этой системе приставство Малой Кабарды занимало важное место, а его пристав был наделен широким кругом полномочий. Их функционал включал содействие местным жителям в разрешении земельных споров, установление социального статуса населения, профилактику преступной деятельности и информирование начальства о финансовых поступлениях в общественную сумму и т.п. Пристав Малой Кабарды взаимодействовал как с вышестоящими (начальник Центра Кавказской линии), так и с другими должностными лицами и учреждениями (Кабардинский временный суд, начальник Сунженской линии и др.) для решения вопросов, выходящих за рамки его прямой административной подчиненности. Пристав отвечал за предотвращение вооруженных вторжений на подведомственную ему территорию (например, Шамиля), борьбу с преступностью (поимка абреков, беглых преступников), поддержание порядка и организацию охраны важных объектов (например, Военно-Грузинской дороги). Он участвовал в исполнении решений Кабардинского временного суда, взыскивал долги и штрафы, содействовал расследованию преступлений, допрашивал участников разбирательств и обеспечивал их доставку. А регулярно предоставлял рапорты начальнику Центра Кавказской линии о различных событиях, происшествиях, настроениях населения, природных катаклизмах и т.д. Деятельность пристава Малой Кабарды была строго регламентирована предписаниями вышестоящего начальства (Начальника Центра Кавказской линии). Работа приставского управления обеспечивалась аппаратом, включавшим помощников, письмоводителей и переводчиков. Пристав получал жалование за свою службу. В целом, пристав Малой Кабарды был важным звеном в системе управления регионом, сочетавшим в себе административные, полицейские и судебные функции.
Об авторах
Азамат Русланович Беппаев
Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: beppaev33@mail.ru
Список литературы
- Абазов А.Х. Народы Центрального Кавказа в судебной системе Российской империи в конце XVIII – начале ХХ в. – Нальчик: Общество с ограниченной ответ-ственностью «Печатный двор», 2016. – 264 с.
- Абазов А.Х. Делопроизводственная практика Кабардинского временного суда: документальное измерение региональной интеграции народов Центрального Кавка-за в 1822-1858 гг. // Новое прошлое. – 2023. – № 1. – С. 48-63.
- Абазов А.Х. Приставское управление балкарского народа в системе локального судебно-административного контроля на Центральном Кавказе в 1846-1858 годах // Научная мысль Кавказа. – 2023. – № 2(114). – С. 35-41.
- Абазов А.Х., Нахушева И.Р. Приставские управления на Северном Кавказе в последней трети XVIII – первой половине XIX века: эволюция деятельно-сти // Научный диалог. – 2020. – № 8. – С. 287-300.
- Административная интеграция народов Северо-Западного и Центрального Кавказа в состав Российской империи: Сборник документов и материалов. – 2-е переработанное и дополненное. – Нальчик: Кабардино-Балкарский научный центр, 2024. – 908 с.
- Адыги: Адыгейцы. Кабардинцы. Черкесы. Шапсуги. – Москва: "Наука", 2022. – 870 с.
- Алхасова Д.М. Судебные полномочия начальника Центра кавказской линии в 30-50-е гг. XIX вв. // Электронный журнал «Кавказология». – 2021. – № 4. – С. 33-47.
- Алхасова Д.М. Взаимодействие управления Центра Кавказской линии с региональными этноэлитами в 40-х годах XIX века // Научная мысль Кавказа. – 2022. – № 3 (111). – С. 67-73.
- Алхасова Д.М. Порядок деконструкции военно-административного учреждения на примере упразднения Центра Кавказской линии в 1857 году // Научная мысль Кавказа. – 2023. – № 2(114). – С. 42-47.
- Алхасова Д.М. Управление Центра Кавказской линии в администра-тивной системе и политической практике Российской империи в 30–50-е гг. XIX в.: Дис. канд. ист. н-к/ Нальчик, 2024. – 224 с.
- Беппаев А.Р. Становление основ и методов управления народным ка-питалом на Центральном Кавказе в конце 1840-х годов (на примере малокабардинской об-щественной суммы) // Электронный журнал «Кавказология». – 2025. – № 1. – С. 15-26. – doi: 10.31143/2542-212X-2025-1-15-26.
- Века совместной истории: народы Кабардино-Балкарии в российском цивилизационном процессе (1557–1917 гг.). – Нальчик: Институт гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского Научного центра Российской академии наук, 2017. – 544 с.
- Казаков А.В. Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и офицеры (середина XVI – начало ХХ вв.): биографический справочник. – Нальчик Эльфа 2006. – 394 с.
- Калмыков Ж.А. Интеграция Кабарды и Балкарии в общероссийскую систему управления (вторая половина XVIII – начало XX века). – Нальчик: Республикан-ский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г., 2007. – 232 с.
- Кушхабиев А.В., Журтова А.А., Алхасова Д.М. Проблемы политико-правовой интеграции Северного Кавказа в состав России в отражении делопроизводственной документации (по материалам опубликованных источников) // Элек-тронный журнал «Кавказология». – 2024. – № 3. – С. 228-255.
- Марзей И.Р. Система приставских управлений на Северном Кавказе в 1769–1864 гг.: Дисс. канд. ист. н-к. – Нальчик, 2021. – 193 с.
- Нахушева И.Р. Приставское управление в Кабарде в 1769-1858 гг.: динамика, полномочия, персоналии // Электронный журнал «Кавказология». – 2020. – № 3. – С. 60-78.
- Управление Центрального государственного архива Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики.
Дополнительные файлы