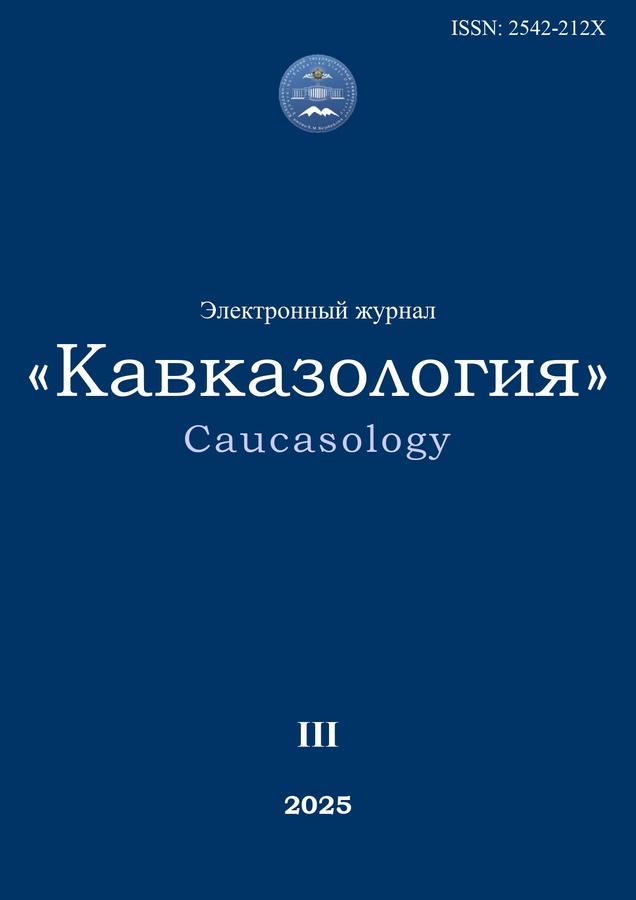К проблеме институционального оформления кавказоведения в императорской России
- Авторы: Колосовская T.А.1
-
Учреждения:
- Северо-Кавказский федеральный университет
- Выпуск: № 2 (2022)
- Страницы: 55-68
- Раздел: Средневековая и новая история
- Статья получена: 13.05.2025
- Статья опубликована: 15.12.2022
- URL: https://bakhtiniada.ru/2542-212X/article/view/291541
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2022-2-55-68
- EDN: https://elibrary.ru/CINGXA
- ID: 291541
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассматривается история функционирования научных учреждений, созданных во второй половине XIX в. на Кавказе с целью его изучения. Особое внимание уделяется малоисследованному в историографии вопросу о роли военного ведомства в конструировании институционального пространства кавказоведения. Обращается внимание на участие военных в работе Кавказского отдела Императорского Русского Географического общества (ИРГО), а также на основные направления и результаты деятельности Военно-исторического отдела при штабе Кавказского военного округа. Опираясь на работы дореволюционных авторов, а также документы Российского государственного военно-исторического архива, делается вывод о том, что военная администрация Кавказа принимала активное участие в организации научного изучения региона. Представители местного штаба занимали лидирующие позиции в Кавказском отделе ИРГО. Отдельные военные стали деятельными участниками географического, этнографического и лингвистического изучения Кавказа, в их числе И.И. Ходзько, И.И. Стебницкий, П.К. Услар, А.В. Комаров. Созданный при штабе Кавказского военного округа Военно-исторический отдел приобрел статус важного научно-просветительного центра кавказской окраины империи. Его исследовательские практики формировали эмпирическую базу для дальнейшего научного изучения военного прошлого Кавказа.
Полный текст
Введение
История изучения Кавказа неразрывно связана с развитием российской ориенталистики. Располагаясь не к востоку, а к югу по отношению к политическому центру Российской империи, этот регион в массовом сознании современников устойчиво ассоциировался с «Востоком». Не случайно, решая судьбу молодого выпускника восточного факультета Санкт-Петербургского университета Николай I рекомендовал отправиться ему не в Египет, о котором тот мечтал, а на Кавказ: «Берже не для чего ехать за границу, на восток, так как Россия имеет свой восток, это – Кавказ, – заявил император, – пусть он туда и отправляется на службу» [Семевский 1886: 729]. Так, в 1851 г. регион обрел одного из самых талантливых и преданных своих исследователей.
Начало изучения Кавказа приходится на петровское время. В течение XVIII – первой половины XIX в. сведения о регионе постепенно расширялись. В изучение Кавказа и его населения включались ученые, специализирующиеся по зарубежному Ближнему Востоку. Одновременно практическое кавказоведение оказалось неразрывно связанным с военным ведомством. При этом, несмотря на значительные успехи в этой области знаний, кавказоведческие работы во многом были случайны и носили фрагментарный характер. Переломным этапом в истории изучения Кавказа стало появление в середине – второй половине XIX в. научных учреждений, специализирующихся исключительно на кавказской тематике.
Проблема институционального оформления отечественного кавказоведения относится к числу интенсивно разрабатываемых в современной исторической науке. Большое внимание деятельности столичных и провинциальных научных учреждений на поприще изучения региона уделяет М.Е. Колесникова. В фокусе ее рассмотрения оказывается роль в развитии отечественного кавказоведения таких организаций как Императорское Русское Географическое общество, Императорское Русское Археологическое общество, Императорская Археологическая комиссия, Общество любителей естествознания, Императорское Московское археологическое общество, Русское историческое общество, губернские статистические комитеты и архивные комиссии [Колесникова 2011: 229–379].
Особенно активно современными исследователями освещается история создания Кавказского отдела Императорского Русского Географического общества (ИРГО) [Кожоков и др. 2017], просветительская работа его членов [Бекоева 2015], практики по собиранию устных источников [Мудрова 2014] и издательская деятельность [Базылева 2015]. Не менее энергично в настоящее время разрабатываются вопросы, связанные с функционированием Кавказской археографической комиссии. В фокусе изучения оказывается история ее деятельности, в первую очередь, в контексте развития архивного дела на Кавказе [Максимчик, Манышев 2020].
Менее изученным сюжетом в историографии до сих пор остается функционирование учреждений по изучению Кавказа, подведомственных Военному министерству. Примером тому является Военно-исторический отдел при штабе Кавказского военного округа. Истории его создания и отдельным направлениям деятельности посвящены публикации Л.М. Паровой [Парова 1988]. Попытку освятить функционирование отдела сквозь призму судеб его руководителей и сотрудников предпринимала и автор настоящих строк [Колосовская 2020].
В рамках настоящей статьи акцентируем внимание на роли военного ведомства в институциональном оформлении российского кавказоведения. При этом особое внимание уделим тому месту, которое в кругу научных учреждений региона занимал Военно-исторический отдел при штабе Кавказского военного округа. Такой ракурс рассмотрения проблемы представляется особенно интересным, поскольку это учреждение оказалось уникальным, не имеющем аналогов в других регионах империи.
Историографическую базу настоящего исследования образовали труды дореволюционных авторов. Многие из них сами являлись членами учреждений, историю создания и функционирования которых описывали. Источниками послужили делопроизводственные документы Российского государственного военно-исторического архива, данные периодической печати, а также опубликованные материалы программного и отчетного характера.
Кавказский отдел ИРГО
В середине XIX в. ведущим центром научного изучения региона стал Кавказский отдел ИРГО, торжественное открытие которого состоялось 10 марта 1851 г. в доме Кавказского наместника М.С. Воронцова в г. Тифлисе. Деятельность отдела была направлена на изучение географии, этнографии и статистики Кавказа, а также граничащих с ним регионов. Первым председательствующим отдела стал обер-квартирмейстер штаба Отдельного Кавказского корпуса генерал-майор Н.И. Вольф, а в 1852 г. его заменил генерал-лейтенант князь В.О. Бебутов, известный своей победой над отрядом Шамиля под Кутишами в 1848 г. [Семенов 1896: 64]
Традиция занимать пост председательствующего Кавказского отдела ИРГО представителями высшей военной администрации края сохранялась и в дальнейшем. Среди таковых в течение второй половины XIX в. мы видим таких известных военных деятелей Российской империи как Д.А. Милютин, А.П. Карцов, Д.И. Святополк-Мирский, Л.И. Меликов [Пагирев 1901: 150].
Кавказский отдел изначально задумывался в качестве многопрофильного научного учреждения. В программу его работы входили: разбор местных архивов и выявление рукописей для публикации; проверка топонимов 10-верстной карты Кавказа и составление географического словаря; начало исчисления поверхности края и исследование его гидрографии; составление описания отдельных городов, уездов и губерний Кавказа. Для выполнения столь обширной программы в качестве действительных членов к работе в отделе были привлечены все проживавшие тогда на Кавказе лица, известные своими трудами по кавказоведению. Для обнародования результатов научной деятельности отдела с 1852 г. приступили к изданию «Записок» [Пагирев 1901: 145].
Интересно отметить, что с первых дней функционирования Кавказского отдела заметную роль в его деятельности играли военные. В течение почти 23 лет бессменным помощником председательствующего отдела был военный геодезист и топограф И.И. Ходзько, имя которого оказалось неразрывно связано с началом планомерного научного изучения географии Кавказа. Как подчеркивали современники, по части математической географии и картографии лучшие работы на Кавказе в рамках деятельности отдела принадлежали И.И. Ходзько и его ученику И.И. Стебницкому [Семенов 1896: 373]. В знак признания этих заслуг Кавказский отдел назначил премию имени И.И. Ходзько за лучшее географическое описание Кавказа.
При поддержке отдела генерал-майор К.Ф. Услар приступил к изучению кавказских наречий. Благодаря его трудам было составлено грамматическое описание абхазского, чеченского и ряда языков народов Дагестана. Наряду с лингвистическими исследованиями К.Ф. Услар занимался изучением истории и культуры горских народов, принимал активное участие в распространении грамотности среди местного населения. Он составил план подготовки книг для первоначального чтения и сам принимал живое участие в их издании. Воображение горцев сильно поражал генерал, пишущий для них буквари, как предвестник новой и мирной жизни [Загурский 1875: 49].
В 1873 г. на страницах «Записок» была опубликована статья генерал-майора А.В. Комарова «Народонаселение Дагестанской области» с приложением этнографической карты и таблицы распределения населения области по округам. При составлении карты Комаров опирался на новейшие сведения о населении области, в том числе использовал грамматики аварского, лакского и хюркилинского языков, разработанные П.К. Усларом, а также сведения, собранные в 1860-х гг. в ходе подробных рекогносцировок округов и их камеральные описания [Комаров 1873: 2]. Эта работа свидетельствовала об участии военных в развитии этнической картографии Кавказа, а ее автор в дальнейшем был избран действительным членом отдела.
Кавказский отдел ИРГО охотно сотрудничал с местными военными учреждениями. Офицеры Генерального штаба, служившие при штабе Кавказского военного округа, часто публиковали на страницах периодических изданий отдела итоги своего изучения приграничных областей Персии и Турции. Военно-топографический отдел оказывал содействие Кавказскому отделу ИРГО в издании карт и делился наработками своих топографов. Пожалуй, самым ярким тому примером служит проект создания рельефной карты Кавказа, выполненный под руководством начальника Военно-топографического отдела и одновременно действительного члена Кавказского отдела ИРГО полковника И.И. Стебницкого.
Для ее разработки были использованы 2737 пунктов, высоты которых установили в ходе кавказской триангуляции И.И. Ходзько. Создание такой карты являлось занятием весьма трудоемким. Сначала на гладкие деревянные доски переносились с десятиверстной карты хребты гор, их вершины, важнейшие реки и населенные места. Затем на доски набивались проволоки вышиной равной высоте пунктов, по принятому масштабу. Далее по этой сетке, основываясь на картах и оригинальных съемках, из воска вылепливалась местность.
На основании такой модели, на Тифлисской гранильной фабрике была отлита гипсовая форма, с помощью которой изготовили листы рельефной карты из картонной массы (папье-маше). Эти листы набили на две сухие доски, затем покрыли грунтовкой зеленого цвета, нанесли карандашом течение рек, озера, дороги, населенные места и прочие объекты и раскрасили красками разных цветов для придания наглядности и выражения свойств изображаемых предметов. Руководствовались при этом картами, оригинальными съемками, а также консультировались с известным геологом Г.В. Абихом, который по словам И.И. Стебницкого «подавал нам советы, относительно топографического распространения исследованных им ледников и горных пород, обнажающихся поверх наружной почвы» [Стебницкий 1868: 313]. Затем на карту наклеили необходимые надписи и несколько раз покрыли прозрачным лаком.
Рельефная карта давала полное наглядное представление о специфике кавказской местности. В пояснение к ней И.И. Стебницким был составлен общий географический очерк Кавказского края. Первоначально было изготовлено три экземпляра карты: один находился в ИРГО в Петербурге, другой в Тифлисском дворце Кавказского наместника великого князя Михаила Николаевича и третий в Военно-Топографическом отделе Кавказского военного округа.
Реализовать в полном объеме первоначальную программу деятельности Кавказскому отделу так и не удалось. Одной из причин тому стали материальные трудности. Основными источниками финансирования отдела были ежегодная правительственная субсидия в 2 тыс. руб. и членские взносы [Пагирев 1901: 146]. Эти немногочисленные деньги уходили на наем помещений для канцелярии, библиотеки и музея, на вознаграждение служащих, а также издание «Записок». Средств на организацию научных экспедиций по изучению Кавказа катастрофически не хватало. В 1864 г. из-за финансовых трудностей отдел отказался от собственного помещения, библиотеку сдал в штаб Кавказской армии и передал в другие руки свой музей [Пагирев 1901: 146].
Главные усилия отдела сосредоточились на публикации статей по различным отраслям кавказоведения. Помимо «Записок», с 1872 г. отдел приступил к выпуску еще одного периодического издания – «Известий», которые выходили отдельными выпусками по несколько раз в год и сообщали текущие новости по географии, этнографии и статистике края. В 1869 г. под редакцией Н.И. Воронова, избранного впоследствии правителем дел отдела, был издан «Сборник статистических сведений о Кавказе».
Другой причиной отказа от широкой первоначальной программы стало постепенное усложнение институционального пространства кавказоведения. Когда отдел возникал, то каких-либо серьезных конкурентов на Кавказе у него не было. С течением времени стали появляться новые учреждения, специализировавшиеся на изучении региона. Среди них можно назвать Тифлисскую физическую обсерваторию, занимающуюся изучением климата Кавказа, Закавказский статистический комитет и губернские и областные статистические комитеты, местные медицинские и сельскохозяйственные общества.
Кавказская археографическая комиссия
В условиях специализации научного знания Кавказский отдел ИРГО сосредоточился на изучении Кавказа преимущественно в географическом отношении: исследовании гор, ледников, озер, рек и отдельных местностей, пока еще мало описанных [Пагирев 1901: 151]. При этом историческое направление кавказоведения, теснейшим образом связанное с разбором и упорядочением местных архивов, вошло в сферу деятельности созданной в 1864 г. Кавказской археографической комиссии.
Штатный состав нового учреждения был не велик: председатель и один постоянный сотрудник (без определенного содержания). Комиссия должна была производить тщательный разбор архивных материалов, любопытных в каком-либо отношении, на русском, грузинском, армянском и других восточных языках и публиковать их отдельными выпусками по мере извлечения из архивных дел [АКАК 1866: IV]. Обе задачи – выявление архивных документов и их обнародование – рассматривались как взаимосвязанные. Кроме этого, в обязанности комиссии входило составление подробного исследования о поступательном развитии на Кавказе российского гражданского управления [АКАК 1866: IV].
Первым председателем комиссии стал А.П. Берже, энтузиаст своего дела, страстный исследователь истории и этнографии Кавказа. Среди последующих председателей следует назвать Д. А. Кобякова, Е.Д. Фелицына, Е.Г. Вейденбаума, Д.Н. Михайлова и Г.Н. Прозрителева, которые наряду с продолжением издательской деятельности, предпринимали попытки организации архивного дела в регионе.
Комиссия начала работу с разбора и опубликования дел архива Главного управления Кавказского наместника, «как учреждения старейшего за Кавказом и центрального по важности и обилию хранящихся в нем актов» [АКАК 1866: IV]. В 1866 г. вышел в свет первый том «Актов, собранных Кавказской археографической комиссией» (АКАК). Следующие тома выходили в хронологическом порядке и охватывали материал за время управления краем того или иного главнокомандующего или наместника. Публикаторская работа велась достаточно активно и на начало ХХ в. было опубликовано 12 томов, которые включали материалы по истории присоединения Кавказа к Российской империи с конца XVIII в. и до 1862 г.
Издание АКАК было направлено на решение актуальных идеологических и практических задач, стоящих перед кавказской администрацией: идеологическое обоснование присоединения Кавказа к России, необходимость изучения политической, экономической и социальной истории края для лучшего управления им. По этому поводу А.П. Берже писал: «С окончанием Кавказской войны и умиротворением здешнего обширного и разноплеменного края, наступила пора свести счеты слишком полувековой, обильной событиями деятельности русского правительства на Кавказе, дабы достойно открыть новую эпоху жизни этого края, мирную эпоху внутреннего развития. С этой целью Правительству естественно было оглянуться на свое прошлое, измерить путь им пройденный со дня водворения здесь русского владычества, взвесить и оценить надлежащим образом те громадные препоны, которые ему предстояли, и те способы, коими последние были преодолены – и все это осветить фактами, неподлежащими сомнению, имеющими историческую достоверность» [АКАК 1866: VI]. Подобные факты можно было почерпнуть только из прямых, еще никем не опубликованных источников, сосредоточенных в местных архивах.
Военно-исторический отдел при штабе Кавказского военного округа
Разбор архивов и введение в научный оборот источников по истории присоединения Кавказа к России неизбежно поднимал вопрос о необходимости реконструкции военной истории региона. Главным конкурентом Кавказской археографической комиссии на этом поприще стал Военно-исторический отдел при штабе Кавказского военного округа. История его формирования неразрывно связана с идеей сохранения исторической памяти о Кавказской войне XIX в., занимавшей умы военной администрации сразу же после ее завершения. Уже в 1865 г. главнокомандующий Кавказской армией и наместник на Кавказе великий князь Михаил Николаевич предложил всем ветеранам минувшей войны отправлять в Главный штаб свои записки и воспоминания.
В 10-ти летнюю годовщину окончания войны Михаил Николаевич выступил с инициативой немедленно приступить к разработке ее истории, о чем написал в рескрипте на имя военного министра Д.А. Милютина от 4 мая 1874 г. «Наша военная литература хотя и представляет сочинения, касающиеся Кавказской войны, но они не исчерпывают вполне даже тех предметов, до которых ближайшим образом относятся… – подчеркивалось в документе, – …систематическая разработка богатого военно-исторического материала, представляемого делом водворения русского владычества на Кавказе, можно сказать еще не начата» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 392. Л. 1 об.–2 об.]. Медлить, по мнению наместника, было нельзя. С одной стороны, постепенно уходили из жизни непосредственные участники событий, с другой стороны, «громадный военно-исторический материал, находящийся в бесчисленных архивах Кавказского края, лежит почти не тронутым, а время и случайные обстоятельства приводят к его все к большему и большему обеднению» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 392. Л. 3].
Михаил Николаевич считал необходимым: 1) организовать сбор источников личного происхождения участников и очевидцев событий, 2) осуществить разбор военных архивов Кавказа, и 3) полученные таким образом источники публиковать при штабе Кавказского военного округа «отдельными книжками в неопределенные сроки, по мере накопления материалов и расходы по изданию оного отнести на средства, состоящие в моем [Михаила Николаевича, – Т.К.] распоряжении» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 392. Л. 5 об.].
9 июня 1874 г. Д.А. Милютин сообщил великому князю, что высочайшее разрешение на издание «Сборника материалов для истории Кавказской войны», на предложенных им основаниях получено [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 392. Л. 8]. В одном из сентябрьских номеров газеты «Кавказ» было опубликовано воззвание к участникам Кавказской войны о доставлении в окружной штаб, на имя Михаила Николаевича записок, воспоминаний и других документов [Кавказ, 1874. № 105. 8 сент.: 1].
Разработка исторических материалов и их публикация были поручены состоящему при главнокомандующем Кавказской армии для особых поручений генералу И.С. Чернявскому. Под его руководством налаживается работа по подготовке «Кавказских сборников».
После завершения русско-турецкой войны работы у И.С. Чернявского прибавилось. Во всех военных округах должны были составляться описания боевой жизни их частей в недавних событиях. 20 февраля 1879 г. приказ о подготовке таких описаний был издан в Кавказском военном округе. Готовые работы следовало представить главнокомандующему великому князю Михаилу Николаевичу через окружной штаб.
Редактирование и издание таких описаний оказалось непосильным для редакции «Кавказского сборника» и в 1880 г. приказом по штабу Кавказского военного округа было создано временное Военно-историческое отделение [РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 8967 п/сп. 277-854 (1901 г.). Л. 16]. Постепенно круг выполняемых им работ расширялся. В 1886 г. на отделение была возложена подготовка описания Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на азиатском театре военных действий. Так, постепенно, вместе с увеличением объема работ, выполняемых отделением, обозначилась потребность расширения его полномочий «в смысле сношений с войсками и учреждениями по собиранию исторических материалов» [Томкеев 1912: 1].
В связи с этим в 1888 г. Военно-историческое отделение было преобразовано в Военно-исторический отдел, с утвержденным штатом сотрудников: начальник, его помощник и два редактора [Парова 1988: 88]. Кроме того, к работе отдела можно было привлекать временных сотрудников. 13 июня 1888 г. начальником отдела был назначен генерал-лейтенант И.С. Чернявский [РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 8967 п/сп. 277-854 (1901 г.). Л. 16 об.]. Его помощником стал статский советник Н.А. Волконский, а редактором отдела - состоящий по полевой пешей артиллерии капитан Ф.Л. фон Климан [Кавказский календарь на 1889 г.: 200]. В 1890-е гг. состав отдела не претерпевал каких-либо существенных изменений: с 1891 г. на должность второго редактора был утвержден капитан В.И. Томкеев, с 1892 г. должность помощника начальника отдела занял Ф.Л. фон Климан, а с 1893 г. еще одним редактором стал штабс-капитан М.А. Рукевич [Кавказский календарь на 1894 г.: 326].
В 1899 г. И.С. Чернявский был прикомандирован к Главному штабу в Петербурге для продолжения исторических работ по описанию Кавказских войн и войны в Азиатской Турции, а новым начальником отдела назначили В.А. Потто, к тому времени уже зарекомендовавшего себя в качестве продуктивного военного историка Кавказа. Во время его управления отделом должность помощника не предусматривалась. Первым редактором являлся В.И. Томкеев, вторым - М.А. Рукевич. В 1901 г. Рукевич покинул отдел, а с 1904 г. должность второго редактора стал занимать С.С. Эсадзе [Кавказский календарь на 1905 г.: 434].
В.А. Потто изменил программу издания «Кавказских сборников». В своих докладных записках на имя начальника штаба Кавказского военного округа он настойчиво проводил мысль о необходимости публикации на страницах сборника преимущественно документального материала по истории присоединения Кавказа к Российской империи, отложившегося в местных архивах. «Если история возникновения и распространения русской власти на Кавказе представляет до сих пор много пробелов и спорных вопросов, – отмечал он, – то причина тому кроется именно в том, что огромный военно-исторический материал остается до сих пор под спудом» [РГВИА. Ф. 401. Оп. 5. 1898. Д. 147. Л. 2 об.].
Такая инициатива была поддержана и уже 21-й том «Кавказского сборника», вышедший в свет под его редакцией, включал документы архива штаба КВО по истории русско-персидской войны 1826–1828 гг. В последующих томах эта тематическая публикация источников была продолжена, а 30-й и 31-й тома содержали документы русско-турецкой войны.
Вместе с публикацией исторических источников продолжилась работа отдела по изданию полковых историй отдельных кавказских частей, а также военно-исторических сочинений, подготовленных на основе местных военных архивов. Вершиной нарративных практик отдела стало участие в подготовке обобщающего исторического сочинения по истории присоединения Кавказа к России. В 1899 г. В.А. Потто разработал его программу, которая предусматривала подготовку 15 томов, освещающих историю военных действий с горцами, Персией и Турцией в течение XIX в., а также раскрывающих установление системы российского управления кавказской окраины [Утверждение… 1901]. Программа была утверждена военным министром генерал-адъютантом А.Н. Куропаткиным и с его согласия Военный совет выделил необходимые средства на ее реализацию. Общее руководство работой было возложено на начальника Военно-исторического отдела. К началу Первой мировой войны удалось подготовить и издать 5 томов в 7 книгах, хронологически охватывающих период с 1801 г. (присоединения Восточной Грузии к России) до времен управления А.П. Ермолова на Кавказе.
Параллельно с издательской деятельностью продолжалась работа отдела по разбору военных архивов Кавказа. В 1880-х гг. на места направлялись офицеры для извлечения дел военно-исторического характера с древнейших времен до 1864 г. Усилиями этих «архивных изыскателей» были рассмотрены десятки тысяч дел, с указанием на те из них, которые заключают в себе исторический материал [Собриевский 1911: 9]. При этом следует отметить, что не все офицеры обладали историческими познаниями, достаточным опытом и подготовкой к работе с архивами, а значит не всегда могли понять смысл исторического документа. В итоге добиться полного упорядочения архивного дела и прекращения хаотичного уничтожения архивов тогда так и не удалось.
В таких условиях «архивного нестроения» В.А. Потто выступил с инициативой централизации архивов Кавказского военного округа и создания в Тифлисе общего военно-исторического архива. Для приведения в порядок и сохранения архивов от пожаров, тления и расхищения В.А. Потто планировал выявить все архивы в пределах Кавказа и составить в каждом из них подробные описи имевшихся в наличии дел. Затем все дела военно-исторического характера, представляющие научный интерес для изучения различных сторон кавказской жизни, перевезти в Тифлис, где образовать центральный архив Кавказского края [Колосовская 2016: 61].
Провести централизацию архивного дела на Кавказе под руководством Военно-исторического отдела тогда так и не удалось. Выделенное под архив помещение потребовало ремонта и как следствие значительных материальных вложений, поэтому открытие центрального исторического архива в г. Тифлисе откладывалось.
В начале ХХ в. в сферу деятельности отдела вошли вопросы, связанные с выявлением, охраной и созданием новых военных памятников на Кавказе. Согласно. инструкции начальник был «обязан иметь точные сведения и подробное описание всех братских могил, памятников, воздвигнутых в честь событий и отдельных лиц, и других предметов, имеющих военно-историческую важность. На его же обязанности лежит как наблюдение за содержанием их в исправности, так и предохранение их от порчи и уничтожения» [РГВИА. Ф. 401. Оп. 5. 1898. Д. 147. Л. 8.]. Работа В.А. Потто в этом направлении привела к появлению фундаментального труда, отражающего вопрос военного памятникостроительства на Кавказе [Потто 1906, 1909].
Тогда же в ведение отдела был передан Военно-исторический музей Кавказского военного округа. Известный под названием «Храм Славы», этот музей был открыт по инициативе военной администрации еще в 1888 г. и располагался в г. Тифлисе. Экспонаты музея, отражали историю присоединения Кавказа к России и увековечивали память о подвигах солдат и офицеров, проявленных на полях сражений в ходе русско-турецких и русско-иранских войн XVIII – ХIX вв. Особая роль отводилась музею в деле сохранения исторической памяти об участии российской армии в военных событиях на Северном Кавказе.
Под эгидой Военно-исторического отдела «Храм Славы» превратился в действенное средство популяризации знаний о военной истории в контексте имперской концепции присоединения Кавказа к России. Экспонаты музея иллюстрировали итоги исторических изысканий ВИО, создавали позитивный образ деятельности России в регионе и воздействуя на умы, формировали идеологическую основу для сохранения российско-кавказского государственного единства.
С уходом из жизни в ноябре 1911 г. В.А. Потто, начальником отдела был назначен полковник В.И. Томкеев, а после его смерти в 1913 г. – полковник С.С. Эсадзе. Круг задач, выполняемых отделом, остался прежним. В годы Первой мировой войны отдел занимался также сбором документальных свидетельств о событиях на Кавказском театре военных действий. В это же время из Тифлиса на Северный Кавказ были эвакуированы фонды Кавказского военно-исторического музея и военного архива. Значительная часть этих материалов была утрачена в период революций и Гражданской войны.
Заключение
В целом, создание Военно-исторического отдела на Кавказе стало проявлением общей тенденции институционализации военно-исторической науки в Российской империи во второй половине XIX – начале ХХ в. Создание специальных комиссий для собирания источниковых материалов и на их основе изучения опыта предыдущих военных кампаний стало заметным явлением того времени. Так, были созданы комиссии по описанию русско-турецкой войны 1877–1878 гг., русско-японской войны 1904–1905 гг. Свое учреждение по изучению истории военных действий, которые вела Россия на Кавказе, было создано и при штабе Кавказского военного округа. При этом основным его предназначением стало накопление эмпирических данных по военной истории Кавказа, в сочетании с их предварительным анализом и попытками обобщения. Этим объясняется то, что главными направлениями работы отдела стали издательская деятельность, разбор материалов местных военных архивов, устройство музеев и охрана памятников военного прошлого Кавказа.
Таким образом, функционирование Кавказского отдела ИРГО, Кавказской археографической комиссии и Военно-исторического отдела, несмотря на присущую им специализацию, имело много общего. Их деятельность поддерживалась военной администрацией Кавказа и была направлена на интеллектуальное освоение империей свой новой окраины. Не случайно, что многие ученые-кавказоведы связали свой творческий путь с сотрудничеством сразу с несколькими учреждениями. Так, А.П. Берже охотно публиковал свои труды на страницах периодических изданий Кавказского отдела ИРГО. Другой председатель Кавказской археографической комиссии Е.Г. Вейденбаум принимал участие в проекте Военно-исторического отдела по подготовке многотомной истории «Утверждения русского владычества на Кавказе». При этом Кавказский отдел ИРГО специализировался на сборе этнографического и географического материала о регионе. Комиссия и отдел сосредоточились на выявлении архивных документов, их публикации и тем самым формировали источниковую базу для развития исторического направления отечественного кавказоведения.
Об авторах
T. А. Колосовская
Северо-Кавказский федеральный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: tkolosovskaia@ncfu.ru
ORCID iD: 0000-0001-6770-7711
Список литературы
- АКАК 1866 – Акты, собранные Кавказской археографической комиссией / Под ред. А.П. Берже. – Тифлис, 1866. – Т. 1. – 816 с.
- Базылева 2015 – Базылева Е.А. Кавказский отдел Императорского Русского Географического общества и его библиотека // Омский научный вестник. – 2015. – № 5 (142). – С. 12-15.
- Бекоева 2015 – Бекоева Т.А., Бекоева Е.Д. Деятельность российских ученых, членов Кавказского отдела Императорского Русского Географического общества по просвещению горцев // Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 2015. – № 3. – С. 15-22.
- Загурский 1875 – Загурский Л.П. Некролог П.К. Услара // Известия Кавказского отдела ИРГО. – Тифлис, 1875. – Т. IV. – С. 38–49.
- Кавказ – Кавказ: газета политическая и литературная. – Тифлис, 1846. – 1917 гг.
- Кавказский календарь – Кавказский календарь. – Тифлис: Канцелярия Кавказского наместника, 1845–1916 гг.
- Кожоков и др. 2017 – Кожоков М.К., Абазов А.Х., Кожоков А.М. Кавказский отдел Императорского Русского Географического общества: из истории развития академической науки на Кавказе в дореволюционный период // Устойчивое развитие: проблемы, концепции, модели. Материалы Всероссийской конференции с международным участием, Нальчик, 16–19 мая 2017. – Нальчик: Издательство: КБНЦ РАН, 2017. – С. 159-162.
- Колесникова 2011 – Колесникова М.Е. Северокавказская историографическая традиция: вторая половина XVIII – начало XX века. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2011. – 496 с.
- Колосовская 2016 – Колосовская Т.А. «Забывая прошлое, нельзя ничему научиться и в будущем». Доклад генерал-майора В.А. Потто о централизации архивов на Кавказе и устройстве Кавказского военно-исторического музея в 1900 г. // Военно-исторический журнал. – 2016. – № 7. – С. 58-63.
- Колосовская 2020 – Колосовская Т.А. История Кавказского военно-исторического отдела в лицах. – Ставрополь: Изд-во «Печатный Двор», 2020. – 208 с.
- Комаров 1873 – Комаров А.В. Народонаселение Дагестанской области (с этнографической картой) // Записки Кавказского отдела ИРГО. – Тифлис, 1873. – Т. VIII. – С. 1-49.
- Максимчик, Манышев 2020 – Максимчик А.Н., Манышев С.Б. «…Собрать из архивов главнейшие акты и сведения…» (Кавказская археографическая комиссия и архивное дело на Кавказе во второй половине XIX в.) // Новое прошлое. – 2020. – № 2. – С. 44-61.
- Мудрова 2014 – Мудрова Н.П. О методике сбора устных (фольклорных) источников Кавказским отделом Русского географического общества // Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2014. – № 2. – С. 11-15.
- Пагирев 1901 – Пагирев Д. Д. Очерк деятельности Кавказского отдела ИРГО // Известия Кавказского отдела ИРГО. – Тифлис, 1901. – Т. XIV. – С. 144-151.
- Парова 1988 – Парова Л.М. Создание и деятельность Военно-исторического отдела штаба Кавказского военного округа // Военно-исторический журнал. – 1988. – № 5. – С. 87-91.
- Потто 1906, 1909 – Потто В.А. Памятники времен утверждения русского владычества на Кавказе. – Тифлис, 1906. – Вып. I. – 160 с.; 1909. – Вып. II. – 248 с.
- РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив
- Семевский 1886 – Семевский М. Адольф Петрович Берже // Русская старина. – 1886. – Т. 3. – С. 727–729.
- Семенов 1896 – Семенов П.П. История полувековой деятельности Императорского русского географического общества. 1845–1895. – Санкт-Петербург, 1896. – Ч. 1. – 514 с.
- Собриевский 1911 – Собриевский А.С. Князь Воронцов и наши архивы // Труды Ставропольской ученой архивной комиссии. – Ставрополь, 1911. – Вып. 1. – С. 1-14.
- Стебницкий 1868 – Стебницкий И.И. Несколько слов по поводу рельефной карты Кавказского края // Известия ИРГО. – Санкт-Петербург, 1868. – T. IV. – С. 309-316.
- Томкеев 1912 – Томкеев В.И. Программа Кавказского сборника // Кавказский сборник. – Тифлис, 1912. – Т. 32. – Ч. 1. – С. 1-2.
- Утверждение… 1901 – Утверждение русского владычества на Кавказе. Программа. – Тифлис, 1901. – 22 с.
Дополнительные файлы