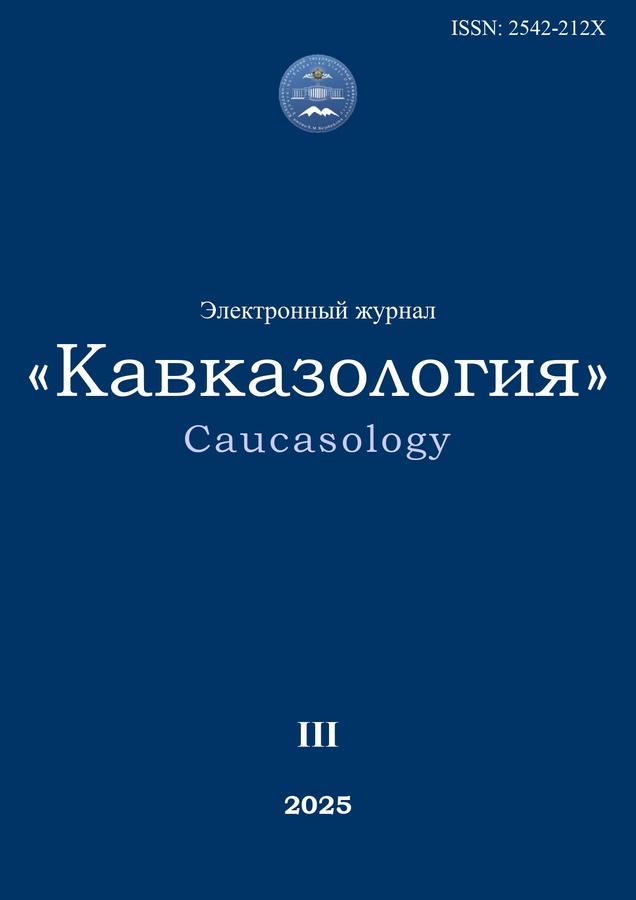Связь регионов, этносов и конфессий: служилые челябинские тюрки-нагайбаки (дискуссии продолжаются). Рецензия на монографию: «Белоруссова С.Ю. Нагайбаки: динамика этничности. – Санкт-Петербург: Изд-во МАЭ РАН, 2019. – 424 с.» и другие публикации автора
- Авторы: Викторин В.М.1
-
Учреждения:
- Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
- Выпуск: № 4 (2022)
- Страницы: 461-471
- Раздел: Очерки, заметки, рецензии
- Статья получена: 11.05.2025
- Статья опубликована: 15.12.2022
- URL: https://bakhtiniada.ru/2542-212X/article/view/291407
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2022-4-461-471
- EDN: https://elibrary.ru/UMIQJX
- ID: 291407
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рецензия на книгу С.Ю. Белоруссовой «Нагайбаки: динамика этничности» (СПб, 2019) и на другие публикации автора и её научного руководителя целесообразна для широких обсуждений далее, т.к. рассматривает добротный и оригинальный труд молодой исследовательницы, лишь с некоторыми (хотя и существенными) замечаниями. Общим нашим объектом стала необычная тюркская, служилая этногруппа, связующая проблематикой эпохи, научные усилия, этносы, религии и ещё (на что редко обращают внимание) регионы РФ и СНГ, Балтии. Автор, по-своему структурировав изложение, сумел дать полный обзор традиционной культуры нагайбаков. Выгодный момент у неё – связь типичного этнического материала с биографическими данными и с новой, компьютерной (вплоть до «виртуальной») информацией. Весьма продуктивной стала и «проектная» методика авторской аналитики.Недостатками надо посчитать приверженность автора заданной сразу небесспорной схеме, неисчерпаемость прежде представленной литературы, некоторые поспешные суждения. Так, версия рецензента о ногайцах оказалась досадно искажена.Но ошибочно приписывемый рецензенту тезис об этногенетическом единстве ногайцев и нагайбаков всё же даёт повод подробнее рассмотреть связи регионов Юга России (Северный Кавказ, Нижнее Поволжье и Южный Урал), как и аналогии во внутренней структуре здешних этноконфессиональных групп: нагайбаков и моздокских кабардинцев, осетин и татов разных вероисповеданий, а также калмыков - православных в казачестве и на юге Урала, и ранее на р. Терек близ г. Кизляра.В итоге у автора осталось недовыписанным сочетание религий и верований в нагайбакской среде, процесс адаптации иноэтнических элементов (в т.ч. в связи с основным прежде обрядовым праздником).Рецензент уверен, впрочем, что увлечённая и подробная работа его младшей коллеги составляет важный вклад в науку и заслуживает, при частных оговорках, весьма высокой оценки, открывая путь интенсивным этнорегиональным и межрегиональным исследованиям в обозримом будущем.
Ключевые слова
Полный текст
Выход в свет книги «Нагайбаки: динамика этничности» [Белоруссова 2019] и сопутствующих публикаций знаменует собою очень важное и знаменательное явление и тенденцию в нашей тюркологической и этнологической науке, соединяя типичные источники со строгими биографическими, а ещё и «виртуальными» – на новых этносайтах глобальной Сети «Интернет» (вплоть до неожиданных, созданных нагайбаками или в связи с ними) [Головнёв, Белоруссова 2018: 101-107; Белоруссова 2019: 345 и др.], с завидно богатым фото, видео и другим иллюстративным рядом, при применении актуальной ныне «проектной» аналитики. Всё это очень важно для всестороннего постижения столь полиэтнично многобразного, степного Юга России (Предкавказья, Нижневолжья и Южноуралья).
Автор, Светлана Юрьевна Белоруссова, – уроженка Свердловской области, окончившая университет в г. Екатеринбурге («социальная антропология»). Её интерес к этнической картине Южного Урала вполне оправдан и понятен. Защитила кандидатскую диссертацию в г. Санкт-Петербурге в октябре 2017 г. [Белоруссова 2017]. В настоящее время – научный сотрудник и заведующая лабораторией МАЭ (Кунсткамеры) РАН.
И монография, и диссертация состоят из пяти глав и до сорока мелких разделов, параграфов. Подойдя нестандартно к порядку следования и заголовкам изложения, автор сумела полно осветить все основные аспекты традиционной культуры этнической группы. Предпринят компетентный, притом качественный обзор сложения и бытия данного «южноуральского народа» (вполне удачная формулировка автора книги). Добавим, что его миграция сюда состоялась ровно 180 лет тому назад.
Нагайбаки, проживающие южнее и западнее г. Челябинска (всего до 10-и тыс. чел.), были переселены сюда из двух крепостей (станиц) Белебеевского уезда на пограничную со степями казачью службу в 1842 г., в своём большинстве – православные с родным татарским диалектом. Другой важный фактор в том, что они снискали себе статус «коренной малочисленный народ России» решениями высших органов власти РФ в 1993 и в 2000 гг.
Можно поэтому утверждать, что нагайбаки представляют собой необычный пример связи различных регионов России и соседних стран с такой же проблематикой. Так, аналогичны им в «Перечне коренных малочисленных народов» бесермяне Западного Предуралья (Удмуртия и Кировская обл.) – 2 тыс. чел., связанных этногенезом и с удмуртами, и с соседними татарами. А позже, с июня 2010 г., – и сету (сето) Псковской обл. (иногда именуемые «двоеверцы», «псковская чудь», или «православные эстонцы»: тоже 2 тыс. чел. в России). Все они выделены как этногруппы по конфессиональному признаку.
Сейчас данный статус имеют 47 этнических общностей. Споры продолжаются, насколько обоснованно был пополнен, начиная с нагайбаков, известный ранее набор этносов Крайнего Севера и Восточной Сибири, соотносимых с прежним «племенным» характером жизни и труда. Автор не обозначает своей позиции по данному поводу, имеются ли в виду народы «коренные, оттого малочисленные», либо «малочисленные – и потому равные коренным».
Интересен для этого и соответствует наработкам рецензента «принцип четырёх поколений» (те же 180 лет нагайбаков под Челябинском) [Белоруссова 2019: 172]. И если не о «коренном происхождении на Урале», то об «укоренённости» в данной местности этой группы, пожалуй, можно вести речь.
С учётом неоднозначности темы, невозможно в полной мере согласиться с подходами и изложением С.Ю. Белоруссовой. Так уж сложилось, что рецензент собирал материалы по кряшенам и нагайбакам, вёл опросы и общался с лидерами движений (см. далее) минимум за 7-8 лет до автора. Однако, это было учтено коллегой в очень малой степени, притом с досадными неточностями.
В частности, для изучения Юга России немаловажен вопрос о связях «нагайбаков» с «ногайцами», проживающими ныне на Северном Кавказе и в Астраханской области, либо же отсутствия связей таковых. Коснулась его, разумеется, и автор монографии. Только вот рецензент, на которого она ссылается, и не намеревался вообще когда-либо так простодушно и прямолинейно, «по созвучию», связывать «происхождение нагайбаков с ногайцами» [Белоруссова 2019: 25, 397].
Это, скорее, версия известного этнографа П.И. Небольсина (в его докладе на заседании РГО от 29-го ноября 1851 г.). Немало шансов, что «Нагайбак» – это личное имя тюркского мужчины (так и у П.И. Рычкова), перешедшее в топоним станицы и крепости на старом месте жительства, а затем и в субэтноним на местах новых. Искажать данные и приписывать лишнее в солидной науке едва ли допустимо. Тем более, что легко доступны публикации рецензента, оставшиеся вне внимания автора монографии [Викторин 1995: 3; Викторин 2005: 9-27 и др.].
Но эта тема оказалась весьма перспективной и получала развитие буквально «на глазах». Потому специально для рецензии рассмотрим известные рецензенту новые «ногайско-нагайбакские» взаимопереплетения, условно обозначив их как «тёзко-имённые».
Прежде всего, на рубеже 80-90-х гг. XX в. возникли самые прямые аналогии в процессе этновозрождения нагайбаков и ногайцев Нижнего Поволжья (и те, и другие «были записаны татарами») [Викторин 1995: 3]. И потому никак не случайной стала оговорка тогдашнего Президента РТ М.Ш. Шаймиева, просто перепутавшего два созвучных этнонима в выступлении на встрече с В.В. Путиным и делегатами Съезда татар от 30-го августа 2002 г. [Викторин 2005: 26-27].
Получат когда-нибудь признание тогдашние попытки учёных, на гребне «этновозрождения и культурного самоопределения», познакомить заочно и лично кряшен и нагайбаков с ногайцами разных местностей (М.С. Глухов – «Ногайбек». Р.Х. Керейтов, Л.Ш. Арсланов, А.М. Маметьев, В.М. Викторин).
Так или иначе, замечательный ансамбль бабушек «Чишмелек» («Роднички») из известного сейчас нагайбакского с. Париж блеснул выступлением на первом Международном фестивале ногайской национальной культуры «Ногай Эль» («Народ ногайцев») в г. Махачкале 25-27-го ноября 2004 г.
И права С.Ю. Белоруссова, раскрывая затем более глубокий, семейный уровень таких связей. Летом 2015 г. в гостях у семьи Фёдоровых из пос. Остроленка побывали ногайцы Дагестана. Нагайбаки радостно отмечали: «Мы понимали их песни, слова, у нас схожие блюда… Различия…, когда доходило до веры» [Белоруссова 2019: 186]. «Этногенетические» же связи если и допустимы, то (см. выше) сугубо косвенные.
И, наконец, новейшая информация. Официальная делегация Ногайского р-на Дагестана посетила райцентр, пос. Фершампенуаз Челябинской обл. 27-го ноября 2021 г. Планируется, насколько ясно, и ответный визит. С нагайбаками было подписано «Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве районов и ʺродственных народовʺ» (главы р-нов М.К. Аджеков и И.В. Сурменов, председатели собраний депутатов Д.А. Эсиргепов и В.Н. Бурмистров)[1]. Жители территорий разберутся в своём общении сами. Пути и возможности всё это открывает в XXI в. новые и обширные.
Рассматривая далее рецензируемые исследования, особо выделяем очерки о необычном и ярком лидере этновозрождения «низовой» части нагайбаков, потомке выходца с Ближнего Востока в белебеевское казачество, ветеране войны, вооружённых сил и партийной работы Алексее Михайловиче Маметьеве (1923-2005) [Белоруссова 2017: 19-21; Головнёв, Белоруссова 2018: 78-79, 95; Белоруссова 2019: 231-290 и др.].
Рецензент опирается, прежде всего, на материалы своей полевой поездки в с. Фершампенуаз – райцентр Нагайбакского р - на Челябинской обл. 16-17-го декабря 1994 г. (с посещением музея, созданного и в тот момент возглавляемого А.М. Маметьевым), а также пребывания весной–летом через год у «верховых» (чебаркульских) нагайбаков.
Знакомство и переписка рецензента с незабвенным Алексеем Михайловичем подтверждают изложенное автором диссертации и монографии практически безоговорочно. Удачно освещены коллегой и её соавтором редкостное стечение обстоятельств и личная харизма деятеля, его непревзойдённое искусство пробудить активный «интерес народа к самомý себе».
Важнейшая тема о «роли личности в этноистории» («почти» по Г.В. Плеханову) пока практически не разработана почти совершенно. Поскольку она сложна и, как правило, неочевидна. И автор, Светлана Юрьевна Белоруссова, с её научным руководителем А.В. Головнёвым проделали поистине филигранную работу, предоставив завидный пример для других.
Но нет предела совершенствованию. Потому добавим замечание, что следовало бы процитировать собственные публикации А.М. Маметьева в научной и популярной сфере. Это – тезисы его доклада на III- ей Межднар. научной конференции «Россия и Восток» в г. Челябинске 29 мая – 4-го июня 1995 г. А также пять очерков в вообще замечательном сб. «Край Нагайбакский. Району – 70 лет, вышедшем в 1997 г. в серии «Заповед. уголки Южноуралья» [Маметьев 1995: 31-33; Маметьев, Моисеев 1997: 255 с.].
Согласимся и с тем, что после 2005 г. активных деятелей среди нагайбаков (опять больше среди «низовых») была целая группа, но общепризнанного лидера, равного А.М. Маметьеву, – нет. Хотя почва для такого рода лидирующей деятельности всё ещё ощущается как весьма прочная.
Далее, автору надо было бы держаться строже в отношении терминологии. Учесть оттенки самоидентификации и обеспечить чёткость изложения в этой связи. Так, по-аспирантски - азартно звучит заявление «впервые в научном исследовании было предложено разделение нагайбаков на три группы...» [Белоруссова 2017: 13].
Подобное и намного ранее отмечалось учёными из г. Казани, да и рецензентом тоже, поскольку одна его статья, по «двум» группам всё же есть в Перечне литературы у автора. Ибо спорна «третья», орско-беляевская подгруппа [Белоруссова 2017: 13; Белоруссова 2019: 8, 51, 91-107, 118 и далее]. Именуя себя не «нагайбаками», а «казаками-татарами», они могут составить лишь «часть потомков нагайбакской миграции».
Требовался баланс между цитатами из заявлений нагайбаков и собственными наработками автора по их поводу. И здесь, и далее отметим, что «эмость» и «этость» (Кен. Ли Пайк) существуют для этнокультур отдельно. Первая представлена в ткани традиции, вторая открывается и градируется учёными. Но у них – лишь ограниченное право трактовать явления «от имени» изучаемого этноса.
Так, нет уверенности, что особые «клановые, семейные и родственные, соседские и побратимные связи» нагайбаков [Белоруссова 2019: 169-230] составляют корень их мировосприятия и собственную специфику, а не выделены, по каждому разряду, автором. Отражает это всё просто, думается, культурные универсалии людских сообществ.
Выделяемая автором “триада нагайбакской самобытности” (православие, язык, казачество) [Белоруссова 2017: 18; Белоруссова 2019: 106-168] составляет лишь удобную схему для предъявления. И, как зачастую бывает, условную при анализе фактического положения дел.
Вместо тезиса о «конкуренции миссионерства (православного и исламского)» [Белоруссова 2019: 106-121] рецензент выделил бы положение о религиозном полисинкретизме, по-разному влиявшем на выбор и манифестацию веры. Прошло мимо внимания автора, что глава Оренбургской губернской канцелярии, видный учёный-краевед П.И. Рычков отмечал в 1762 г. о жителях креп. Нагайбакской, что они «ещё во времена царя Иоанна Васильевича из магометан, а паче из идолопоклонников, восприняли святое крещение…» [Рычков 1762: 206]. Такое исходное многообразие могло отражаться лично и семейно даже много позже.
Не менее эффективной моделью может окажеться предложенная ранее рецензентом «этноконфессиональная матрёшка». Это ситуация, когда при преобладающем для этноса общем мусульманском окружении существует, сплочённой группой в нём, служилое православие, а внутри служилой группы – меньшая мусульманская же, в службе, подгруппа внутри. Такое наблюдается в кабардинском этносе и его «моздокской» части (в г. Моздок и в с. Серноводское, на бывш. хуторах Азаниев и Авалов Курского р-на Ставропольского края), где у «казачьей братии» в прежней «приписной» службе наглядно православное преобладание со «вторичным» исламским меньшинством. Несколько сходная картина у татов «трёх конфессий», а также у осетин - иронцев и дигорцев, где представлены и христиане, и мусульмане [Викторин 2005: 16-17].
Не очень вписывается в «триаду» и сходное положение внутри нагайбаков. Существенно в этом плане наличие в пос. Требиятском и соседних не менее 200 традиционных мусульман, прежде тоже служилых в казачестве, соотносимых и соотносящих себя с православными соседями (фамилии единые, имена – разного звучания и написания), но фиксирующихся в переписях обычно «татарами» с языком «татарским». Конечно, упомянуты они в монографии [Белоруссова 2019: 63, 65-66, 113-115, 123-124]. Но рассмотреть их, ради полноты картины, следовало бы специально и подробно, с полевыми данными и по ним.
Не соглашается рецензент и с умалением (видимо, невольным) прежней и современной роли казаков-калмыков («волжско-ставропольских», иначе самарских) и их потомков в нынешних Нагайбаском и соседних р-нах. На момент миграции в 1842 г. они составляли не менее 10 % здешнего казачества, переведённого на Новую степную, защитную линию.
По утверждению С.Ю. Белоруссовой, сейчас их потомки здесь не прослеживаются. Это не так или не совсем так. О переезде калмыков на ранних советских этапах «с Урала под Астрахань» и затем о сталинской депортации отсюда же [Белоруссова 2019: 59] речь едва ли серьёзно заходит. Калмыки оставались здесь, растворялись в местном населении, хотя и долго сохраняли частичную идентичность. Поэтому фразу «соседний тюркский (?!) народ – калмыки» [Белоруссова 2019: 171] мы не считаем уж чересчур грубой ошибкой.
Первый общекалмыцкий Съезд советов в нач. июля 1920 г. пригласил в новую автономию «в порядке добровольного переселения» калмыков, бывших в казачестве (православных. – В.В.), «из Оренбуржья, … с Урала и Терека». Откликнулись несколько тыс. чел. калмыков уральских и оренбургских, а также терских из-под г. Кизляра. Но известны в их числе только остаточные калмыкоязычные и многие русскоязычные переехавшие. О татароязычных же нет никаких данных, и навряд ли таковые вероятны.
Хотя представители калмыцких семей (Ренсановы, Нусхаевы) на деле становились атаманами нагайбакских станиц. И известны минимум 5 фамилий (в сел. Кассель, Балканы, Картала и др.) с ощутимыми калмыцкими корнями. Для общей картины жизни нагайбаков (см. далее) это, право же, немаловажно. О своём происхождении рассказал казак, здешний писатель М.Ф. Шанбатуев в очерке «Калмыцкие казаки: “есть Калм. республика, но есть и уральские калмыки”» [См.: Маметьев, Моисеев 1997: 118-122].
Важный фактор – остававшийся синкретизм православия и ислама с тюрко-монгольским тенгрианством (по-старому, «язычеством»). Роль нагайбаков-мусульман и калмыков отражалась в общенагайбакском празднике «Курбан (курман) – байрам», вкратце и в разном контексте, упоминавшемся и у автора [Белоруссова 2019: 61, 97, 206-207].
Но ведь роль этого торжества в организованной этничности нагайбаков была намного выше указанной. Ежегодно оно с воинским построением и угощением семей отмечалось в июне, на холме «Уба-тау» близ пос. Балканского, Требиятского и Курганного. В последнем послереволюционном крупном празднике участвовал юношей отец А.М. Маметьева. Имелась попытка восстановить его в нач. 90-х гг. Как отмечал в прежних публикациях рецензент, в обрядности и терминологии праздника объединялись православные, исламские и калмыцкие (исходно «тенгрианские») особенности. Эти ключевые аспекты, как мы уверенно считаем, были бы по смыслу необходимы и для диссертации, и для монографии.
Объективная классификация языков тюрок зачастую расходится с бытовыми их названиями. Нужно новое изучение профессионалами, но сомнительна формулировка «нагайбакский язык» [Белоруссова 2019: 141- 146], хотя многие нагайбаки приводят именно её. Особенно, если брать кряшенско-нагайбакский «язык» как разговорный, а не литургический в совсем особой, миссионерской графике – кириллице.
Заметим для связи всех этих аспектов и сугубо предварительно, что речь нагайбаков почти наверняка связана как с кряшенским «конфессиолектом» (В.М. Викторин), так и с уральскими диалектами (проф. Ф.Ю. Юсупов. ст. н.с. З.Р. Садыкова и др.), но в обоих случаях именно в составе татарского языка.
При всём изложенном, выводы автора в «Заключение» рецензент склонен поддержать [См.: Белоруссова 2019: 355-362]. Нужно воздать должное и работоспособности, тщательности и увлечённости выпускницы аспирантуры, признав, что налицо полезные и похвальные авторские находки.
Поскольку ясно, что всестороннее изучение нагайбаков следует продолжать. Это принесёт немалую пользу в теории и на практике изучения сходных, «этноконфессиональных» общностей и групп России и зарубежья. Причём сразу и для специалистов, и для носителей собственно нагайбакской и этнически близких ей традиций, и для широкого читателя.
А то, что неодобряемо и несоразмерно в процессе и обеспечении исследования, содержании публикаций, рецензент постарался обосновать: с его уважением и пожеланиями на будущее автору. Подчеркнув, что «имя в науке» достигается ещё бóльшей доскональностью. Некоторые моменты можно бы выправить в последующих работах автора по данной теме. Но всё это, конечно, на её свободное усмотрение.
1 Подписано соглашение двух районов («Новости») // Всходы. Общественно - политич. газета Нагайбакского р - на Челябинской обл. – Фершампенуаз, 2021, 27 ноября / URL:http://www.vshodi-nagaibak.ru/news/0000014496/ (дата обращения: 22.11.2021); Делегация Ногайского района РД находится с дружественным визитом в Нагайбакском р - не Челябинской обл. («Общество») // Шоьл тавысы [Голос степи]. Республиканская ногайская общественно - политич. газета Дагестана. – Махачкала - Терекли–Мектеб, 2021, 27 ноября / URL:http://www.golosstepi.ru/news/obshestvo/48651/ (дата обращения: 22.11.2022)
Об авторах
Виктор Михайлович Викторин
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
Автор, ответственный за переписку.
Email: victvic@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7008-8851
Список литературы
- Белоруссова С.Ю. Нагайбаки: динамика этничности. – Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2019. – 424 с.
- Белоруссова С.Ю. Динамика этничности нагайбаков в XVIII-XXI вв.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – СПб-Екатеринбург, 2017. – 26 с.
- Викторин В.М. Проблемы этнокультурной специфики кряшен и нагайбаков в общественно-политических дискуссиях рубежа XX-XXI веков (парадоксы субконфессионального «самоопределения» в одноязычных общностях регионов России) // Современное кряшеноведение. Состояние, перспективы. Материалы научной конференции (г. Казань, 23 апреля 2005 г.). – Казань: Организация кряшен и Кряш. приход РПЦ. 2005. – С. 13-27.
- Викторин В.М. Нагайбакларда (Аьлимминъ тептериннен)// Ногай давысы. Карашай-Шеркеш Республик. ямагатшылык-политикалык газетасы. – Черкесск к., 1995, 17 октября. – Б. 3 (на ногайск. яз.).
- Головнёв А.В., Белоруссова С.Ю. О роли личности в этноистории: Алексей Маметьев и народостроительство нагайбаков (Дискуссия) // Этнографическое обозрение. – 2018. – № 5, сентябрь-октябрь. – С. 78-107.
- Маметьев А.М. История малочисленного коренного народа - нагайбаков // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Тез. докл. III- ей Междунар. научн. конф. (г. Челябинск, 29 мая – 3 июня 1995 г.). – Т. II. – Челябинск: Гос. университет и УНЦ РАН, 1995. – С. 31-33.
- Край нагайбакский (сер. «Заповед. уголки Южноуралья»). Району – 70 лет. Сост-ли А.М. Маметьев, А.П. Моисеев. – Челябинск: Изд-во ʺРифейʺ, 1997. – 255 с.
- Рычков П.И. Топография Оренбургская, т. е. обстоятельное описание Оренбургской губернии. – Ч. II.– СПб.: Имп. Акад. Наук, 1762. – 262 с.
Дополнительные файлы