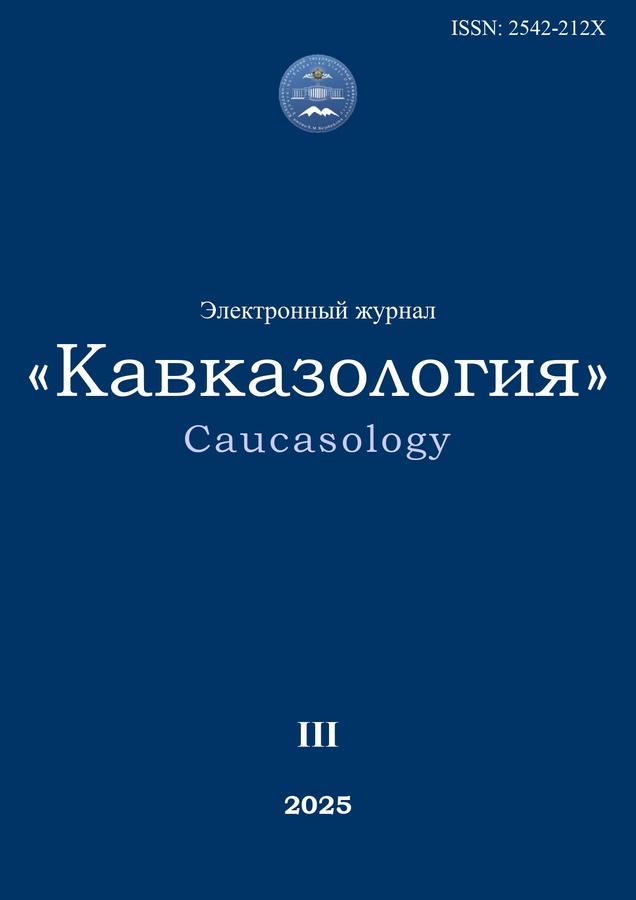Полиаспектный анализ зоолексемы тюлкю ʻлисаʼ в карачаево-балкарском языке
- Авторы: Кетенчиев М.Б.1, Хуболов С.М.1, Мизиев А.М.1
-
Учреждения:
- Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
- Выпуск: № 1 (2025)
- Страницы: 286-297
- Раздел: Русский язык. Языки народов России
- Статья получена: 17.04.2025
- Статья опубликована: 16.04.2025
- URL: https://bakhtiniada.ru/2542-212X/article/view/288084
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2025-1-286-297
- EDN: https://elibrary.ru/REQUAL
- ID: 288084
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья связана с изучением лексики карачаево-балкарского языка. В ней поливекторному анализу подвергается зоолексема тюлкю ʻлисаʼ, выявляются ее словообразовательные возможности, отмечается представленность в составе фитонимов, топонимов и антропонимов. В работе отмечается, что анализируемая зоонимическая лексема отличается релевантными для карачаево-балкарской этнокультуры составляющими, имеющими архаизированный характер. В самом общем виде в мировосприятии этноса лиса предстает как животное, которое отличается такими характеристиками, как хитрость, лукавость и находчивость. Она воспринимается как хищник, наносящий урон птицеводству, а шкура черно-бурой ее разновидности интерпретируется как талисман, способствующий сохранению и приумножению благосостояния человека. В сказках о животных лиса в силу своей хитрости и находчивости побеждает более крупных хищников, хотя и проигрывает некоторым представителям птиц. В корпусе карачаево-балкарских паремий обнаруживаются различные когнитивные характеристики, значимые как для лисы, так и для человека, что детерминируется ментальностью народа. Проанализированный фактический материал дает возможность говорить в целом об универсалиях, связанных с образом лисы. Зоолексема тюлкю представляет собой значимую составляющую зооморфного кода культуры в карачаево-балкарской картине мира.
Ключевые слова
Полный текст
В карачаево-балкарской филологической науке, как и в тюркологии в целом, зоонимической лексике значительное внимание традиционно уделяется в фольклористических исследованиях, посвященных такому значимому жанру устного народного творчества, как сказка, о чем свидетельствуют, например, монографические работы целого ряда авторов [Гулиева (Занукоева) 2019а; Гулиева 2024; Малкондуев 2017; Гергокова 2023а]. Они находят свою нишу и в трудах, связанных с мифологическими воззрениями носителей языка [Джуртубаев 1991], а также в научно-теоретических статьях, ориентированных на изучение следующих аспектов сказочного текста: история изучения [Гергокова 2020], поэтика [Берберов, Берберова 2018], разграничение волшебных и анималистических сказок [Гулиева (Занукоева) 2019б], репрезентация различных персонажей [Гергокова 2023б].
В собственно лингвистических же исследованиях традиционно представлены структурно-семантические особенности зоонимов [Эбзеева 2011], их коннотативные значения [Ойноткинова 2023] и функциональные особенности [Омер 2015]. В последние годы они скрупулезно исследуются с учетом парадигмы современного гуманитарного знания, сопряженного с этнокультурой [Гукетлова 2016; Хисамитдинова 2016; Ахматова и др. 2022] и языковой картиной мира [Кетенчиев 2015]. Причем указанное изучается на материале не только карачаево-балкарского и других тюркских, но и разноструктурных языков, что обнаруживается в вышеотмеченных работах. Однако отдельные зоолексемы все еще не подвергнуты поливекторному рассмотрению, что имеет отношение и к зоониму тюлкю «лиса», к которому мы обращаемся в данной работе. Правда, в последнее время уже начали появляться такого рода научные статьи по другим зоолексемам [Кетенчиев и др. 2024].
Актуальность данной статьи детерминируется важностью многоаспектного анализа номинаций животных, что дает возможность представить не только их собственно лингвистические характеристики, но и функциональные особенности архаического плана, обнаруживающиеся в первую очередь в фольклорном дискурсе.
Новизна работы обусловлена тем, что в ней впервые в научный оборот вводятся новые данные относительно функционально-семантических и этнолингвистических составляющих зоонимической лексемы тюлкю.
В статье ставится цель провести многосторонний анализ отмеченного зоонима с опорой на данные языка и карачаево-балкарского устного народного творчества.
Достижение поставленной цели сопряжено с решением актуальной для карачаево-балкарского языка многомерной задачи, а именно, научной интерпретацией функциональной, семантической, дериватологической и этнокультурной специфики зоонимической лексемы тюлкю. Материалом же для этого служат собственно языковые данные и сведения, извлеченные из текстов фольклора различной жанровой соотнесенности.
Подвергаемый в данной работе анализу зооним представляет собой общетюркскую лексему и представлен в формах tilki, tülki в значении «лисица» еще в ранних лексикографических изданиях [ДТС 1969: 561]. Подобные формы этого слова отмечены и в работах, связанных с сравнительно-историческим изучением лексики тюркских языков [СИГТЯ 2001: 161]. По мнению известного тюрколога А.Н. Кононова, оно производно от адъектива тӱкли «пушистый» [Кононов 1960: 49].
Название лисы в карачаево-балкарском языке в полном объеме совпадает с ее номинацией в таких тюркских языках, как азербайджанский, караимский, киргизский, кумыкский, средне-кыпчакский, чагатайский (tülkü). В настоящее время это слово имеет семантику «лиса; перен. лиса, хитрец, льстивый (о человеке)». От него производны имена существительные тюлкюлюк «хитрость, подобострастие», акъ тюлкю «песец», тюлкюкъуйрукъ «дикое просо», тюлкюкъуйрукъ (къойла) «порода овец с удлиненным курдюком», а также глагол тюлкюлен- «льстить кому; хитрить, вести себя подобострастно». Кроме того, для обозначения человека, характеризующегося чрезмерной хитростью, употребительны компаративные словоформы и дескрипции типа тюлкюлей, тюлкюча, тюлкюсыман, тюлкю кибик, тюлкю маталлы, отражающие его речь и поведение. Все эти языковые единицы объединяются одним типовым значением «схожий с лисой».
В так называемом тайном, или охотничьем, языке обнаруживаются и слова-эвфемизмы, которыми называют лису: къызылжаякъ «краснощекий», узункъуйрукъ «длиннохвостый», тауукъчу «ворующий кур», хыйлачы «хитрый» [КъМФ 1996: 59]. Появление подобных номинаций уходит корнями в период язычества и сопряжено с табуированием названия лисы, а для узнаваемости в их смыслы вкладываются различные ее характеристики.
Рассматриваемая зоолексема употребительна в сочетании с соматизмами къуйрукъ «хвост», аякъ «лапа» в составе двух- и трехкомпонентных фитонимов метафорического характера, таких, как аулакъ тюлкюкъуйрукъ «лисий хвост; лисохвост луговой», тюлкю аякъ «лапчатка прямостоячая», тюлкюкъуйрукъ «вейник наземный; лисохвост равный» [Хапаев, Хапаева 2022: 568]. Их номинации мотивируются исходя из того, что эти растения (их стебли) уподобляются пушистому хвосту или лапе лисицы.
Как явствует из работ, посвященных топонимике [Текуев и др. 2018; Текуев и др. 2019], для зоонима тюлкю релевантно функционирование в качестве основного элемента некоторых одно- и двухсловных микротопонимов, обозначающих названия различных местностей: Тюлкюлю «Лисье», Тюлкю къулакъ «Лисья балка», Тюлкю тешикле «Лисьи норы», Тюлкюлю жар «Лисий овраг» и др. Пояление такого рода онимов сопряжено с тем, что носители языка посредством доступных лексических средств обозначали территории тех близлежащих участков, на которых обнаруживалось изобилие лис.
Общеизвестен тот факт, что среди карачаевцев и балкарцев широко распространены фамилии, производные от названий животных, к которым относятся Айыулары «Медведевы», Арсланлары «Львовы», Бёрюкалары «Волковы», Текелары «Козловы», Токълулары «Барашковы (Ягненковы)» и др. Однако в карачаево-балкарском антропонимиконе фамилии с компонентом тюлкю нет, но есть зоофорные прозвищные имена: Тюлкю «Лиса» (о хитром человеке независимо от пола), Тюлкюкъуйрукъ «Лисохвост» (о хитром человеке, а также о том, кто своими происками натравливает людей друг на друга), Тюлкютут «Лисохват» (о человеке, замеченном в ловле лис), Тюлкюсырт «Лисья спина» (о человеке, который старается себя не обнаруживать), Тюлкютюк «Лисьи волосы» (о человеке, отличающемся чрезмерно рыжей бородой и волосами).
Связь характеристики лисы с традиционной архетипической этнокультурой лучше всего представлена в текстах фольклора, относящихся к различным жанрам. Например, в приметах отмечается, что видеть во сне лису – это плохо: Адамны тюшюнде тюлкю игиликге кёрюнмейди «Человеку лиса во сне видится не к добру». В карачаево-балкарском устном соннике также репрезентируется следующее: Тюшюнгде тюлкю кёрдюнг эсе, аман акъыллы, къулакълы (эшитгенин тил этген), кесин бек сюйген адам бла тюбешмезге бек сакъ бол «Если ты во сне увидел лису, остерегайся встречи с хитрым, ушастым (любящим доносить), себялюбивым человеком».
В карачаево-балкарских сказках о животных, как правило, актуализируются такие характеристики лисы, как обман, хитрость и находчивость, что универсально для произведений устного народного творчества родственных и неродственных народов. Это обнаруживается в сказках типа «Ышаннгысыз юч нёгер» («Ненадежные три товарища»), «Жалгъан нёгер» («Ложный товарищ»), «Тюлкю хыйла» («Лисья хитрость»), «Тюлкю, айыу, бёрю» («Лиса, медведь, волк»), «Айыу, бёрю сора къызыл тюлкю» («Медведь, волк и красный лис»), вошедших в специальное хрестоматийное издание, содержащее сказочные произведения [КъМХЖ 2012: 533-590]. Так, в сказке «Ышаннгысыз юч нёгер» лиса обманом избавляется от более сильного соперника медведя, который поддавшись ее увещеваниям, съедает свои глаза и становится беспомощным. Лиса же вслед за этим, вызвавшись стать поводырем, подводит медведя к круче, откуда он падает и становится добычей для нее и волка, который также становится жертвой ее обмана, оставшись без пропитания. В подобных произведениях лиса обычно обманывает не только медведя и волка, но и своих диких собратьев, порой даже льва.
В сказке «Тюлкю хыйла» лиса в полной мере оправдывает такой свой признак, как амалчы «находчивый, изворотливый, ловкий». Она использует в качестве игрушки найденный в пути медный колокольчик и теряет его в соломенной скирде. Решившись поджечь солому, она обращается к огню с просьбой дать угли для розжига, однако получает отказ. Вслед за этим ей в отместку захотелось потушить огонь водой, однако речка воды не дает. Потом обращается к ишакам, чтобы они испили воды, чтобы речка высохла, но они, не решаясь попасться на глаза играющим неподалеку ребятам, тоже не слушаются. Тогда обращается к ним, чтобы те сели на ишаков и их погоняли. Ребята, сославшись на усталость, не вняли лисе. Лисе ничего не оставалось, как пойти к их родителям и сказать: Хей, жууукъларым, нек турасыз? Жашларыгъыз бир бирлери бла тюйюшюп, бир бёлеги да жаралы болуп жатадыла! «Хей, друзья мои, что вы стоите? Ваши сыновья подрались друг с другом, и некоторые из них лежат раненые!». Тогда родители побежали к сыновьям, а те, испугавшись, начали убегать от них, ишаки бегут от ребят, вода – от ишаков, огонь – от воды. Но солома не смогла убежать от огня и сгорела. Лиса находит свой колокольчик, достигнув своей цели, и поет оду хитрости: Биз, тюлкю миллети, хыйлабыз бла не сюйсек да эталып болабыз. Бизни хыйлабыз хорланмаз, анга женгдирмез зат жокъду! «Мы, лисье племя, своей хитростью можем делать все, что захотим. Нет ничего, что наша хитрость не одолеет!».
Тем не менее лиса проигрывает в «единоборстве» более слабым, но более находчивым противникам – журавлю и перепелке. Например, в сказке «Тюлкю бла зурнук» («Лиса и журавль») лиса, позвав в гости журавля, отправляет его не солоно хлебавши, так как он не смог наесться из тарелки из-за своего длинного клюва. В свою очередь журавль тоже угощает лису, но уже из кувшина, она также уходит из гостей голодной.
В имеющихся текстах карачаево-балкарского нартского эпоса [Нарты 1994] зооним тюлкю встречается в составе номинации черно-бурой лисы (къара тюлкю «черная лиса»). В силу своей ценности ее шкура украшает одежду нартов: Къара тюлкю – тон жагъалары «Черная лиса – воротники их шуб». По этой же причине лиса является объектом охоты: Ючюсю да тюлкю уугьа баргъандыла, дейди, // Къара тюлкюню ызларындан излегендиле, дейди «Все втроем на лисью охоты пошли, говорит, // По следам черную лису искали, говорит». Так как шкура такой лисы представляет собой талисман, символ благополучия, она становится достоянием всех нартов: Тюлкю терини нарт мюлкде къояйыкъ, деди «Шкуру лисы в хозяйстве нартов оставим, говорит».
В сказании «Ёрюзмек бла акъ марал» («Ёрюзмек и белая маралиха») героиня эпоса Сатанай, обернувшись в черно-бурую лису, уводит Ёрюзмека и собак от жилища эмегенов и вызволяет его, приняв человеческий облик и научив, как ему стать прежним: Сатанай кесини адам сыфатын алды, дейди…// Сора не этерин эрине юйретгенди, дейди «Сатанай приняла свой человеческий облик, говорит… // И мужа научила, что делать, говорит». В данном случае актуализируется находчивость Сатанай в образе лисицы.
Рассматриваемая зоолексема употребительна и в составе каргышей, или зложеланий, представляющих собой специфические оптативные экспрессивные синтаксические конструкции с типовым значением «пусть сбудется это»: Тюлкю азыгъы боллукъ! «Чтобы лисьей пищей стал!»; Тюлкю жулкъурукъ! «Чтобы лиса растерзала!». Такие выражения обычно употребляются по отношению к домашней птице.
Небезынтересны и алгыши, т.е. благопожелания, адресованные уже человеку. Для них актуальным представляется типовая формула «пусть это не сбудется»: Ыстауатынга бёрю чапмасын, // Къанатлынгы къызыл тюлкю алмасын «На стойбище твое пусть волк не нападет, // Птиц твоих пусть лиса не заберет»; Къатынынг тюлкю болмасын, // Сабийинг айыплы болмасын «Пусть жена твоя лисой не будет, // Пусть дети твои не опозорятся» и др.
В устном народном творчестве обнаруживается ряд загадок, связанных с лисой [КъМФС 2022: 284-307]. В них отгадка лисы зиждется на ее метафорическом обозначении, а также учитывается прагматическая составляющая, т.е. ценность меха: Сырт башында къызыл ашыкъ (Тюлкю) «На вершине холма красный альчик» (Лиса); Туман тюбюнде алаша кишичик (Тюлкю) «В тумане низенький мужичок» (Лиса); Кесини териси – кесине жау (Тюлкю) «Собственная шкура – себе враг» (Лиса); Нени териси башына жауду? (Тюлкюню) «Чья шкура есть враг для хозяина?» (Лисы).
Лиса эпизодически отмечена в мифах. Речь идет в первую очередь о ее черно-бурой разновидности, которая интепретируется в сознании этноса как талисман, приносящий удачу и счастье, приводящий к благополучию. Для наглядности приведем отрывок из микромифа «Къара тюлкю» («Черная лиса») [КъММ 2007: 15]: Къара тюлкюню териси бек багъа, сыйлы затха саналгъанды. Ол болгъан жерден, юйден берекет кетмейди дей эдиле. Аны ючюн урушха дери къара тюлкю терини бир хурттагы болмагъан таулу юй жокъ эди «Шкура черной лисы считалась очень дорогой, ценной вещью. Говорили, что то место, дом, где она имеется, изобилие не покидает. Поэтому до войны не было ни одного балкарского дома, в котором не хранился бы кусочек шкуры черной лисы». Подобного рода интерпретация обнаруживается и в поэтическом мифе «Къара тюлкюню териси» («Шкура черной лисы») [КъММ 2007: 15]: Бу болгъан жерде да байлыкъ кюймейди, // Бу болгъан жерге да, ой, ач кирмейди «В месте, где она есть, богатство не горит, // Место, где она есть, ой, голод не заходит». С другой стороны, черная лиса признается редким животным и порицается тот, кто ее убивает: Адам излеп тапмагъан, ой, къара тюлкю! «Ой, черная лиса, которую человек ищет и не находит!»; Кет-кет, эл алдагъан, жер жалагъан, уй, аман Шырдан! // Дунияда адам излеп тапмагъан къара тюлкюню ёлтюрген! «Прочь-прочь, народ обманывающий, землю лижущий, уй, плохой Ширдан! // Убивший черную лису, которую человек во всем мире искал и не нашел!». Как видим, в данных отрывках мифов актуализируется ценностное отношение этноса к черно-бурой лисице, сопряженное, по всей видимости, с ее редкой встречаемостью в дикой природе.
В фольклоре зоолексема тюлкю «лиса» чаще всего встречается в составе паремий. В имеющихся основных сборниках пословиц и поговорок [КъНС 1963; МНС 1982] обнаруживается 47 устойчивых выражений с рассматриваемым компонентом. Подобные паремические высказывания имеют структуру как простого, так и сложного предложения: Тюлкюню душманы терисиди «Враг лисы ее шкура»; Тюлкю къайры барса, къуйругъу да ары барады «Куда лиса пойдет, туда и хвост пойдет». Паремии, структурированные по образцам компаративных дескрипций, в зависимости от того, чем выражается маркер сравнения (аффиксы -лай/-лей, -ча и послелог кибик), имеют свои варианты, которых обычно три: Къочхарны ызындан тюлкю айланнганча – Къочхарны ызындан тюлкю айланнганлай – Къочхарны ызындан тюлкю айланнган кибик «Словно лиса, которая за бараном ходит».
В паремиях с конституентом тюлкю репрезентируются различные архетипические когнитивные характеристики лесного хищника, которыми он наделяется носителями языка исходя из их жизненного опыта на протяжении достаточно длительного времени, что является значимой составляющей пословично-поговорочной картины мира, связанной с миром животных. Отметим их.
- Жилище и убежище лисы – нора: Къоян – къамишге, тюлкю – тешикге «Заяц – в камыши, лиса – в нору»; Тюлкю – тешикге, къоян – къамишге «Лиса – в нору, заяц – в камыши».
- Лиса, как правило, питается домашней птицей (обычно курами): Тюлкю тюшюнде тауукъланы санар «Лиса во сне кур будет считать»; Тюлкю тюшюнде тауукъланы санайды «Лиса во сне кур считает»; Тюлкюню жомагъы – тауукъланы юсюнден «Сказка лисы о курах».
- У лисы не хватает сил на более крупную добычу: Тюлкю, къочхарны бюртюклери тюшедиле да, тояма, деп, ачдан ёлгенлей «Словно лиса, которая умерла, надеясь на то, что яички барана упадут, и она наестся».
- Лиса осторожна: Тюлкю эки кере тузакъгъа тюшмез «Лиса дважды в ловушку не попадет».
- Лиса хитра: Тюлкю айыуну, алдап, кёзлерин ашатдыргъанлай – Тюлкю айыуну, алдап, кёзлерин ашатдыргъанча – Тюлкю айыуну, алдап, кёзлерин ашатдыргъан кибик «Как лиса медведя, обманув, заставила его съесть собственные глаз».
- Лиса – поджигатель: Тюлкю къуйругъу бла от салыр «Лиса хвостом пожар устроит»; Тюлкю къуйругъу бла от салгъанлай – Тюлкю къуйругъу бла от салгъанча – Тюлкю къуйругъу бла от салгъан кибик «Как лиса хвостом пожар устроила».
- Лиса не любит (опасается) коня и собаки (человек охотится на лис верхом и натравливая охотничьих собак): Жюйрюк итни тюлкю сюймез «Быструю собаку лиса не любит»; Жюйрюк атны тюлкю сюймез «Быстрого коня лиса не любит»; Тюлкю женгил чапхан итден къоркъур «Лиса быстро бегущего пса испугается».
- Лиса – объект охоты (ценится как пушнина): Тюлкюню териси душманыды «Шкура лисы ее враг»; Атасы тюлкю тутмагъанны баласы къоян тутмаз «У того, чей отец лису не ловит, у того сын зайца не поймает».
В пословицах и поговорках имеет место метафорическое употребление слова лиса, т.е. человек уподобляется лисе по такому признаку, как хитрость: Кесинде болса – кирпи, биреуде болса – тюлкю «У самого есть – еж, у другого есть – лиса»; Сенде болса – тюлкю болур, кесинде болса – кирпи болур «Если у тебя есть – лисицей будет, если у самого есть – ежом станет»; Сен тюлкю эсенг, мен – къуйругъу «Если ты лиса, то я – ее хвост»; Тул къатын тюлкю болур, кёп жюрюсе, кюлкю болур «Женщина-вдова лисой будет, если много гуляет, посмешищем будет». Относительно сильно исхудавшего человека употребительна паремия От къапхан тюлкю кибик, тишлери ачыла «Словно съевшая яд лиса, сверкая зубами». С лисой также ассоциируются хвастун и слабый человек: Къайсы тюлкю да кесини къуйругъун махтайды «Каждая лиса свой хвост хвалит»; Ит болмагъан жерде тюлкю юрюр «В месте, где нет собаки, лиса будет лаять». С точки зрения простонародья в свое время закрепилась оппозитивная характеристика княжеской четы: Бий – бёрю, бийче – тюлкю «Князь – волк, княгиня – лиса».
Лиса находит свою нишу и в художественной литературе. В качестве примера можно отметить детское стихотворение известного поэта С. Шахмурзаева «Тюлкю» («Лиса») [Шахмырзаланы С. 2002: 92]. В нем автор структурирует ее исчерпывающий образ, для которого релевантны такие составляющие, как внешний облик (Къулакълары къуртачыкъ, // Сырты алай къызарып «Уши коротенькие, // Спина покрасневшая»), хитрость (Тюлкю болад хыйлачы «Лиса бывает хитрой»), боязнь от собак (Къозутады итлени, // Къоркъуп къарай, узакъдан «Дразнит собак, // Пугливо смотря, издалека»), ценность меха (Теричиги къызылды, // Сыйлы болад жагъагъа «Шкурка красная, // Ценится для воротника»), питание (Тауукъ этледен ойса, // Бек махтанып ойнагъан «Наевшись курятины, // Очень хвастаясь играющая»; Мыллык тапса, ашайды «Найдя падаль, ест»), специфика лая (Как-как этип юреди «Лает как-как»), слабость по сравнению с волком (Къарыуундан келмейди // Бёрю кибик маллагъа «Сил не хватает // Как у волка для скота»). Указанное свидетельствует о полной корреляции у автора образа лисы с реальными представлениями этноса о ней.
Таким образом, как видно из подвергнутого выше анализу фактологического материала, зооним тюлкю «лиса» в карачаево-балкарском языке имеет достаточно высокий функционально-семантический потенциал. Эта лексема, способствуя образованию целого ряда признаковых слов и дескрипций, входит в состав целого ряда названий растений, микротопонимов, прозвищ и т.п. Для нее присуща этнокультурная маркированность, что заметно в первую очередь при обращении к жанрам фольклора в их многообразии, так как в них содержится кодифицированная информация относительно архетипических воззрений карачаево-балкарского этноса, базирующаяся на его жизненом опыте. Рассмотренное выше представляется существенным для понимания идиоэтнической наивной картины мира и релевантно для дальнейших научно-теоретических изысканий, нацеленных на исследование языка и фольклора в русле антропоцентризма.
Об авторах
Мусса Бахаутдинович Кетенчиев
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Автор, ответственный за переписку.
Email: ketenchiev@mail.ru
доктор филологических наук, профессор Россия
Сахадин Магаметович Хуболов
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Email: khubol@yandex.ru
кандидат филологических наук, доцент Россия
Ахмат Магометович Мизиев
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Email: miz1967@mail.ru
доктор филологических наук Россия
Список литературы
- Ахматова М.А., Салчак А.Я., Чертыкова М.Д. Средства выражения эмоции страха в тюркских языках (на примере тувинского, карачаево-балкарского и хакасского языков) // Новые исследования Тувы. – 2022. – № 2. – С. 224-238. doi: 10.25178/nit.2022.2.16.
- Берберов Б.А., Берберова Л.Б. Поэтика карачаево-балкарской бытовой сказки // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2018. – № 5-1 (83). – С. 9-12.
- Гергокова Л.С. Карачаево-балкарские сказки о животных: сбор, публикация, изучение // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2020. – № 6 (98). – С. 282-288. doi: 10.35330/1991-6639-2020-6-98-282-288.
- Гергокова Л.С. Карачаево-балкарские сказки о животных. – Нальчик: Издательская типография «Принт Центр», 2023. – 208 с. EDN: HXKEPE.
- Гергокова Л.С. Лиса как персонаж нартского эпоса и народных сказок карачаевцев и балкарцев // Kavkaz-Forum. – 2023. – № 16 (23). – С. 19-27. doi: 10.46698/VNC.2023.23.16.011.
- Гукетлова Ф.Н. Номинация этнокультурных зооморфных образов в разноструктурных языках // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 4-3. – С. 451-454. EDN: VSSAOX.
- Гулиева Ф.Х. Указатель чудесных предметов (на материале карачаево-балкарских волшебных сказок). – Нальчик: Кабардино-Балкарский научный центр РАН, 2024. – 168 с. EDN: AMCZCS.
- Гулиева (Занукоева) Ф.Х. Карачаево-балкарская волшебная сказка. – Нальчик: Ред.-изд. отдел ИГИ КБНЦ РАН, 2019. – 108 с. EDN: XQXQDC.
- Гулиева (Занукоева) Ф.Х. О разграничении карачаево-балкарских волшебных и анималистических сказок // Вопросы Кавказской филологии. – 2019. – № 12. – С. 158-164. EDN: IAZLLO.
- Джуртубаев М.Ч. Древние верования балкарцев и карачаевцев. – Нальчик: Эльбрус, 1991. – 256 с.
- Древнетюркский словарь / сост. Т.А. Боровкова, Л.В. Дмитриева, А.А. Зырин и др. – Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1969. – 676 с.
- Кетенчиев М.Б. Зоолексемы как репрезентанты карачаево-балкарской языковой картины мира // Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. – 2015. – № 16. – С. 623-635. EDN: RSMNRR.
- Кетенчиев М.Б., Аппоев А.К., Мизиев А.М. Полиаспектный анализ зоолексемы бёрю ʻволкʼ в карачаево-балкарском языке // Электронный журнал "Кавказология". – 2024. – № 2. – С. 409-423. doi: 10.31143/2542-212X-2024-2-409-423.
- Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. – М.-Л.: Издательство АН СССР, 1960. – 450 с.
- Къарачай-малкъар мифле / сост. М.Ч. Джуртубаев. – Нальчик: Эльбрус, 2007. – 495 с.
- Къарачай-малкъар фольклор / сост. Т.М. Хаджиева. – Нальчик: Эль-Фа, 1996. – 592 б.
- Къарачай-малкъар фольклорну своду. 5-чи том. Къарачайлыланы бла малкъарлыланы кёлден айтылгъан чыгъармачылыкъларыны гитче жанрлары / отв. ред. Б.А. Берберов. – Нальчик: Издательская типография «Принт Центр», 2022. – 412 с.
- Къарачай-малкъар халкъ жомакъла. 1-чи китабы / сост. С.А. Мусукаева. – Нальчик: Эльбрус, 2012. – 590 б.
- Къарачай нарт сёзле (Карачаевские пословицы и поговорки) / сост. С.Ч. Алиев. Черкесск: Карач.-Черкес. кн. изд-во, 1963. – 484 с.
- Малкъар нарт сёзле / сост. А.З. Холаев. – Нальчик: Эльбрус, 1982. – 188 с.
- Малкондуев Х.Х. Карачаево-балкарская народная сказка. – Нальчик: Изд. отдел ИГИ КБНЦ РАН, 2017. – 184 с. EDN: HVQLGG.
- Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев / отв. ред. А.И. Алиева. – М.: Наука. Изд. фирма «Вост. лит.», 1994. – 656 с.
- Омер Б. Особенности функционирования зоонимов лиса и волк в русской и турецкой фразеологии // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 8-3 (50). – С. 152-155. EDN: TXQKQP.
- Ойноткинова Н.Р. Коннотативные значения зоонимов, обозначающих диких животных, в алтайском языке // Эпосоведение. – 2023. – № 4 (32). – С. 76-87. doi: 10.25587/2782-4861-2023-4-76-87.
- Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика. – М.: Наука, 2001. – 822 с.
- Текуев М.М., Хуболов С.М., Мизиев А.М. Структурно-семантические особенности карачаево-балкарских топонимов с зоонимической основой // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2018. – № 10-1 (88). – С. 174-178. doi: 10.30853/filnauki.2018-10-1.36.
- Текуев М.М., Хуболов С.М., Мизиев А.М. Многословные топонимы с зоонимической основой в карачаево-балкарском языке и их лексико-грамматическая характеристика // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2019. – Т. 12. № 2. – С. 230-234. doi: 10.30853/filnauki.2019.2.50.
- Хапаев Б.А., Хапаева А.Б. Этимологический словарь названий лекарственных растений (с карачаево-балкарскими фитонимами). – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2022. – 580 с. EDN: DNMXXB.
- Хисамитдинова Ф.Г. Мифологическая лексика башкирского языка (в этнолингвистическом освещении). – Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН. 2016. – 400 с. EDN: WVGYAL.
- Шахмырзаланы С. Къая къызы – къарылгъач: назмула, поэма. – Нальчик: Эльбрус, 2002. – 208 б.
- Эбзеева Ф.П. Названия животных и птиц в карачаево-балкарском языке (сравнительно-историческое исследование). – Нальчик: Издательский отдел КБИГИ, 2011. – 171 с. EDN: QKUIGJ.
Дополнительные файлы