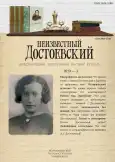The unknown shorthand notes in the diary of Anna Dostoevskaya, or What didn’t Ceciliya Poshemanskaya manage to decipher
- 作者: Sosnovskaya O.A.1, Andrianova I.S.1
-
隶属关系:
- Petrozavodsk State University
- 期: 卷 6, 编号 3 (2019)
- 页面: 140-156
- 栏目: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/2409-5788/article/view/280071
- DOI: https://doi.org/10.15393/j10.art.2019.4202
- ID: 280071
如何引用文章
全文:
详细
The shorthand diary of Dostoevsky’s wife remains today one of the most difficult textual problems. This document is valuable for researchers, as it is the primary and most reliable of some extent evidences of life and work of the writer in 1866–1867. This article presents the unknown facts from the history of deciphering and publishing of the diary found out thanks to the archival researches as well as the biographical data of the Leningrad stenographer Ceciliya Poshemanskaya. She was the only specialist who managed to reveal the content of this text, written in a “dead language”. The article describes the principles of Anna Dostoevskaya’s stenography that make the decipherment of the diary particularly difficult, specifies the main results of a critical analysis of the transcripts by Ceciliya Poshemanskaya that formed the basis of the editions of the diary of Anna Dostoevskaya in 1973 and 1993. This analysis was based on the comparison of the decrypted text by Ceciliya Poshemanskaya and the list of acronyms by Anna Dostoevskaya compiled by the authors of the article. It allowed characterizing the work of the Leningrad stenographer as scrupulous and explaining the reason of leaving some notes in the diary undeciphered and rare mistakes in their interpretation by a high complexity of the work that she performed on her own. The examples of the diary notes not decrypted, omitted or interpreted incorrectly by Poshemanskaya, presented in the article, do not change its general content, but supplement the picture of everyday life of the Dostoevskys and their relationship in 1867. The authors of the article come to the conclusion that it is necessary to republish the diary of the writer’s wife with additions and corrections of the text and comments.
全文:
По словам С. В. Белова и В. А. Туниманова, подготовивших к печати второе издание воспоминаний жены Достоевского1, ни один факт из жизни писателя, приведенный Анной Григорьевной в ее мемуарах, «не является ни сенсацией, ни чем-то уж совсем принципиально новым, что бы не было известно из писем или других воспоминаний современников, друзей, близких». При этом исследователи отметили уникальную особенность воспоминаний Анны Григорьевны: в них она «открыла дверь в Дом Достоевского и ввела туда читателя, показав ему того, другого, ей одной известного человека» [Белов, Туниманов: 23].
Подобное можно сказать и в отношении семейно-бытового дневника, который жена писателя вела стенографически в 1867 г., во время пребывания супругов за границей. В этом мемуарном тексте неразделимы культурный и домашний быт, дневник наполнен многочисленными деталями — от хозяйственных мелочей до супружеских ссор и примирений, и каждая расшифрованная запись дневника Анны Григорьевны ценна тем, что она изображает Достоевского-человека, со всеми его достоинствами и недостатками. В этой предельной искренности, не предназначенной для читателей, и состоит уникальность личного стенографического дневника, его исключительная достоверность.
Воспоминания А. Г. Достоевской переиздавались неоднократно и получили обстоятельные научные комментарии2. Что касается дневника жены писателя, то назрела необходимость его переиздания с дополнениями и корректировкой текста и комментариев3. Ряд наблюдений, предлагаемых в данной статье, сделан с помощью словаря личных стенографических сокращений А. Г. Достоевской, составленного нами в 2017–2019 гг. Он был подготовлен в результате сравнения первой книжки стенографического дневника А. Г. Достоевской и сделанной ею расшифровки, так называемого «дешифранта». Прочтение стенограмм жены писателя и критическая оценка разобранного Ц. М. Пошеманской текста стали возможны с его помощью.
В период с 1894 по 1912 г. вдова Достоевского расшифровала первую и вторую (утраченную позже в стенографическом виде) книжки стенографического дневника. Третью из сохранившихся книжек расшифровала ленинградская стенографистка Ц. М. Пошеманская. Последний раз дневник А. Г. Достоевской издавался в 1993 г.: тогда в печати появились два издания: под редакцией С. В. Житомирской [Достоевская, 1993] и под редакцией С. В. Белова [Последняя любовь…] (см. Илл. 1 и 2), — которые включали тексты трех стенографических книжек. Отличия этих изданий состоят в принципах публикации стенографических книжек4, особенностях редакторской подготовки текста и составе комментариев.
Илл. 1 и 2. Издания дневника А. Г. Достоевской, вышедшие в 1993 г.
Может показаться удивительным, что полные издания дневника вышли в свет только через 126 лет со времени его написания и спустя 75 лет после смерти А. Г. Достоевской. Текст дневника проделал такой долгий путь к читателям и исследователям из-за сложности его расшифровки и редакционной подготовки, конфликтных взаимоотношений людей, связанных с его изданием, а также по причине недооценки личности супруги писателя и историко-литературного значения этого текста5. Тем не менее общее содержание дневника жены писателя было известно до выхода изданий 1993 г. В 1923 г. Н. Ф. Бельчиков опубликовал текст расшифровки первой и второй записных книжек по рукописям А. Г. Достоевской6. А в 1973 г. впервые была введена в научный оборот расшифровка Ц. М. Пошеманской третьей стенографической книжки дневника: она опубликована во втором разделе 86-го тома серийного издания «Литературное наследство» — «Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования» (см. [Расшифрованный дневник А. Г. Достоевской…]).
Текст обоих изданий 1993 г. представляет собой расшифровку, начатую вдовой Достоевского и завершенную в XX в. профессиональной стенографисткой Цецилией Мироновной Пошеманской (1904–1994).
Почему так сложилось, что только одна-единственная стенографистка, без помощи и контроля со стороны коллег, раскрыла содержание дневника А. Г. Достоевской и его читатели вынуждены доверять ее профессионализму, памяти, кругозору, добросовестности, внимательности?
Газеты советского времени писали об этом подвиге Ц. М. Пошеманской, создавая образ «скромной и такой обыкновенной советской женщины, ленинградской коммунистки»7. Однако, как показали недавние архивные разыскания Н. В. Шварц и А. Д. Достоевского8, дополнившие наши сведения о Ц. М. Пошеманской [Андрианова, 2018], она не была «обыкновенной советской женщиной» и рядовой стенографисткой. В 1930-е гг. она была допущена к секретной шифровальной работе (будучи при этом беспартийной) под подписку о неразглашении государственных тайн. Прошла санинструктором и стенографисткой-машинисткой советско-финскую и Великую Отечественную войны. До подвига по расшифровке дневника жены Достоевского старший сержант 86-го санитарного отряда 23-й армии Ленинградского фронта совершала подвиги на войне и была награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени. Приведем полностью ее фронтовую характеристику, так как она дает представление о профессиональных качествах специалиста, взявшегося за расшифровку стенограмм А. Г. Достоевской:
«Ст. сержант м<едицинской> c<лужбы> Пошеманская Ц. М. состоит на службе в 23 Армии с первых дней Отечественной войны, — вначале в качестве вольнонаемной, а с мая 1942 г. — на военной службе. Образцово выполняя всякую порученную ей работу, она показала себя беззаветно преданной Родине, дисциплинированной, исполнительной военнослужащей: не требуя отдыха, она всегда готова вести и образцово выполнять любую порученную ей работу. Являя собой образец трудовой дисциплины, самоотверженности и высокого сознания долга, т. Пошеманская служит примером для других. Помимо своей основной специальности, обладая знаниями стенографии, она систематически привлекалась к записи радиосообщений; благодаря ее труду эшелон армии всегда был в курсе самых последних политических событий. Ее образцовая четкость в работе имеет существенное значение в обеспечении высокого уровня культуры штабной работы»9.
Зашифрованный дневник жены Достоевского оказался одной из сложнейших текстологических загадок. До 1933 г., когда в СССР была введена единая государственная система стенографии (ГЕСС), существовало более 120 стенографических систем, конкурирующих друг с другом10. Система скорописи Габельсбергера-Ольхина, которой владела А. Г. Достоевская, перестала использоваться стенографами в конце XIX в.; такая участь: «созданы и забыты» — была суждена большинству систем записей (см. [Юрковский: 12]). Следовательно, она не была знакома специалистам XX в., которые вполне обоснованно отказались от расшифровки стенограмм жены писателя. Согласно утверждению А. М. Юрковского, опытного сте- нографа и историка стенографии, специалист по скорописи не может прочитать «то, что записано по другой, не его системе» [Юрковский: 50]. О том, что «один стенографист расшифровать стенограмму другого не может», писала опытная стенографистка Л. К. Чуковская [Чуковский, Чуковская: 37].
От расшифровки дневника А. Г. Достоевской отказались другие специалисты, вначале и Пошеманская называла это дело «непосильным и, главное, безрезультатным»11.
Обозначим основные особенности системы скорописи по Габельсбергеру, основам которой обучилась будущая помощница и жена писателя в 1866 г. на курсах П. М. Ольхина. В ней применялись три основных правила соединения простейших знаков: словоначертание (или буквосочетание), словосокращение и словоусечение. Из частных правил, которым всегда следовала «стенографка» Достоевского, назовем следующие: 1) особенными знаками обозначались приставки и окончания слов; 2) корень слова сокращался (или сильно усекался) таким образом, чтобы оставшаяся выписанная часть оставалась смыслоразличимой; 3) числительные (от 1 до 9) записывались обычным письмом; 4) предлоги и частицы (не и ни) соединялись со следующим за ними словом; 5) союз и присоединялся к предшествующему ему слову12. Эту систему Анна Григорьевна приспособила под себя, введя собственные логические сокращения-«самословы»[1*], изобретя «систему в системе», тем самым значительно усложнив задачу дешифровки ее стенограмм.
Сложность прочтения «самословов» А. Г. Достоевской состоит в том, что с ростом профессионализма стенографистки, увеличением скорости записывания она делала более значительные сокращения. Таким образом многие знаки видоизменялись, утрачивали свойство отличаться друг от друга, появлялись омографы (разные по значению, но идентичные по начертанию слова), и, следовательно, возникала возможность нескольких вариантов их прочтения. В таких случаях одним из решающих факторов для правильной расшифровки становится контекстуальное положение стенографического знака. Это сформулировано в статье профессионального стенографа Е. А. Гожей следующим образом: «Контекст — вот та среда, которая помогает нам выбрать одну из возможных альтернатив. Благодаря контексту читающий прогнозирует, предопределяет то, что он должен увидеть. И поэтому помехи при чтении, являясь следствием деформации отдельных ожидаемых стенографических образов, устраняются за счет четкости других слов» [Гожая: 46]. Иначе говоря, стенография — это контекстуальное чтение.
Так, запись А. Г. Достоевской от 28 (16) октября 1867 г., находящаяся на 176-й странице третьей стенографической книжки, открывается словами: «Сегодня день довольно скверный». При этом знаки, обозначающие слова «день» и «довольно», стоящие друг за другом, написаны практически одинаково и правильность их прочтения определяется прежде всего контекстом (см. Илл. 3).
Илл. 3. Фрагмент с. 176 (1-я строка сверху)
Причиной усечения знака для помощницы Достоевского могла стать повторяемость слова, им обозначенного, в пределах одной записи. Например, в записи от 27 (15) сентября 1867 г. Анна Григорьевна дважды употребила слово «величина»:
«Отсюда мы пошли за конвертами, <…> но такой величины конвертов достать не могли; наконец, <…> нашли в каком-то магазине желаемой величины конверты» (270)[2*].
Нетрудно заметить (см. Илл. 4), что в первом случае это слово пишется более пространно: в его написании присутствует дифференциальный признак знака, обозначающего согласную букву л, который отсутствует во втором случае.
Илл. 4. Фрагмент с. 61 (5-я строка сверху)
Слова на иностранных языках (немецком и французском) и имена собственные А. Г. Достоевская часто записывала без применения стенографического письма. Однако немало и таких случаев, когда они застенографированы, — и тогда их расшифровка способна вызвать серьезные затруднения даже у самого автора записей. Для лучшего распознавания имен собственных в тексте Достоевская их подчеркивала (это было рекомендовано и в пособии П. М. Ольхина [Ольхин: 21]). Подобный принцип нередко применялся в первой тетради стенографического дневника (см.: [Андрианова, Сосновская, 2018: 54]). Безусловно, для успешного прочтения тех или иных имен, фамилий, географических названий и других имен собственных необходима немалая широта кругозора, о чем говорила Ц. М. Пошеманская в 1970 г. в интервью петербургской журналистке Н. Гречук, называя стенографистов «эрудитами поневоле»: «Чтобы грамотно расшифровать стенограмму, приходится обращаться к справочникам, словарям, энциклопедиям, специальной литературе… А сколько я должна была перечитать, работая над расшифровкой записей Достоевской <…>!»13.
Ниже (Илл. 5) приведено стенографическое написание названия города Саксон ле Бен, куда Федор Михайлович отправлялся для игры в рулетку из Женевы: «…Федя сказал, откладывая 100 франков в стол: “А вот на эти я от- правлюсь в Саксон ле Бен”» [Достоевская, 1993: 257]. Изначально Ц. М. По- шеманская расшифровала это имя собственное как «Саксон или Вена», что отражено в ее рабочих машинописных материалах14. Это связано с тем, что «ле» и «или» записываются похожими знаками, а часть имени собственного «Бен» и название города «Вена» также в скорописи подобны друг другу: согласные «б» и «в» различаются в стенографическом письме лишь накло- ном и чуть большей округлостью в случае с согласной «в», что на письме не всегда четко различимо.
Илл. 5. Фрагмент с. 39 (3-я строка снизу)
В записях, относящихся к 20 (8) ноября 1867 г., встречаются французские однокоренные слова «poulet» (цыпленок) и «poule» (курица): «…я ем по- стоянно poulet и уж наши хозяйки придумали, что <…> я вдруг сама об- ращусь в poule» [Достоевская, 1993: 380]. В первом случае А. Г. Достоевская записала французское слово прописью, во втором — стенографически, чему способствовало близкое расположение знаков в тексте относительно друг друга (см. Илл. 6). Написание однокоренного слова стенографическим знаком обусловило появление в рабочих материалах Пошеманской его русской огласовки — «пуль» (см.: ОР РГБ, ф. 93.III.05.015г, с. 313: «…я вдруг сама обращусь в пуль»).
Илл. 6. Фрагмент с. 243 (6–7-я строки сверху)
Аналогичный случай фиксирования иностранных слов с применением стенографического письма встречается в записи от 21 (9) декабря 1867 г.: «Ходила к бабке <…>, она <…> называла меня “мон анфан”». Французское выражение «mon enfant» передано Анной Григорьевной стенографически (см. Илл. 7).
Примеров, свидетельствующих о том, что расшифровка дневника А. Г. Достоевской отличается повышенной сложностью, можно привести много. Однако Ц. М. Пошеманская нашла трудоемкую, но эффективную методику чтения зашифрованного текста: на основе стенограмм, к которым А. Г. Достоевская успела сделать расшифровку, она составила словарь сокращений жены писателя. Именно с его помощью в 1970-х гг. она завершила работу по расшифровке дневника и разобрала ряд других стенограмм А. Г. Достоевской.
Илл. 7. Фрагмент с. 250 (7-я строка снизу)
Ц. М. Пошеманская отличалась ответственным подходом к работе, о котором писала С. В. Житомирской: «…хотелось бы, чтобы текст был максимально полон и точен. Я не говорю о неточностях, хотя даже при опущении “и”, “а” и т. п. местами пропадает колорит письма автора»15. После публикации в «Литературном наследстве» (1973) третьей записной книжки дневника Достоевской она продолжила стенографическо-редакторскую работу с этим текстом и признавала, что необходимо его новое издание по причине большого числа «досадных ошибок, неточностей и даже искажений», допущенных ею и ре- дакторами; кроме того, несколько расшифрованных слов не было включено в издание 1973 г.16 Согласно списку Ц. М. Пошеманской, приложенному к одному из ее писем к С. В. Житомирской, стенографистка выявила 104 «ошибки и неточности» в «Литературном наследстве» и смогла расшифровать 14 новых слов17. Были и другие уточнения текста дневника, не внесенные в этот список. Об их существовании известно из материалов, предоставленных нам В. Н. Захаровым: в конце 1980-х гг. по просьбе исследователя Ц. М. Пошеманская прислала ему на время машинопись со своими исправлениями, чтобы он перенес их в личный экземпляр издания (см. Илл. 8, 9).
Илл. 8, 9
Ошибки, сделанные Пошеманской в публикации «Литературного наследства» (ЛН), объяснимы сложностью и запутанностью стенографической системы Габельсбергера-Ольхина. Для наглядности поясним две из них, исправленные самой ленинградской стенографисткой в изданиях 1993 г.
1
ЛН | Дневник 1993 (под ред. С. В. Житомирской) |
«Мне почему-то вздумалось спросить его, я подбежала и приняла папироску» | «Мне почему-то вздумалось спросить его, я подбежала и отняла папироску» |
Приставки при- и от- стенографически пишутся схожим образом (первая имеет чуть более сильный наклон влево, не всегда четко различимый на письме), и правильный выбор одной из них в первую очередь подсказывает контекст.
2
ЛН | Дневник 1993 (под ред. С. В. Житомирской) |
«Дорогой мы разговаривали с Федей о возможности или невозможности ехать ему туда, и когда я, не желая его обидеть, сказала, что это возможно, то он ужасно как обиделся и начал шуметь, но как-то уж слишком развязно…» | «Дорогой мы разговаривали с Федей о возможности или невозможности ехать ему туда, и когда я, не желая его обидеть, сказала, что это возможно, то он ужасно как обрадовался и начал шутить, но как-то уж слишком развязно…» |
В этой записи от 20 (8) сентября 1867 г., расположенной на 45-й странице третьей стенографической книжки, речь идет о поездке на рулетку. Стенографические знаки, обозначающие слова обиделся / обрадовался, шуметь / шутить, похожи. Контекст (знание о тогдашней предрасположенности Достоевского к игре на рулетке и об отношении его молодой жены, которая терпеливо давала ему возможность изжить эту страсть) определяет выбор правильных вариантов прочтения.
В изданиях 1993 г. было устранено большинство ошибок и недочетов, найденных Ц. М. Пошеманской в «Литературном наследстве». Несколько строк, расшифрованных ленинградской стенографисткой, не были внесены по этическим соображениям: описание физиологических следствий сильного припадка в изданиях было скрыто знаком сокращения <…>: «Потом он как будто бы пришел в себя <…>. Он все говорил, что боится так страшно умереть» [Достоевская, 1993: 265]. Не будем приводить их и мы18.
Прочитать чужую стенограмму так же трудно и детально невозможно, как понять ломаную речь иностранца, плохо владеющего неродным языком.
Очевидно, что не все стенографические записи А. Г. Достоевской спустя более чем 150 лет со времени их создания поддаются полной расшифровке. Неудивительно, что в изданиях дневника 1993 г. редко, но встречаются ошибки расшифровки (в основном это пропуски служебных слов, не искажающие общего смысла предложения), остаются слова, словосочетания и предложения, которые так и не удалось расшифровать Пошеманской (в ряде случаев она разместила предположительные варианты в постраничных комментариях). Некоторые из них нуждаются в дальнейшем рассмотрении, остальные удалось уточнить нам при сопоставлении стенографического дневника жены Достоевского и дешифранта Ц. М. Пошеманской. Наиболее значительные из них представлены далее.
1
В записи от 22 октября (3 ноября) 1867 г. А. Г. Достоевская вспоминает о разговоре, произошедшем на именинах ее родственницы Лизы Сниткиной в 1865 г.:
«Саша (двоюродный брат Анны Григорьевны А. Н. Сниткин. — О. С., И. А.) приглашал меня перейти в другую комнату <…>. Разговор зашел о смерти песковской тетки. Я отвечала, что, вероятно, это неправда, что очень может быть, что умерла там какая-то другая [женщина?]. Потом я разговорилась с [Сенько] о Песковой…» [Достоевская, 1993: 350].
Не обладая достоверными сведениями о родственниках со стороны Анны Григорьевны (тем более не самых близких), Пошеманская не могла установить личность упоминаемой «песковской» родственницы Достоевской. Однако архивные разыскания Т. В. Панюковой (см.: [Панюкова, 2019b]) и проделанное нами дальнейшее исследование стенограмм уточняют эту запись. Из обнаруженного Т. В. Панюковой в ЦГИА СПб в фонде Санкт-Петербургского университета личного дела студента Александра Николаевича Сниткина (Саши) выясняется, что 1 ноября 1865 г. он писал прошение об отпуске на имя ректора университета: «Имѣя крайнюю необходимость явиться во Псковъ для нѣкоторыхъ свѣдѣній объ умершей моей теткѣ, покорнѣйше прошу Васъ выдать мнѣ билетъ для свободнаго туда проѣзда» (цит. по: [Панюкова, 2019b]). Таким образом, в приведенной записи Анны Григорьевны правильным является вариант «псковской». Кроме того, с большой долей вероятности можно утверждать, что в дальнейшем разговоре речь идет «о Пскове», а не «о Песковой».
2
Обратимся к записи дневника от 6 сентября (25 августа) 1867 г., в которой описывается разговор Анны Григорьевны с мужем о немцах и отношении супругов к ним:
«На дороге нам пришлось поссориться, да ведь из-за каких-то глупостей. Я сказала Феде, что одна немка, думая мне польстить, сказала, что я похожа на немку; я, разумеется, отвечала, что я русская, но ничего не прибавила. Тогда Федя начал говорить, зачем я не сказала, что я на немку походить не желаю; мне вовсе ее не хотелось оскорбить, пусть себе она ценит немецкое, так зачем же навязывать свои [мнения?] и уверять, что немецкое все дрянь, да мне, по правде, решительно все равно. Вот на это-то Федя и напустился вдруг, назвал меня деревом, что для меня разницы не существует, а что я дерево. Я, разумеется, не желала с ним ссориться, ничего ему не отвечала, и так мы гуляли, не говоря ни слова. Но потом уж дома помирились» [Достоевская, 1993: 239].
Во фразе «так зачем же навязывать свои [мнения?]» из данного отрывка не прочитанными Пошеманской остались два стенографических знака, которые нам удалось разобрать: вместо вставленного по контексту в квадратных скобках слова «мнения» фразу следует читать следующим образом: «так зачем же навязывать себе лишних врагов». Слово «лишних» прочитывается, так как соответствующий ему стенографический знак состоит из дифференциальных признаков букв «л», «ш» и «х»; правильность расшифровки слова «врагов» подтверждается аналогичным его написанием на 150-й странице (6-я строка сверху) третьей книжки стенографического дневника, где встречается словосочетание «своим врагом», отличающегося только падежной формой (см. Илл. 10, 11).
Илл. 10 и 11. Фрагменты стр. 6 и 150
Прочитанные слова не меняют смысла данного эпизода, но уточняют некоторые особенности характеров Анны Григорьевны, считавшей «худой мир», вероятно, гораздо лучше «доброй ссоры», и Достоевского, видевшего Германию меркантильной, мелочной, утратившей веру в Бога.
3
В расшифрованной Пошеманской записи от 24 (12) сентября 1867 г. отсутствует одно предложение (вставленное и выделенное нами курсивом), имеющееся в стенографических дневниковых записях (третья стенографическая тетрадь, стр. 54, 3-я строка снизу):
«Вечером сегодня опять раздался звон колокола в церквах <…>. Оказалось, что где-то случился опять пожар. Право, здесь в очень короткое время случилось два пожара, а, может быть, и больше. <…> …ужасно грустная погода, как-то даже тяжело действует на душу. Я для своего успокоения раньше легла спать. Я уж как-то сказала, что я здесь очень рано ложусь спать, так что это даже сердит Федю. Вправду, это очень досадно, я думаю, видеть, как человек заваливается спать с 9 часов вечера».
Это пропущенное в изданиях 1993 г. предложение добавляет тонкий штрих к характеристике поведения жены писателя, которая, будучи в то время беременной, вероятно, всячески старалась избегать лишних волнений.
4
В публикации 1993 г. утрачено слово «единственный» во фразе: «Он <Достоевский> как-то мне говорил, <…> что он ценит, что я его друг» [Достоевская, 1993: 276]. Обращение к стенографическим записям (стр. 73, 4-я строка сверху) подтверждает наличие символа, соответствующего слову «единственный»19. Таким образом, данное предложение должно читаться так: «Он <Достоевский> как-то мне говорил, <…> что он ценит, что я его единственный друг». Это уточнение важно для понимания глубины и близости отношений между супругами. Данные слова созвучны признанию Достоевского в адрес его жены: «Ты единственная из женщин, которая поняла меня» [Достоевская, 2015: 693]. Как вспоминала Анна Григорьевна, «добрый муж не только любил и уважал меня, как многие мужья любят и уважают своих жен, но почти преклонялся предо мною, как будто я была каким-то особенным существом, именно для него созданным…» [Достоевская, 2015: 44].
Работа опытной ленинградской стенографистки несомненно может быть охарактеризована как ответственная, внимательная, добросовестная и в основном безошибочная. Встречающиеся в изданиях 1993 г. ошибки в расшифровке, ряд нерасшифрованных слов, немногочисленные технические пропуски слов и строк объясняются не столько человеческим фактором, сколько многоуровневой технологией подготовки текста к публикации: ленинградская стенографистка выполняла одна трудную и кропотливую работу, глаз мог «замыливаться», а возможность ее контроля и проверки другим человеком (такую функцию обычно несут редакторы и корректоры) здесь отсутствовала. Она то переписывала текст от руки, то печатала его на машинке, теряя слова и строки и снова их разыскивая, — в этих этапах работы объяснима потеря некоторых слов при расшифровке: «Чтобы не потерять найденное нужное слово в рукописи, иногда приходится держать на нем палец и искать это место в книге, а чтобы печатать на машинке, палец надо отрывать»20, «…мой метод печатания сразу на машинке оказался, в конце концов, неудобным и тоже длительным: я теряю слова в тесных строчках, когда отрываю от них глаза для печатания на машинке, и долго ищу потом. Если руки заняты, то пальцем держать нужное место не могу. И я вернулась к переписке сначала от руки, это спокойнее; хотя тоже надо смотреть в рукопись, книгу и тетрадь, но все же я могу удобнее их расположить на столе и держать пальцем левой руки нужное место в рукописи»21. Современные цифровые технологии позволяют преодолевать многие сложности, с которыми столкнулась Ц. М. Пошеманская, помогают в устранении имеющихся в изданиях дневника жены Достоевского недочетов. Однако и сегодня они не могут заменить человеческий труд в расшифровке стенограмм.
Проверка дешифровки стенографического дневника А. Г. Достоевской убеждает в необходимости его переиздания — с дополнениями, корректировкой текста и комментариями. Как показывает опыт, для успешной расшифровки стенограмм необходимо не только активно использовать словарь сокращений, но и постоянно расширять объем контекстного чтения за счет архивных и справочных источников.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Достоевская А. Г. Воспоминания / вступ. ст., подгот. текста и примеч. С. В. Белова, В. А. Туниманова. М., 1971; 2-е изд. М., 1981; 3-е изд. М., 1987. Фрагменты воспоминаний А. Г. Достоевской стали появляться в печати с 1922 г. (в журналах «Печать и революция», «Искусство»). В 1925 г. воспоминания А. Г. Достоевской вышли в отдельном издании под редакцией ее первого биографа Л. П. Гроссмана.
2 См. полное и последнее по времени издание: [Достоевская, 2015].
3 О необходимости уточнения и обновления комментариев к дневнику см., напр.: [Паню- кова. Сниткины, породнившиеся…: 140−141].
4 В составе издания С. В. Житомирской первая и третья книжки в расшифровке Ц. М. Пошеманской, вторая — в расшифровке А. Г. Достоевской. С. В. Белов включил в издание две книжки, расшифрованные женой Достоевского, и третью книжку в расшифровке Ц. М. Пошеманской.
5 По субъективной оценке С. В. Житомирской, многолетняя задержка публикации полной версии дневника была вызвана политическими причинами, антисемитизмом власти, атмосферой доносов и интриг, царившей в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ОР ГБЛ), которым она руководила в период с 1952 по 1978 г. [Житомирская].
6 РГАЛИ. Ф. 212.1.148, 212.1.149.
7 Аренин Эл. Подвиг стенографистки // Известия Советов депутатов трудящихся СССР. 1959. № 130 (13057). 3 июня. С. 4.
8 Разыскания проводились в ЦГАЛИ СПб, Санкт-Петербургском филиале архива РАН и ЦАМО.
9 ЦАМО. Цит. по: Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [Электронный ресурс]. URL: http://podvignaroda.ru/?#id=40194902&tab=navDetailManAward
10 Назовем лишь некоторые имена создателей личных стенографических систем или адаптаций зарубежных систем скорописи для русского языка: Ю.-В. Цейбих, Г. Гиндерлин, И. И. Паульсон, Н. Коренев, П. М. Ольхин, Н. Е. Торнау, Ф. Сакс, А. Шевляков, М. И. Иванин, А. А. Брайковский, И. А. Устинов, Ф. Темников, С. М. Длусский, П. М. Плахов, М. А. Терне и др. Все они в 1860−1870-е гг. выпустили учебники, самоучители, хрестоматии, руководства по русской стенографии.
11 «Для меня — самая интересная!» (Воскресный гость «Смены» — стенографистка Цецилия Мироновна Пошеманская) [беседу вела Н. Гречук] // Смена. 1970. № 302 (27 декабря). C. 2.
12 Мы упоминаем лишь те правила скорописи по системе Ольхина-Габельсбергера, которые касаются основных смыслоразличительных признаков стенографических знаков. Кроме них, важное значение имеют и положение знака на строке (настрочные, внестрочные знаки), и его наклон, и толщина выписанной линии, и др. См. об этом, напр.: [Ершов: 61–85], [Ольхин].
13 «Для меня — самая интересная!». C. 2.
14 См.: ОР РГБ. Ф. 93.III.05.015в. С. 48.
15 Там же.
16 Пошеманская Ц. М. Письмо к Житомирской С. В. От 9 октября <1974> г. // ГА РФ. Ф. 10239. Оп. 1. Д. 281. Л. 4.
17 Там же. Л. 5–12.
18 О том, что они были расшифрованы Ц. М. Пошеманской, свидетельствуют материалы В. Н. Захарова.
19 Отметим, что в машинописи Пошеманской расшифровка этого слова представлена. Возможно, его отсутствие в печатном издании обусловлено фактором редактора или корректора.
20 Пошеманская Ц. М. Письмо к Житомирской С. В. От 10 июля <1970-е гг.> // ГА РФ. Ф. 10239. Оп. 1. Д. 281. Л. 18.
21 Пошеманская Ц. М. Письмо к Житомирской С. В. От 25 августа <1976> // ГА РФ. Ф. 10239. Оп. 1. Д. 281. Л. 22.
[1*] Самослов — неологизм, введенный П. М. Ольхиным, под которым подразумевается знак, полностью заменяющий определенное слово или выражение и использующийся для записи слов и оборотов, общеупотребимых и часто встречающихся в речи.
[2*] Здесь и далее в цитатах курсив наш. — О. С., И. А.
作者简介
Oksana Sosnovskaya
Petrozavodsk State University
编辑信件的主要联系方式.
Email: sosna2679@yandex.ru
Master of Arts of the Web-laboratory of the Institute of Philology
俄罗斯联邦, PetrozavodskIrina Andrianova
Petrozavodsk State University
Email: yarysheva@yandex.ru
PhD in Philology, Head of Web-laboratory of the Institute of Philology
俄罗斯联邦, Petrozavodsk参考
- Andrianova I. S. “I am Devoted to Her Against Her Will”: On the Decipherment of the Stenographic Diary of Anna Dostoevskaya by Ceciliya Poshemanskaya. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2018, no. 2, pp. 70–89. Available at: http://unknown- dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1532688551.pdf (accessed on April 20, 2019). DOI: 10.15393/ j10.art.2018.3601 (In Russ.)
- Andrianova I. S., Sosnovskaya O. A. The Stenographic System of Anna Dostoevskaya: the Problem of Decryption. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2018, no. 1, pp. 43–67. Available at: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1526546792.pdf (accessed on April 20, 2019). doi: 10.15393/j10.art.2018.3521 (In Russ.)
- Belov S. V., Tunimanov V. A. A. G. Dostoevskaya and Her Memories. In: Dostoevskaya A. G. Vospominaniya [Dostoevskaya A. G. Memories]. Moscow, Pravda Publ., 1987, pp. 5–38. (In Russ.)
- Gozhaya Е. А. The Process of Reading the Transcript and Its Psychological Features. In: Nekotorye voprosy teorii i metodiki stenografii [Some Questions of Theory and Methods of Shorthand]. Мoscow, 1975, pp. 41–50. (In Russ.)
- Dostoevskaya A. G. Dnevnik 1867 goda [Diary for the Year 1867]. Moscow, Nauka Publ., 1993. 454 p. (Ser. “Literary Monuments”). (In Russ.)
- Dostoevskaya A. G. Vospominaniya. 1846–1917 [Memoirs. 1846–1917]. Moscow, Boslen Publ., 2015. 768 p. (In Russ.)
- Ershov N. A. Obzor russkikh stenograficheskikh system [A Review of Russian Shorthand Systems]. St. Petersburg, Redaktsiya zhurnala “Pedagogicheskiy muzey” Publ., 1880. 144 p. (In Russ.)
- Zhitomirskaya S. V. Prosto zhizn’ [Simply Life]. Moscow, Russian Political Encyclopedia Publ., 2008. 599 p. (In Russ.)
- Ol’khin P. M. Rukovodstvo k russkoy stenografii po nachalam Gabel’sbergera [A Guide to the Russian Shorthand Based on the Gabelsberger Shorthand’s System]. St. Petersburg, Tipografiya M. O. Vol’fa Publ., 1869. 144 p. (In Russ.)
- Panyukova T. V. The Snitkins Who Became Relatives of Dostoevsky. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2019, no. 1, pp. 136–163. Available at: http://unknown-dostoevsky. ru/files/redaktor_pdf/1555422300.pdf (accessed on April 20, 2019). doi: 10.15393/j10. art.2019.3901 (In Russ.)
- Panyukova T. V. Archives of St. Petersburg as a Source of Unknown Biographical Information About F. M. Dostoevsky’s Environment. In: Tvorchestvo F. M. Dostoevskogo: problemy, zhanry, interpretatsii [Works of F. M. Dostoevsky: Problems, Genres, Interpretations]. Novokuznetsk, 2019. (in print) (In Russ.)
- Poslednyaya lyubov’ F. M. Dostoevskogo: A. G. Dostoevskaya. Dnevnik 1867 goda [Last Love of Fedor Dostoevsky: Anna Dostoevskaya’s Diary for the Year 1867]. St. Petersburg, Andreev i synov’ya Publ., 1993. 461 p. (In Russ.)
- The Decrypted Diary of A. G. Dostoevskaya. In: F. M. Dostoevskiy. Novye materialy i issledovaniya [F. M. Dostoevsky. New Materials and Researches]. Moscow, Nauka Publ., 1973, pp. 155–290 (Ser. “Literary Heritage”; vol. 86). (In Russ.)
- Chukovskiy K., Chukovskaya L. Perepiska: 1912–1969 [Correspondence. 1912–1969]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2003. 592 p. (In Russ.)
- Yurkovskiy A. Sto slov v minutu [Hundred Words per Minute]. Moscow, Leningrad, Detgiz Publ., 1950. 40 p. (In Russ.)
补充文件