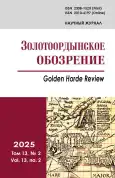Сведения о кара-татарах в мусульманских памятниках XIII в.
- Авторы: Тимохин Д.М.1
-
Учреждения:
- Институт востоковедения Российской академии наук
- Выпуск: Том 13, № 2 (2025)
- Страницы: 277-294
- Раздел: Публикации
- Статья опубликована: 02.07.2025
- URL: https://bakhtiniada.ru/2308-152X/article/view/328081
- DOI: https://doi.org/10.22378/2313-6197.2025-13-2.277-294
- EDN: https://elibrary.ru/FEAYLG
- ID: 328081
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель исследования: представленная вниманию читателей статья посвящена анализу упоминаний мусульманскими историками этнонима «кара-татары». Чаще всего исследователи обращались к данной проблематике применительно к событиям конца XIV – начала XV вв., как это сделал уже В.В. Бартольд, упоминая о «кара-татарах», которых Тимур переселил из пределов Малой Азии в Мавераннахр. Однако нам хотелось бы обратить внимание на тот факт, что мусульманские историки XIII в. также сообщают о «кара-татарах» и эти описания до сих не были объектом специального изучения в российской науке. В этой статье мы не только постараемся проанализировать указанные сведения, но и соотнести их с рассказами о кочевых тюркских племенах Дешт-и Кыпчака, в чьих названиях также присутствует цветовой маркер «кара»/«черный», в еще более ранних мусульманских текстах. Подобное исследование должно оказаться полезным не только специалистам по истории кочевых тюркских племен Дешт-и Кыпчака, но и тем, чьи интересы связаны с анализом эволюции мусульманской историографии XI–XIII вв., а также исследователям семантики цвета в названиях тюркских племенных объединений. Материалы исследования: основными материалами, на которых базируется данная статья, станут как мусульманские исторические и географические сочинения, написанные в XIII в., так и целый ряд более ранних текстов, к которым обращались или из которых заимствовали сведения более поздние авторы. Кроме того, нами будут учтены памятники армянской исторической традиции, содержащие в себе сведения о «кара-татарах» и монгольских завоевательных походах первой половины XIII в.Результаты исследования и научная новизна: в настоящей статье среди мусульманских сочинений XIII в. было отмечено упоминание «кара-татар» в списке тюркских племен, который приводит Фах̮р-е Модаббер в своем сочинении «Шаджара-йе ансāб-е Мобāракшāхӣ», а также пространное описание этого племенного объединения в труде «Шарх нахдж ал-балага» Ибн Абу ал-Хадид ал-Мада’ини. Первый пример подчеркивает тот факт, что уже домонгольские авторы были знакомы с этим племенным объединением, а второй пример наглядным образом демонстрирует влияние на авторов XIII в. сведений гораздо более ранних мусульманских историков и географов.
Ключевые слова
Полный текст
Использование цветовых маркеров для обозначения связанных между собой, но все-таки при этом самостоятельных этнических групп внутри кочевого мира Дешт-и Кыпчака само по себе не является новой научной проблематикой. Ровно то же самое можно сказать и об отражении этих цветовых маркеров в составе мусульманских исторических текстов при описании тех или иных кочевнических объединений – исследовательское внимание эта проблема привлекает уже очень давно [см. например: 8, c. 82–88; 9; 12, c. 159–179; 15]. Семантика же цвета в названии кочевых этнических групп Дешт-и Кыпчака лишь в отдельных случаях продолжает оставаться объектом дискуссии, но в целом же также вряд ли может считаться значимой лакуной. Впрочем, именно эти отдельные случаи позволяет ученым вновь обращаться к, казалось бы, давно и хорошо изученным сюжетам как то – цветовые маркеры в названии кочевых объединений и их семантика на основании сведений из мусульманских источников. В рамках данной статьи мы обратимся к, вероятно, одному из самых известных специалистам цветовых маркеров, фигурирующих в названиях кочевых этнических объединений Дешт-и Кыпчака, а именно к понятию «кара»/«черный» («قرا») неоднократно встречающемуся в мусульманских исторических сочинениях, в том числе и домонгольского периода. Несмотря на обширную историографию проблемы, которой и автор статьи посвятил специальные исследования [17, c. 371–382; 20, с. 60–65], отдельные примеры использования подобного маркера все еще остаются предметом дискуссии, а некоторые и вовсе избежали пристального внимания ученых. В частности, отметим такой этноним как «кара-татары» («قرا تتار»), упоминание которых в памятниках мусульманской историографии XIII в. до пор сих остается слабо изученной научной проблематикой. Надеемся, что наше исследование с одной стороны, в некоторой степени заполнит сложившуюся лакуну в отношении упоминания данной этнической группы в составе мусульманских исторических сочинений XIII в., а с другой – привлечет интерес научного сообщества, как к самим «кара-татарам», так и к другим кочевым племенам, имеющим в своем названии цветовые маркеры.
Сразу же обозначим тот факт, что упоминание «кара-татар» в более поздних исторических текстов сознательно будут оставлены нами без внимания в этом исследовании: эти случаи неплохо известны специалистам и ниже мы приведем несколько значимых сообщений по этому поводу. Во-первых, уже В.В. Бартольд в своей статье «Татары», написанной им для «Энциклопедии Ислама» [5, c. 559–562] сообщает о «кара-татарах» применительно к событиям конца XIV – начала XV в. «Один из монгольских военных отрядов в период завоевания был переселен в Малую Азию; их потомки (вероятно, также тюркизированные) назывались там «черные татары» (кара татар); ко времени похода Тимура они вели кочевую жизнь в местности между Амасьей и Кайсарией; их насчитывалось 30–40 тысяч семей (Шереф ад-дин Йезди, II, 502 и сл.). По рассказу Ибн Арабшаха (‛Аджā’иб ал-макдӯр, Изд. Мангера, II, 338), Тимур по совету султана Баязида приказал увести этих татар в Среднюю Азию; там им были определены места поселения в Кашгаре, на острове (ныне несуществующем) на озере Иссык-Куль (см. Bartold, Issik-Kul; <наст. изд., т. III, стр. 437) и в Хорезме; одной их части удалось бежать в Золотую Орду. После смерти Тимура черные татары вернулись в Малую Азию; в 1419 г. они (или их часть) были переселены на Балканский полуостров и поселены западнее Филипполя; от них получил свое название город Татар-Пазарджик (Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, Bd. I, S. 292)» [5, c. 560]. Другой выдающийся российский востоковед Ю.Э. Брегель в комментариях к изданию одного из томов собрания сочинений В.В. Бартольда также обращает внимание на этот сюжет. «По-видимому, татары, обитавшие в это время в Мерве, были потомками тюркизированного монгольского племени кара-татар, которое Тимур в конце XIV в. переселил из Передней Азии в Мавераннахр, откуда оно после смерти Тимура перешло в Мервский оазис [14, с. 531]. Некоторые исследователи предполагают, что мервские татары в дальнейшем вошли в качестве одного из подразделений в состав йомутов, однако это остается недоказанным» [4, c. 616].
Если В.В. Бартольд опирается в приведенной нами выше цитате из статьи «Татары» на сообщения Шереф ад-Дина Йазди и Ибн Арабшаха, то Ю.Э. Брегель, ссылаясь на первый том «Материалов по истории туркмен и Туркмении», обращает внимание на сообщение о «кара-татарах» в сочинении «Матлаʻ ас-саʻдайн ва-маджмаʻ ал-бахрайн» [10, с. 361, комм. 3] Камал ад-Дина ʻАбд ар-Раззака ибн Исхака Самарканди, перевод выдержек из которого хорошо известен в российской науке [10, с. 361–384; 14, c. 529–535; 16, c. 190–201]. Интересующее нас сообщение этого мусульманского историка выглядит следующим образом: «Рассказ о делах Хорезмской области, которая в этом 815 г. вошла в состав высочайшего дивана. Так как дела хорезмские (еще) не были занесены в тетрадь, то перо (наше) изложит (их) вкратце, из года в год от счастливого восшествия (Шахруха), и расскажет события той области. Вот суть дела. Во время смерти Тимура правителем Хорезма был амир Мусака. Племя кара-татар, которое Тимур в 806/21июля 1403 – 9 июля 1404 г., как подробно было рассказано в первом томе, вывел из областей Румских, в царствование мирзы Халил-Султана бежало из Мавераннахра и ушло в Хорезм. Между ними и амиром Мусака вспыхнуло пламя войны. Искры злодеяний кара-татар спалили земли Хорезма, и они (кара-татары) направились в Рум» [16, c. 193]. Как видно из этого фрагмента источника, речь идет о тех же «кара-татарах», о которых сообщал и В.В. Бартольд в цитате приведенной выше. Их других мусульманских сочинений об этих же событиях начала XV в. и об участии в них «кара-татар», помимо Камал ад-Дина ʻАбд ар-Раззака ибн Исхака Самарканди, сообщает и Фасих Хавафи в своем сочинении «Муджмал-и Фасихи» [23]. «Опасение эмир Сулейман-шаха по поводу казни султан Хусейна. Он послал письмо его Величеству хакану, да увековечит всевышний Аллах его власть, [где говорилось]: «Эмирзаде султан Хусейна я привел к Вам во дворец. Эмир Шахмалик и Нуширван барлас покушались на его жизнь. Если его Величество хакан выгонит эмир Шахмалика, а Нуширвана казнит, то я буду служить нукером его Величества, но в противном случае не пойду к Вам». Его Величество, рассердившись на это, решился на благословенное выступление в сторону Туса и священного Мешхеда за эмиром Сулейман-шахом. Он послал к нему с письмом Абд ас-Самад эмир Хаджи Сайф ад-Дина – зятя и доверенное лицо эмир Сулейман-шаха – и тот принес известие о том, что эмир Сулейман-шах говорит: «Сына своего пошлю во дворец, а сам через два-три месяца прибуду на службу». Бегство туркменов кара-татар из Самарканда и появление их в Хорасане. Они были приведены его Величеством эмир сахибкираном из города Рум. Эмир Шахмалику, эмир Саййид ходже и эмир Джахан Мулку было приказано, чтобы они удалили [их] из Хорасана. Его Величество хакан отправил султана Али, сына Пир падишаха [к отцу] в Астрабад. Он сбежал из Самарканда и направлялся в Астрабад и был схвачен в пути эмир Саййид ходжой и приведен к [его Величеству хакану]. Ему было поручено пойти к отцу и сказать: «Пусть юн придет к [нашему] дворцу, ибо мы желаем оказать ему милость и вручить ему его владения». Эмир Сулейман-шах сбежал из крепости Калат и отправился в Самарканд. Возвращение эмиров, отправленных для того, чтобы изгнать татар. Часть из них они взяли в плен, часть убили, а некоторые спаслись бегством» [23, c. 134–135].
Как видно из приведенных сведений мусульманских источников, этноним «кара-татары» («قرا تتار») появляется в них при описании событий конца XIV – начала XV в., связанных с правлением Тимура и его потомков. Современные исследователи также чаще всего обращают внимание на этот этноним, описывая события указанного исторического периода и используя при этом, преимущественно те же мусульманские исторические сочинения [См. например: 30, p. 701]. О них же можно найти статью в составе известного специалистам издания «The Encyclopaedia Iranica», а точнее в статье «Karāʾi»: «KARĀʾI (QARĀʾI, QARĀ TĀTĀR) – тюркоязычные племя, [проживающее] в Азербайджане, Хорасане, Кермане и Фарсе. Как писал Владимир Минорский: «Название карāʼи на самом деле может быть связано с именем знаменитого монгольского племени кереитов, которые из-за своей христианской веры несторианского толка, изображались как добрый народ пресвитера Иоанна (личная переписка). Но это название также может быть связано с другими этническими группами в Центральной Азии (см. Немет, стр. 264–68). Сэр Джон Малкольм утверждал, что персидские карāʼи «пришли из Тартарии с Тимуром», который «поселил часть их в Турции, а часть в Хорасане». После смерти Тимура (807/1405) «они рассеялись», а Надир-шах (1736–1747), «пожелав чтобы они вновь собрались вместе», собрал их вместе в Хорасане (II, с. 147). Хотя мы не знаем, привел ли Тимур карāʼи на Ближний Восток или нет, остальная часть утверждения Малкольма, по-видимому, в значительной степени верна» [38, p. 536]. Справедливости ради стоит отметить, что данный этноним исследователи находят в источниках и при описании более ранних событий в иных регионах нежели Хорезм, Мавераннахр или Малая Азия. Так, в исследовании И. Вашари, посвящённой истории Балкан в доосманский период [49], мы находим такую цитату при описании событий 1330-го года. «В ноябре 1330 года, через полгода после битвы при Вельбузде, Басараб одержал победу над венгерским королем в южных Карпатах. Поскольку Басараб женился на сестре болгарского царя Ивана Александра, было естественно, что он поспешил на помощь своему шурину, когда тот нуждался в этом при Вельбузде. Кроме того, Басараб также был потомком куманского клана, а его шурин, болгарин Иван Александр, был потомком Шишманидов, которые тоже были кланом куманского происхождения в Видине. Как мы видели и еще увидим несколько раз в этой книге, болгарские и румынские (валашские и молдавские) высшие классы, слой бояр и кнезов, был густо пронизан половецкими этническими элементами в тринадцатом и четырнадцатом веках. Татары в болгарской царской армии назывались «черными татарами» (črʼnyih’ Tatar’) в послании царя Душана, которое сохранилось в одной из рукописей его Законника. Термин кара, «черный», часто использовался в тюрко-монгольских этнонимах, а также в связи с татарами. В китайских источниках черные татары (Hei T’a-t’a) были настоящими татарами» [49, p. 112].
Что касается последнего предложения, то оно полностью повторяет идею, которую высказали ранее составители статьи «Татары» в рамках издания «İslâm Ansiklopedisi» [39, s. 55, 56, 58]. В то же время, если в отношении интерпретации маркера «кара»/«черный» И. Вашари в указанной работе направляет читателя к двум классическим статьям О. Прицака [40, s. 519–532; 41, s. 376–383; 42, s. 239–263], то бытование на Балканах в XIV в. этнонима «кара-татары» остается вне авторского внимания в рамках данной монографии [49, p. 112–113]. Впрочем, в упомянутых нами работах О. Прицака основная часть сведений касается употребления упомянутого маркера к различным этническим объединениям и упоминание его в исторических источниках, а также интерпретации маркера «кара», но непосредственно о «кара-татарах» сведений практически нет [40, s. 519–532; 41, s. 376–383; 42, s. 239–263]. Со своей стороны, еще раз подчеркнем тот факт, что данный этноним встречается в исторических сочинениях, в том числе и немусульманских, в XIV–XV вв. и сам по себе этот феномен хорошо известен исследователям. Нам же в рамках этой статьи, как и было заявлено в ее начале, хотелось бы обратить внимание на употребление этнонима «кара-татары» в более ранних мусульманских исторических сочинениях XIII в., как монгольского, так и домонгольского периода. В отличие от приведенных выше примеров, сообщения из состава мусульманской историографии, которые интересуют нас в этом исследовании, говорят скорее в пользу того, что сам по себе этноним «кара-татары» имеет гораздо более длительную и любопытную историю и вряд ли сводим исключительно к событиям XIV–XV вв. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на список тюркских племен в сочинении «Шаджара-йе ансāб-е Мобāракшāхӣ» («Бах̣р ал-’ансāб») Мох̣аммада ибн Манс̣ӯра ибн Са‘ӣда или Фах̮р-е Модаббера (Мобāракшāх) [47].
Этот памятник относительно давно и хорошо известен специалистам [22, c. 108–115; 25, p. 31; 26, s. 465–544; 36, p. 397–403; 45, p. 392–413; 48, p. 847–858], а сам автор этой статьи посвятил ему несколько собственных работ [19, c. 200–212; 21], в связи с чем в этой статье мы коснемся лишь нескольких важных для нас сюжетов. Прежде всего, обратим внимание на тот факт, что, по мнению исследователей, сам Фах̮р-е Модаббер дожил до 30-х годов XIII в. и был таким образом современником монгольского нашествия [28], вероятно владея информацией по этому поводу, даже проживая на территории северной Индии [28; 22, c. 108–109]. Однако текст интересующего нас сочинения был составлен им существенно раньше: так, по мнению И.И. Умнякова «Шаджара-йе ансāб-е Мобāракшāхӣ» был написан им не ранее 607 г.х.1 [22, c. 108], а составители издания «Материалы по истории Средней и Центральной Азии X–XIX вв.» и вовсе настаивают на 603 г.х.2 [13, c. 90], что выглядит маловероятным на фоне убедительных доводов, которые привел в пользу своей точки зрения И.И. Умняков [22, c. 108]. В любом случае важно подчеркнуть, что на сообщения о тюркских племенах Дешт-и Кыпчака, которые были включены Фах̮р-е Модаббером в состав «Шаджара-йе ансāб-е Мобāракшāхӣ», не могло оказать влияние монгольское нашествие и последовавшие за этим события. При этом, несмотря на то, что данный памятник очевидно должен иметь связи с более ранней мусульманской историографией, что и отмечали исследователи в отношении отдельных разделов этого источника [6, c. 77, комм. 4; 22, c. 108–115; 48, p. 847–858], однако в той части, где описываются кочевые тюркские племена, далеко не всегда получалось найти такие параллели или прямые заимствования [22, c. 111–112]. Здесь отдельного внимания заслуживает, с нашей точки зрения, приведенный Фах̮р-е Модаббером список тюркских племен Дешт-и Кыпчака: в рамках другой статьи мы останавливались специально на его анализе [21], а здесь лишь рассмотрим сам факт присутствия в этом перечне «кара-татар». Единственное на что еще следует здесь обратить внимание касается авторской логики выстраивания самого списка племен: приведенные этнонимы группируются не в алфавитном порядке и на первый взгляд может показаться, что перед нами беспорядочный перечень названий племенных объединений, однако это не так. Автор «Шаджара-йе ансāб-е Мобāракшāхӣ» располагает внутри указанного списка парами, в одном случае тройкой, связанные друг с другом этнонимы, различающиеся лишь цветовым маркером: так, после племени «тибат» («تبت») сразу идет «кара-тибат» («قرا تبت»), а после «хазар» («خزر») соответственно – «кара-хазары» («قرا خزر») [47, p. 47. f. 30b]. Ровно такая ситуация и в отношении интересующего нас этнонима: согласно изданию Э.Д. Росса тридцать вторыми в списке тюркских племен идут «татары» («تتار»), а вслед за ними «кара-татары» («قرا تتار») [47, p. 47. f. 30b]. При этом даже на фоне отсутствия авторских пояснений или ремарок по поводу интересующего нас этнонима, можно все же сделать некоторые выводы.
Прежде всего, стоит отметить, что в этой части «Шаджара-йе ансāб-е Мобāракшāхӣ» текст Фах̮р-е Модаббера одновременно и соответствует, и не соответствует своему времени, а точнее – написание отдельных этнонимов в списке тюркских племен вызывает определенные вопросы. Так, в издании источника, которое было осуществлено Э.Д. Россом, среди указанных племен тринадцатыми идут «хита» («خطا»), под которыми, безусловно, следует понимать «кара-китаев» [47, p. 47. f. 30b]. В своей более ранней статье [17, c. 371–382; 18, c. 250–261] мы специально останавливались на том факте, что в домонгольской традиции историки не использовали этноним «кара-китаи», обозначая их просто «хитаи» или «неверные хитаи», как это делает и Фах̮р-е Модаббер [см. например: 37, s. 45–46; 43, s. 173; 44, p. 277–280]. В составе мусульманской историографии первое появление маркера «кара-китаи» / «кара-хитаи» следует связывать, по мнению исследователей, с текстом Джузджани «Табакат-и Насири», который был составлен не ранее 1260-го г. [27, p. 216–217], в связи с чем следует признать, что, используя понятие вместо «кара-китаи»/«кара-хитаи», Фах̮р-е Модаббер полностью соответствует традициям домонгольской историографии. Однако в отношении «татар» («تتار») и «кара-татар» («قرا تتار») в «Шаджара-йе ансāб-е Мобāракшāхӣ» дело обстоит иначе: так, например, анонимный автор сочинения X в., «Худуд ал-‘Алам мин ал-Машрик ила-л-Магриб», использует вместо варианта «татар» («تتار») написание с двумя алефами – «تاتار» [31, p. 94]. А современники Фах̮р-е Модаббера и ранние авторы-очевидцы монгольского нашествия маркируют их как «التتر» или «تتر», что также отличается от варианта, приведенного в «Шаджара-йе ансāб-е Мобāракшāхӣ» [24, л. 136б, 203б, 209б, 210а, 211а, 212а, 213а–213б; 32, s. 233–235; 35, л. 400–402]. Более того, Ибн Абу ал-Хадид ал-Мада’ини в своем сочинении «Шарх нахдж ал-балага», в котором также описывается монгольское нашествие, дает по этому поводу следующее пояснение. «В одной книге говорится об этом народе: Мурудж аз-Захаб (Золотые копи) Масуди. Он их связывает со словом татар [تتر], в то время как люди сегодня произносят татар [تتار] с долгим алефом. Этот народ проживал далеко на Востоке, в горах Тамгадж на границе с Китаем, который расположен в шести месяцах пути от мусульманского Мавераннахра» [33, p. 21–22]. Таким образом, вариант написания этнонимов «татары» («تتار») и «кара-татары» («قرا تتار») у Фах̮р-е Модаббера отличаются и от некоторых ранних примеров их написания, так и от некоторых более поздних, что делает список тюркских племен в составе «Шаджара-йе ансāб-е Мобāракшāхӣ» еще более любопытным феноменом.
Возвращаясь к приведенной выше цитате из «Шарх нахдж ал-балага» Ибн Абу ал-Хадид ал-Мада’ини хотелось бы обратить внимание на то, что данный памятник включает в себя весьма любопытное сообщение и о «кара-татарах», которое, впрочем, до сегодняшнего момента оставалось не замеченным исследователями. Этот рассказ включен автором в состав главы под названием «Загадочная кончина хорезмшаха», где повествуется о смерти хорезмшаха ʻАлаʼ ад-Дина Мухаммада (1200 – 1220). «Один хорасанский ученый, прибывший в Багдад, известный под именем ал-Бурхан, рассказал мне: «Брат мой, поскольку я входил в состав свиты Хорезмшаха и пользовался его доверием и его милостями, мне было рассказано, что после того, как он потерял рассудок, он постоянно произносил такие слова: «кара-татар калди!» (قرا تتر کلدي), что означает: «Черные татары идут!». Там действительно существуют темнокожие татары, которые походили на африканцев. Они носят очень широкие клинки, отличные от наших, и едят человеческую плоть. Хорезмшах был одержим ими, и память о них преследовала его» [33, p. 40–41]. Переводчик данного сочинения на французский язык, М. Джабли, позволил себе добавить к данному отрывку лишь следующий комментарий: «На самом деле было три группы татар: Белые Татары, жившие на юге у Китая, Татары называемые «дикие», которых сами монголы называли «лесные народы», жившие на крайнем севере и Черные татары, на Севере, часть которых, как мы уже говорили (с.19, комм. 17), мигрировала в Восточный Туркестан, чтобы основать там династию кара-китаев (Черных Хитаев) (Бартольд, История тюрков Центральной Азии: 118 и Энциклопедия Ислама, IV, 736)». Как видно из этого комментария, равно как и из комментария, приведенного на странице 19 того же издания3 М. Джабли странным образом смешивает «кара-татар» с «кара-китаями», что никак не коррелирует ни с историческими реалиями, ни собственно с сочинением ал-Мада’ини [33, p. 19]. В связи с этим, как нам кажется, стоит несколько более внимательно разобраться с источниками, на которых базируется текст «Шарх нахдж ал-балага», чтобы понять откуда его автор мог заимствовать подобный рассказ о «кара-татарах».
М. Джабли в предисловии к изданию перевода «Шарх нахдж ал-балага» в качестве основного источника для ал-Мада’ини называет сочинение Ибн ал-Асира «ал-Камил фи-т-тарих» и здесь мы вынуждены с ним согласиться. Действительно, текст «Шарх нахдж ал-балага» в целом ряде своих разделов является почти дословным пересказом сведений из сочинения Ибн ал-Асира: таковой, например, можно считать главу «Татары и их происхождение», которую ал-Мада’ини почти дословно переписал из раздела «Повествование о нашествии татар на страну Ислама», который более ранний автор «ал-Камил фи-т-тарих» поместил в раздел за 617 г.х. (08.03.1220 – 24.02.1221) [2, с. 345–347; 32, s. 233–235], сократив оригинал и позволив себе незначительные, но крайне интересные дополнения [33, p. 19–20]. Впрочем, в отношении интересующего нас фрагмента из «Шарх нахдж ал-балага» эта закономерность не работает: в составе сочинения Ибн ал-Асира все в том же в разделе за 617 г.х. также присутствует глава «Повествование о походе татар против хорезмшаха, о его бегстве и смерти», но в ней нет рассказа о кара-татарах, ни даже упоминания о них [2, с. 355–356; 32, s. 241–242]. В составе этой главы «ал-Камил фи-т-тарих» мы находим лишь упоминание о «западных татарах» («التتر المغرّبة»), но исходя из контекста их вряд ли можно считать «кара-татарами», о которых сообщает ал-Мада’ини. «После того, как неверные завладели Самаркандом, Чингиз-хан, – Да проклянет его Аллах! – перешел к новым замыслам и направил в поход двадцать тысяч всадников, сказав им: «Ищите хорезмшаха, где бы он ни был, даже если он уцепился за небеса, пока не отыщите и не захватите его!». Эту группу [его войск] мы, в отличие от других, будем называть западными татарами, поскольку они направились на запад Хорасана и углубились в ту страну» [2, с. 355; 32, s. 241–242]. Единственным общим местом в рассказах Ибн ал-Асира и ал-Мада’ини будет ссылка на некоего информатора, которого автор «Шарх нахдж ал-балага» именует «ал-Бурхан» и говорит, что он был «хорасанским ученым» [33, p. 40], а более ранний историк сообщает о нем следующее. «Так рассказал мне один законовед. Он был среди [людей], находившихся в Бухаре, и [неверные] увели его пленным в Самарканд. Затем он спасся от них и прибыл к нам» [2, с. 356; 32, s. 242]. Правда, Ибн ал-Асир тут же сообщает о том, что ему о смерти хорезмшаха ʻАлаʼ ад-Дина Мухаммада, помимо упомянутого выше законоведа, рассказали некие купцы, рассказу которых он, видимо, доверял больше. «Так что купцы сообщили о том, чему были очевидцами» [2, с. 356; 32, s. 242]. При этом у ал-Мада’ини в соответствующей главе никакие купцы в качестве информаторов не упоминаются [33, p. 40–42].
Из приведенного выше сравнения данных из двух связанных между собой исторических сочинений становится ясно, что рассказ о «кара-татарах» в том варианте, в котором его предлагает нам автор «Шарх нахдж ал-балага», не мог быть заимствован из «ал-Камил фи-т-тарих». В связи с этим вопрос о происхождении данного нарратива становится все более интересным, поэтому мы должны обратится к описанию в более ранних мусульманских исторических сочинениях других этнонимов с маркером «кара» в надежде найти на него ответ. Наиболее вероятным, на первый взгляд, вариантом в нашем случае будет описание «кара-хазар», которые, кстати, присутствуют и в списке тюркских племен Фах̮р-е Модаббера [47, p. 47. f. 30b], поскольку из рассказа ал-Мада’ини следует, что «кара-татары» отличаются от «татар» цветом кожи. Здесь следует обратиться к наиболее раннему примеру описания «кара-хазар» в сочинении «Китаб ал-масалик ал-мамалик», Абу Исхака ал-Истахри: «Хазары не похожи на Турок; они черноволосы и их два класса: одни называются «кара-хазары»; они смуглы, даже почти черные, подобно индийцам; другой класс – белый, видный по красоте и наружным качествам» [11, с. 49]. Подобное описание «кара-хазар» мы видим и в более поздних мусульманских сочинениях с некоторыми незначительными дополнениями [50, s. 283; 29, p. 142–143; 34, s. 438; 3, л. 26б]. Как видно из приведенного выше описания, «кара-хазары» отличаются внешне от «белых хазар» и отчасти этот рассказ можно соотнести с описанием «кара-татар» у ал-Мада’ини, которые, согласно его сообщению, также отличаются от «татар» цветом кожи. Однако у последнего нет никакого сравнения «кара-татар» с индусами, с которыми ал-Истахри сравнивает «кара-хазар», а достаточно четко указывается, что «существуют темнокожие татары, которые походили на африканцев» [33, p. 40–41]. Сравнение «кара-татар» с жителями Африки в тексте ал-Мада’ини, разумеется, выглядит странным и может показаться исследователям фантастичным, а следовательно не слишком достойным внимания. Однако более ранние мусульманские сочинения способны дать ответ на вопрос о происхождении подобного странного «феномена».
Так, в сочинении начала XII в., написанном Шараф аз-Заманом Тахиром ал-Марвази, «Таба’и‘ ал-хаййаван» в разделе, который посвящен «Хабаша», то есть эфиопам, можно найти два исторических анекдота, один из которых мы процитируем ниже полностью, поскольку он имеет важное значение для проблематики этой статьи. «В Тарих-и Мулук ат-Тюрк («История тюркских правителей») рассказывается, что один из них (тюркских правителей – Д.Т.), названный B.k.j. (بکج [10, л. 40b]), породнился с другим правителем по имени Джабуйя (джабуййа < джабгу). Среди приданного и многочисленных подарков, которые он преподнес ему, был носильщик из зинджей[4], который казался им чудом среди белых. Они приводили его на свои собрания и выражали свое удивление, глядя на его внешность и цвет кожи. Он обладал большой проницательностью, силой мысли и доблестью, и преуспел во многих великих делах. Правитель привязал его к своей персоне, и его положение постоянно росло и укреплялось. В конце концов, он напал на этого правителя, убил его, занял его место и захватил все его земли. Он принял титул Кара-хан, который никто до него не носил, ибо это означает «Черный хакан». Его величие было столь велико, что, всякий раз, когда Тюрки хотят почтить своего правителя, они именуют его «Кара-хан», в тюркском кара означает «черный», хакан «Великий правитель». Таким образом, Кара-хан означает «Черный хакан»» [46, p. 55–56]. Этот же рассказ можно найти и в более позднем сочинении Садид ад-Дина (Нур ад-Дина) Мухаммада ибн Мухаммада Бухари ʽАуфи, «Джавамиʻ ал-хикайат ва лавамиʻ ар-ривайат» [7, s. 100–101], что следует объяснять тем, что оба автора, ал-Марвази и ʽАуфи, пользовались одним и тем же источником, которым является, по мнению В.В. Бартольда, недошедшее до нас сочинение Маджд ад-Дина Мухаммада ибн Аднана ас-Сурхакати [6, c. 63; 27, p. 10, comm. 33]. Впрочем, здесь мы не будем специально останавливаться на дискуссии вокруг происхождения данного исторического анекдота, равно как и самого титула «кара-хан», о чем нами уже было написано специальное исследование [20, c. 60–65], а отметим лишь тот факт, что представление о том, что маркер «кара» следует понимать буквально не был придуман самим ал-Мада’ини, а базируется на определенной историографической традиции.
Таким образом, уже такой ранний автор, как ал-Истахри, предположил, что выделение из кочевого объединения отдельной группы, маркированной «кара», то есть «черные» следует понимать, как буквальное отличие этой этнической группы, выраженной в более темном цвете их кожи. С учетом популярности его рассказа о «кара-хазарах» для более поздних мусульманских авторов, вряд ли стоит удивляться тому, что буквальная трактовка указанного цветового маркера претерпела определенную эволюцию и, начиная по видимому с сочинения ас-Сурхакати, появляется приведенное выше предание о том, что титул «кара-хан» связан с появлением в тюркской среде правителя, который был выходцем из Африки и именно цвет его кожи стал причиной появления подобной титулатуры. На примере списка тюркских племен в сочинении Фах̮р-е Модаббера можно смело заявлять о том, что мусульманским авторам домонгольского периода было известно значительное количество тюркских племенных объединений с цветовым маркером «кара», одним из которых были интересующие нас «кара-татары». Однако лишь в относительно позднем тексте ал-Мада’ини мы находим рассказ об этом племени, который представляет собой, с нашей точки зрения, сплав более ранних сведений: преставление о том, что кочевое тюркское племя, маркированное словом «кара» должно отличаться именно цветом кожи несомненно свидетельствует о знакомстве автора «Шарх нахдж ал-балага» с историографической традицией заложенной еще ал-Истахри. А вот указание на то, что «кара-татары» подобны африканцам говорит в пользу того, что ал-Мада’ини был знаком с одной из версий о происхождении титула «кара-хана» и перенес эту интерпретацию в свой собственный текст, распространив его на все описываемое им племенное объединение. К сожалению, переводчик «Шарх нахдж ал-балага» не указывает с каким именно народом Африки сравниваются «кара-татары», но вероятнее всего это могли быть или «зинджи», или «хабаша». Впрочем, как мы постарались показать в этой статье, уже само по себе сравнение «кара-татар» с африканцами говорит о знании ал-Мада’ини того исторического анекдота, который был нами приведен выше на примере сочинения ал-Марвази. Наконец, свидетельство о том, что «кара-татары» «едят человеческую плоть» [33, p. 41] связано с теми ужасными деяниями, реальными и выдуманными, которые приписывались монгольским завоевателям, как отдельными мусульманскими авторами первой половины XIII в. [2, с. 345–346; 32, s. 233–235], так и, например, армянскими историками той эпохи [1, c. 34].
В отношении последних следует отметить любопытный парадокс: мусульманские историки современники монгольского нашествия, так и более поздние авторы XIII – первой половины XIV в. при описании военных походов Чингиз-хана и его наследников, за исключением приведенных в этой статье примеров, не упоминают о «кара-татарах». В то же время, мы находим весьма любопытное свидетельство о них в источниках армянских: так, в классическом издании «Армянские источники о монголах. Извлечение из рукописей XIII–XIV вв.» А.Г. Галстян приводит текст памятной записи на Евангелии из города Харберт, в которой содержатся следующие сведения. «В году 685 армянского летоисчисления (1236) нас постиг гнев Божий, появились с востока дикообразные, жестокие и кровожадные люди. Они были широкоплечие, с мускулистыми руками, большеголовые, с гладкими и взъерошенными волосами, ускоглазые, широколобые и редкобородые. Их отношение к людям было беспощаднее, чем у зверей, и их настоящее имя было харататар. Если кто находил пищу, то съедал, а если нет, то не искал и не просил пищи. Они были настолько жестоки, что если бы я обладал самым хорошим красноречием, то не смог бы рассказать те страдания и горести, которые они дали испить в Араратской долине, особенно в городе Ани» [1, c. 44]. Совершенно не ясно, каким образом понятие «кара-татары» появилось в составе данного армянского текста и никак не прослеживается в сочинениях той же историографической традиции в ту же эпоху, равно как и то, можно ли его связать с тем же термином, который мы встречаем в мусульманской историографии. Впрочем, можно отметить, что анонимный автор памятной записи и ал-Мада’ини говорят о разных событиях: первый повествует о завоеваниях армии Чормагана, которые были осуществлены в 1230-е г., а мусульманский историк – событиях монголо-хорезмийской войны 1219–1221 гг.
Подводя итоги этого исследования, обратим еще раз внимание на несколько важных моментов. Прежде всего, отметим еще раз тот факт, что этноним «кара-татары» хорошо знаком исследователям по событиям конца XIV – начала XV вв. и связан с правлением Тимура и его потомков. Однако, как мы постарались показать в рамках этой статьи, это понятие встречается и в более ранних текстах применительно к описанию совсем иных исторических реалий. Достаточно сказать, что уже в составе домонгольских сочинений, а точнее в списке тюркских племен, который приводит в тексте «Шаджара-йе ансāб-е Мобāракшāхӣ» Фах̮р-е Модаббер, мы видим «кара-татар», равно как и несколько других примеров этнонимов, который включают в состав своего названия цветовой маркер «кара», то есть «черный». Наиболее развернутый рассказ о «кара-татарах» в составе мусульманских сочинений XIII в. мы находим у ал-Мада’ини в его «Шарх нахдж ал-балага». Впрочем, сам по себе рассказ этого историка базируется, с нашей точки зрения, на сведениях из более ранних мусульманских памятников: именно эти свидетельства формируют ту объяснительную модель относительно происхождения «кара-татар», которую в итоге и приводит в своем тексте ал-Мада’ини. Впрочем, определенные вопросы остаются относительно упоминания того же понятия в составе армянских текстов и того, каким образом он туда проник и что в свою очередь авторы этой историографической традиции вкладывали в понятие «кара-татары». Надеемся, что последующие исследования данного этнонима, равно как и самого маркера «кара» в составе названий тех или иных тюркских племенных объединений, помогут разрешить в том числе и те вопросы, которые были подняты нами в рамках представленной статьи.
1 607 г.х. = 1210 – 1211 г. Д.Т.
2 603 г.х. = 1206 – 1207 г. Д.Т.
3 Здесь автор перевода сообщает следующее: «Хитаи, Хита или Кита: тюрко-монгольские племена зафиксированные, начиная с V в., на севере Китая. Часть из них мигрировала в регион озера Балхаш, в восточном Туркестане, где ими будет основана династия «Кара-Китаев» (Черных Хитаев)» [33, p. 19, comm. 17]. После этого комментария вряд ли остаются сомнения в ошибочности суждений М. Джабли. Д.Т.
4 Зиндж – несмотря на то, что этим названием чаще всего обозначали африканских рабов из восточной Африки, а также жителей этого региона, ал-Марвази включает рассказ о них в раздел, посвященный «хабаша» или эфиопам, однако в самом тексте четко разделяет их, зинджей и жителей Нубии [46, p. 53].
Об авторах
Дмитрий Михайлович Тимохин
Институт востоковедения Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: horezm83@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9093-5269
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Россия, 107031, ул. Рождественка, 12, МоскваСписок литературы
- Армянские источники о монголах. Извлечение из рукописей XIII–XIV вв. / Пер. А.Г. Галстян. М.: Изд-во вост. лит, 1962. 153 c.
- ал-Асир, ибн. «Ал-Камил фи-т-тарих» «Полный свод по истории». Избранные отрывки / Пер. П.Г. Булгаков, Ш.С. Камолиддин. Ташкент – Цюрих: АН РУз, 2005. 595 с.
- Мух̣аммад ибн Наджӣб Бакрāн. Джахāн-нāмэ (Книга о мире) / Издание текста, введение и указатели Ю. Е. Борщевского. М.: Наука, ГРВЛ, 1960. 166 c.
- Бартольд В.В. Очерк истории туркменского народа // Бартольд В.В. Сочинения. Т. II. Часть 1. Общие работы по истории Средней Азии. Работы по истории Кавказа и Восточной Европы. М.: Наука, 1963. С. 547–627.
- Бартольд В.В. Татары // Бартольд В.В. Сочинения. Т. V. Работы по истории и филологии тюркских народов. М.: Наука, 1968. С. 559–562.
- Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. I. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. М.: Наука, 1963. С. 45–597.
- Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Часть первая. Тексты. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1898. 212 с.
- Глашев А.А. Слово кара/хара и его значения в хазарском языке // Российская тюркология. 2013 №1 (8). С. 82–88.
- Жуковская Н.Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. М.: ГРВЛ, 1988. 199 с.
- История Казахстана в персидских источниках. Т.4 Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды / Отв. ред. М.Х. Абусеитова. Алматы: Дайк-Пресс, 2006. 620 с.
- Караулов Н.А. Сведения арабских географов IX и X веков по Р.X. о Кавказе, Армении и Азербайджане // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. XXIX. Тифлис: Упр. Кавказского учебного окр., 1901. С. 1–73.
- Кононов А.Н. Семантика цветообозначений в тюркских языках // Тюркологический сборник. 1975. Памяти С.Е. Малова. М.: Наука, 1978. С. 159–179.
- Материалы по истории Средней и Центральной Азии X–XIX вв. / отв. ред. Б.А. Ахмедов. Ташкент: Фан, 1988. 413 с.
- Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. I. Арабские и персидские источники VII–XV вв. / Под ред. С.Л. Волина, А.А. Ромаскевича и А.Ю. Якубовского. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1939. 612 с.
- Нанзатов Б.З., Тишин В.В. Цветовая символика в тюркской этнонимике // Символика Тюркского мира. Атлас. Алматы (рукопись).
- Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Том II. Извлечения из персидских сочинений / Сост. В.Г. Тизенгаузен, А.А. Ромаскевич, С.Л. Волин. Москва-Ленинград: Изд-во Академии Наук СССР, 1941. 308 с.
- Тимохин Д.М. Еще раз о кара-китаях в домонгольских мусульманских источниках на примере анонимного персидского сочинения 1133 г. // Монголоведение. 2022. Т. 14. № 2. С. 371–382.
- Тимохин Д.М. Обзор арабо-персидских источников домонгольского периода по истории государства кара-китаев: особенности структуры и содержания // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2021. Вып. 6. С. 250–261.
- Тимохин Д.М. Cочинение Фахр-и Модаббира как источник по истории Афганистана и Северной Индии // Вестник Института востоковедения РАН. 2021. № 4. С. 200–212.
- Тимохин Д.М. Упоминания титулатуры тюркских правителей при описании истории Газневидов в «Таба’и’ ал-Хаййаван» ал-Марвази // Российско-азиатский правовой журнал. № 3 (2021). С. 60–65.
- Тимохин Д.М., Тишин В.В. Список тюркских племен в сочинении Фах̮р-е Модаббера // Золотоордынское наследие. Материалы VII Международного Золотоордынского Форума, посвященного 1100-летию принятия Ислама народами Волжской Булгарии. Вып. 5. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2023. С. 38–49.
- Умняков Н.И. «История» Фахрэддина Мубаракшаха. [Рец. на] Ta’rikh-i-Fakhru’d-Dīn Mubārāk-shāh being the historical Introduction to the Book of Genealogies of Fakhru’d-Dīn Mubārāk-shāh Marvar-rūdi completed in a.d. 1206. Edited from a unique Manuscript by E. Denison Ross, Director of the School of the Oriental Studies. London, 1927. XX+84 pp. 8° («James G. Forlong Fund» Series, № 4) // Вестник Древней истории. 1938. № 1(2). С. 108–115.
- Фасих Хавафи. Муджмал-и Фасихи (Фасихов свод) / Пер., предисл., примеч. и указ. Д.Ю. Юсуповой. Ташкент: Фан, 1980. 346 с.
- Мухаммад ал-Хамави. ат-Та’рих ал-Мансури («Мансурова хроника») / Изд. П.А. Грязневич. М.: Восточная литература, 1960. 544 c.
- Barthold W. Turkestan Down to the Mongol Invasion. 2nd edition / transl. from the original Russian and revised by the author with the assistance of H.A.R. Gibb. London: Luzac and Co., 1928. 514 p.
- Binbaş İ.E. Structure and Function of the “Genealogical Tree” in Islamic Historiography (1200–1500) // Horizons of the World: Festschrift for İsenbike Togan / Hudûdü’l-Âlem: İsenbike Togan’a Armağan. Istanbul: İthaki Yayınları, 2011. S. 465–544.
- Biran M. The Qara Khitai Empire in Eurasian History: Between China and the Islamic World. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 280 p.
- Bosworth C.E. Faḵr-e Modabber. Encyclopaedia Iranica, Online Edition, 1982, URL: https://iranicaonline.org/articles/fakr-e-modabber (date accessed: 8.04.2025).
- Golden P.B. Khazar Studies: an Historico-Philological Inquiry into the Origins of the Khazars. Budapest: Akadémiai Kiadó (Budapest), 1980. Vol. 1. 292 p.
- Golden P.B. Tatar // Encyclopaedia of Islam. Second Edition / Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Vol. 10: Tā'–U. Leiden: E. J. Brill, 2000. Р. 701–702.
- Ḥudūd al-‘Ālam: “The Regions of the World”, A Persian Geography 372 A.H. – 982 A.D. 2nd ed. / with the preface by V.V. Barthold translated from the Russian and with additional material by the late Professor Minorsky; ed. by C.E. Bosworth. London: Luzac, 1970. 524 p.
- Ibn-el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur. Vol. 12. Annos H. 584 – 628 / Ed. by С.J. Tornberg. Upsaliæ: C. A. Leffler, 1853. 330 p.
- Les invasions mongoles en Orient vécues par un savant médiéval arabe ibn Abi l-Hadid al-Madâ’ini, 1190–1258 J.C: Extrait du Sharh Nahj al-balâgha / Trad. M. Djebli. Paris: Le Groupe Harmattan, 1995. 160 p.
- Jасut's geographisches Woerterbuch herausg von F. Wuestenfeld. Bd. II. Leipzig: F.A. Brockhaus, 1867. 970 p.
- Mir't az-Zamân (A.H. 495–654), a facsimile reproduction of manuscript No. 136 of the Landberg Collection of Arabic manuscripts belonging to Yale University. Chicago: Univ. Press, 1907. 556 p.
- O’Neal M.P. Fakhr-i-Mudabbir // Islam, Judaism, and Zoroastrianism. Encyclopedia of Indian Religions / Ed. by Z.R. Kassam, Y.K. Greenberg, J. Bagli. Dordrecht: Springer, 2018, pp. 397–403.
- Nishaburi Zahir ad-Din. Salguk-name. Tehran: Chaphaney-e Havar Tehran, 1953. 100 p.
- Oberling P. Karāʾi // The Encyclopaedia Iranica. vol. XV, Fasc. 5, London: Brill, 2019, pp. 536.
- Ögel B., Temir A., Sümer F. Tatar // İslâm Ansiklopedisi: İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnografya ve Biyografya Lugati. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1979. Cilt XII.1. Takirat – Tuğrâî, s. 50–61.
- Pritsak O. Kara türk yön sembolizmi çalişmasi. Trans. Elvin Yıldırım // Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2021, № 3, pp. 519–532.
- Pritsak O. Orientierung und Farbsymbolik: Zu den Farben- bezeichnungen in den altaischen Volkernamen // Saeculum. Bd.5. 1954, pp. 376–383.
- Pritsak O. «Qara», Studie zur türkischen Rechtssymbolik // 60.Doğum Yıldönümü Münasebetiyle Zeki Velidi Togana Armağan. Symbolae in Honorem Z.V. Togan. İstanbul: Maarif Basimevi, 1950–1955, pp. 239–263.
- Ravandi Mohammad. Rahat as-sudur va ayat as-sorur, ed. by Mohammad Iqbal. Leiden; London: Luzac & Co., 1921. 575 p.
- Recueil de textes rélatifs à l'histoire des Seljoucides par al-Bondari d’après Imad ad-din al-Katib al-Isfahani / Texte arabe publ. dàprès les mss. d’Oxford et de Paris par M.Th. Houtsma. Leiden: Brill, 1889. 314 p.
- Ross E.D. The Genealogies of Fakhr-ud-Din Mubárak Sháh // A volume of oriental studies presented to Edward G. Browne on his 60th birthday (7 February 1922) / ed. by T.W. Arnold and R.A. Nicholson. Cambridge: University Press, 1922, pp. 392–413.
- Sharaf al-Zamān Ṭāhir Marvazī on China, Turks and India / Arabic Text (circa A.D. 1120) with the English translaton and commentary by V. Minorsky. London: The Royal Asiatic Society, 1942. 170 p.
- Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, Being the Historical Introduction to the Book of Genealogies of Fakhru’d-Dín Mubáraksháh Marvar-rúḍí Completed in A.D. 1206 / ed. by E. Denison Ross. London: Royal Asiatic society, 1927. 104 p.
- Validi A.Z. On Mubarakshah Ghuri // Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London. 1932. Vol. VI, no. 4. Pp. 847–858.
- Vásáry I. Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185–1365. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 230 р.
- Viae et regna, descriptio ditionis moslemicae auctore Abu'l-Kasim Ibn Haukal / Bibliotheca geographorum Arabicorum by M.J. de Goeje. Vol. II. Lugduni Batavorum Leiden: Brill, 1873. 406 p.
Дополнительные файлы