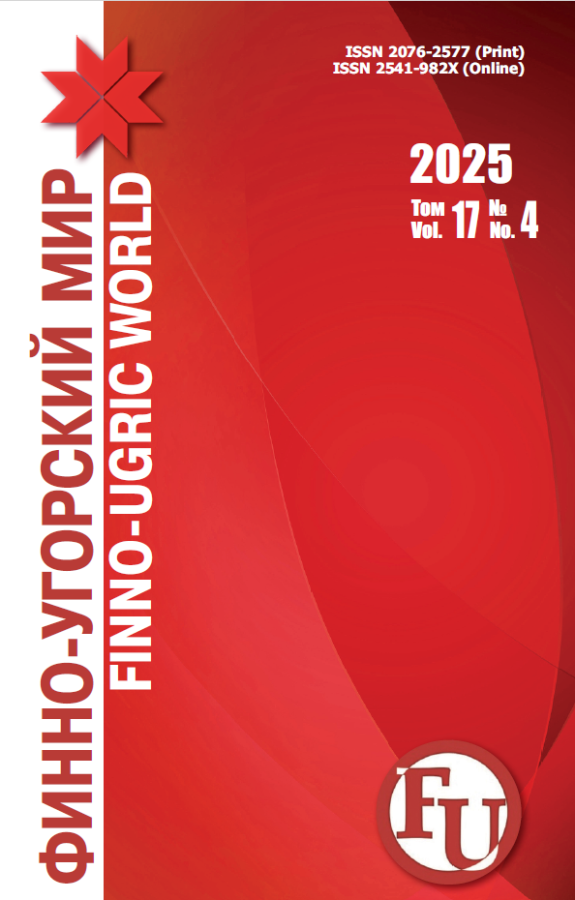Огонь в обрядовой культуре мордвы: истоки, традиции, область применения
- Авторы: Корнишина Г.А.1
-
Учреждения:
- Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
- Выпуск: Том 16, № 2 (2024)
- Страницы: 203-213
- Раздел: Исторические науки
- Статья получена: 25.09.2024
- Статья одобрена: 27.09.2024
- Статья опубликована: 02.10.2024
- URL: https://bakhtiniada.ru/2076-2577/article/view/264621
- DOI: https://doi.org/10.15507/2076-2577.016.2024.02.203-213
- ID: 264621
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Введение. Обрядовая сфера этнической культуры традиционно является предметом изучения этнологии. В последние десятилетия появились новые позиции исследования этого круга проблем, среди которых особое место занимает понимание того, что обрядность в современных условиях – один из важных идентификационных факторов. Это особенно актуально для мордвы, в среде которой довольно быстрыми темпами развиваются ассимиляционные процессы. Цель исследования − выявить истоки, ритуальные функции, первоначальное и современное значения в обрядности мордовского народа огня и его производных (золы, угля, дыма и т. п.).
Материалы и методы. Методологической базой работы явились такие традиционные методы, как сравнительно-исторический и историко-генетический. Они позволили основательно изучить исследуемые явления и с помощью логических и эвристических технологий реконструировать тенденции развития изучаемого объекта. Применялись также методы полевых исследований и анализ историографических трудов и источников.
Результаты исследования и их обсуждение. Отмечается, что область применения огня и его производных была весьма обширна: они выполняли функции оберегов, могли использоваться в качестве лечебных средств, объединять участников ритуальных действий. Такое широкое ритуальное использование огня было тесно связано с солярным культом, т. е. восприятием его как небесной стихии, которая может оказывать воздействие на жизнь людей. Материальным отражением солярного культа были священные свечи − штатолы. Они связывались с образом верховного мордовского бога Шкая-Нишке, который и сам считался солнечным божеством.
Заключение. Ритуальные функции огня в обрядовой культуре мордвы постепенно трансформируются: к настоящему времени практически исчезли магические ритуалы с пламенем костров и домашним очагом, а их место заняли церковные свечи, которые используются во многих современных обрядах. Результаты исследования могут быть полезны для более полного понимания эволюции традиционного мировоззрения мордовского народа, его связей с другими этносами, а также отдельных аспектов его духовной и материальной культуры.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Этническая культура (в особенности ее обрядовая сфера) традиционно является предметом изучения этнологии. В последние десятилетия появились новые позиции исследования данного круга проблем, базирующиеся на понимании того, что обрядность, которая сохраняет в своей структуре весьма архаичные элементы, позволяет проследить процесс этногенеза определенного народа, эволюцию его мировоззрения, межэтнические контакты. Кроме того, обрядность в современных условиях ‒ важный идентификационный фактор, что особенно актуально для мордвы, в среде которой довольно быстрыми темпами идут ассимиляционные процессы.
В обрядовой культуре мордвы до настоящего времени сохраняются рудименты почитания природных стихий (огня, воды, земли). Традиционно они выполняли разнообразные ритуальные функции, а во время проведения церемоний, как правило, сочетались, образуя единый комплекс, становясь взаимосвязанными, как в природе.
Цель данного исследования ‒ выявление истоков, первоначального и современного значений в обрядности мордовского народа огненной стихии и ее производных (золы, угля, дыма и др.), рассмотрение их ритуальных функций.
Обзор литературы
В XIX − начале XX в. о роли природных стихий в обрядности мордвы говорили многие исследователи. В первом монографическом издании «Очерки мордвы» П. И. Мельников, описывая систему дохристианских воззрений терюхан (этническая группа мордвы, проживавшая в пределах Нижегородской губернии), упоминает солярное божество, непосредственно связанное с огненной стихией. Он называет его Ши-паз (Чи-паз), то есть солнечный бог, и объединяет его образ с одним из главнейших мордовских божеств Нишке-пазом, или Инечи-пазом [1]. И. Н. Смирнов в своей монографии «Мордва» также отмечает это божество, считая его верховным богом мордвы [2].
Об обрядовых функциях огня упоминают в своих сочинениях К. Митропольский, В. Н. Майнов, А. Ф. Можаровский, М. Е. Евсевьев и др. Можаровский отмечал, что во время молянов нижегородская мордва применяла огонь, добываемый посредством трения. Его считали священным и надеялись с его помощью уберечь себя, животных, посевы от различных бедствий [3]. Одним из первых об использовании так называемого «живого» огня еще в XVIII в. писал И. И. Лепехин [4]. О его ритуальном использовании также говорили в своих трудах А. Н. Минх и Х. Паасонен [5; 6].
Исследователи рубежа XIX−XX вв. отмечали еще один вид ритуального огня, а именно огонь от священных свечей − «штатолов». М. Е. Евсевьев и Уно Харва подчеркивали их связь с солярным культом, магией плодородия и лечебной магией [7; 8]. Способы их изготовления и внешний вид подробно описал в своей работе В. Н. Майнов [9]. Тему ритуальных функций штатолов затрагивали также Н. И. Дубасов, К. Макарий, Д. Н. Орлов [10‒12].
В контексте изучения обрядовой культуры мордвы данной тематики в своих работах касались этнографы Н. Ф. Мокшин и Е. Н. Мокшина, фольклористы Т. П. Девяткина и Н. Г. Юрченкова, искусствовед В. С. Брыжинский и др. [13‒16]. Исследователи анализировали эволюционные изменения, происходящие с этим элементом ритуалов на протяжении определенного исторического периода.
Материалы и методы
В качестве источников для написания статьи были использованы полевые материалы автора и фольклорные тексты. Методологической базой работы являются сравнительно-исторический и историко-генетический методы. Сравнительно-исторический метод позволяет основательно изучить исследуемые объекты и с помощью применения логических и эвристических технологий реконструировать тенденции их развития. Историко-генетический метод дает возможность выявить истоки появления и дальнейшую трансформацию свойств и функций элементов обрядовой культуры и наметить дальнейшие перспективы их существования. Также в работе применялись методы полевых исследований и анализ историографических трудов и источников.
Результаты исследования
и их обсуждение
Поклонение огненной стихии было важным компонентом культуры практически всех народов. У мордвы до настоящего времени сохраняются некоторые проявления данного явления. Как непосредственно сам огонь, так и пепел, угли, дым продолжают применяться во многих мордовских ритуалах.
Почитание огня берет свое начало со времен поклонения солнцу. Недаром вплоть до XX в. у мордвы существовал обычай, согласно которому во время моления люди обращали свои лица на восток. Двери в традиционном мордовском жилище также прорубались на восточной стороне. Нижегородский и Алатырский епископ И. Дамаскин, исследователь мордвы, отмечал, что «двери мордвы, чуваш и черемис направлены на восток, и как только первые солнечные лучи попадали через дверное окошечко вовнутрь помещения, люди вставали на колени и молились» [17, с. 171].
Одним из древнейших материальных воплощений солнца, который часто использовался в различных ритуалах, было колесо. Колеса фигурировали в обрядах, непосредственно связанных с солярным культом и проводившихся в дни зимнего и летнего солнцеворота. Например, в период масленичных гуляний в мордовских селениях изготавливали карусель, которая символизировала солнце с распростертыми лучами. Основой карусели была большая ось, ее вставляли в кучу снега, а сверху закрепляли колесо от телеги. На него устанавливали длинную жердь, по обоим концам которой привязывали сани. В них садились девушки или дети, а парни вращали колесо, приводя таким образом карусель в движение [18].
В последний день масленичной недели в некоторых регионах проживания мордвы колесо, которое надевали на жердь и обматывали соломой, провозили на санях по селу, а затем поджигали его. В этом случае оно служило символом зимы, как и широко распространенные соломенные чучела. Кроме того, горящие колеса, также обмотанные соломой, во время Масленицы и Пасхи скатывали с гор. В. Я. Пропп полагал, что эта церемония обозначала зарождение «нового» солнца, которое способствовало наступлению весны, возрождению природы, плодородию земли [19, с. 85–86].
Постепенно поклонение небесному светилу заменилось почитанием солнечных божеств. В мифологии многих народов именно они считались созидателями мира и всех его обитателей. Таким представляла солнечного бога и мордва (Шкай, Шкабаваз – м.; Инешке паз, Чи паз – э.1). Поклонение ему происходило ежедневно. Оно выражалось, например, в стремлении людей не «задеть» каким-то образом солнечные лучи: не принято было наступать на солнечные блики на полу, чтобы не «наступить» на ноги Инешке-паза; во время купания остерегались переплывать через отражение солнца в воде, чтобы не повредить его «бороду» [20, с. 13‒14].
Во время молений к этому богу (среди всех божеств) обращались в первую очередь, но ему одному молились довольно редко. Обычно такие моления устраивались перед началом или после окончания значимых моментов сельскохозяйственного календаря, т. е. перед посевной и после окончания уборки урожая. В это время Нишке-пазу обычно приносили жертвы и просили даровать благополучие, здоровье, хорошую погоду. Известный исследователь мордвы В. Н. Майнов, побывавший на подобной церемонии в с. Палаевка Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне Рузаевский район Республики Мордовия), пишет, что жители селения молили Шкая: «Восходящий, заходящий и вращающийся ши баваз, дай нам дождя, хорошей погоды и тихого ветра» [8, с. 131].
В обрядовой практике мордвы наиболее древними формами использования непосредственно огня являлись костры. Их было принято разжигать во время таких важных событий, как весеннее и осеннее равноденствие, Новый год, Пасха, Крещение, Масленица и т. д. Костры непременно зажигали и во время общественных молянов. Люди верили, что огонь ритуальных костров обладает сакральной силой, в том числе он может благоприятно воздействовать на урожай. Недаром хозяева во время Рождества зажигали от пламени костров свечку, которую приносили в дом. Там они молились над ней о благоприятной погоде и хорошем урожае: «Пусть родится хлеб, пройдет сквозь камень, теплый дождичек его польет, теплый ветер обдует». В древности возник и обычай приношения даров ритуальному огню. Во время обряда его руководители кидали в костер хлеб, мясо, соль, при этом они говорили: «Поднимающийся дым, прими нашу жертву!» [8, с. 429]. Все присутствующие наблюдали, как горят принесенные дары, и по интенсивности горения старались угадать, приняли ли высшие силы их жертву.
Дары подносили не только огню, но и его покровителям ‒ Тол-аве и Тол-ате. В качестве жертвы им обычно предназначались курица или петух красной или коричневой окраски. Обязательной для этих божеств была жертва во время пожаров. Чтобы огонь скорее погас, в пламя кидали яйцо-болтун или яблоко, которое первым срывали на Преображение. Этих же божеств просили вылечить ожоги. Обращаясь к Тол-ате, которого представляли в образе человека в красной одежде или в образе красного петуха, молили:
«Ожог от огня,
Боль от огня
Клювом клюнь,
Лапами смахни,
Ногтями соскреби...» [21, с. 231].
Ритуальные костры считались также надежными оберегами от всяческих бед и несчастий. В пламя крещенских костров, которые разжигали после окончания святочных гуляний, бросали маски, изготавливаемые молодежью для обхода домов своих односельчан. Этот обряд назывался сжиганием масок (харь) ряженых − «пултамо харянь прят». Он символизировал прощание с бедами и несчастьями старого года, а также и с потусторонними силами, которые, по народным поверьям, были наиболее «активны» в период Святок и которых изображали ряженые. Это подтверждают слова, произносимые во время данной церемонии с обращением к детям: «Теперь уж не бойтесь, хари сожгли, их головы в огне»2.
Огонь использовался как охранительная сила и в других обрядах. Например, чтобы защитить новорожденного от потусторонних сил, его держали над костром, который разводили из мусора, собранного на берегу. Считалось, что злые ведуны опасаются этого дыма и не тронут младенца. С целью уберечь себя от соприкосновения со смертью мордва разводила костры во время проведения так называемых «больших» поминок, которые устраиваются через 40 дней после смерти человека. Их разжигали на могиле или во дворе дома покойного, вокруг костров проносили еду, приготовленную для поминальной трапезы, через костры перепрыгивали или обходили их вокруг. Отголоском подобных обрядов можно считать обычаи, которые проводятся во время похоронно-поминальных церемоний в настоящее время, а именно окуривание ладаном или богородской травой помещения, где происходит церемония.
Огонь также выполнял функцию оберега во время первого весеннего выгона скота на пастбище. В это время было принято весь деревенский скот прогонять через специально сделанные земляные валы или овраг, по бокам их обязательно зажигали костры. Полагали, что их пламя, во-первых, очищает животных от болезней, во-вторых, помогает сохранить их от всяческих несчастий во время их нахождения на выпасе. По мере того, как в среде мордовского народа стало укрепляться православие, ритуальные костры стали заменять свечами и иконами [20].
Надо отметить, что специальные ритуальные свечи − штатолы ‒ использовались в обрядности мордвы издревле. Они ассоциировались с образом солнечного божества Шкая-Нишке. Согласно мифологическим воззрениям, именно он преподнес людям первый штатол. Ритуальные свечи считались вечными, так как после каждого использования в них добавляли новую порцию воска, которую хозяева пасек обязательно выделяли для этой цели во время первого сбора меда.
Штатолы были разной формы и величины в зависимости от их предназначения. Обычно они напоминали сахарную голову с плоским верхом. Такая форма была обусловлена способом изготовления свечи в деревянных кадках или берестяных туесах, куда клали воск и уплотняли его пестом. Таким образом, они принимали контуры своей емкости. Также бытовали штатолы в форме спирали, конец которой загибали вверх, чтобы удобней было его зажигать. Подобные свечи удобно было прикреплять к посуде, бревнам избы, косякам дверей и ворот. Гораздо реже использовались штатолы в виде восковой лепешки, в которую при молении втыкали монеты [10; 2].
Самыми большими были общинные свечи, на которые воск жертвовали все жители общинного социума. Полагали, что если кто-то из домохозяев не присоединится к этому, то его семье грозят несчастья. Фитили для подобных свечей изготовляли из нитей, которые тоже приносили хозяева каждого сельского дома. Вследствие этого в общинных штатолах количество фитилей соответствовало количеству крестьянских хозяйств [20]. Ритуальные свечи были также у каждого родственного коллектива (патронимии) и половозрастной группы, члены которых и поставляли воск для их изготовления. Так, на моление взрослых женщин − бабань каша ‒ воск приносили женщины, на девичий праздник в честь Варма-авы − девушки, на моление в честь бога грома (Пурьгине озкс) – молодые парни [9].
К священным свечам относились с большим почтением. Они хранились в особых помещениях, откуда доставались лишь во время ритуальных действий. В обычные дни к ним нельзя было даже прикасаться, чтобы не навлечь несчастий на общину или патронимию. О почитании штатолов свидетельствует тот факт, что во время проведения женских братчин, когда свечи нужно было переместить из одного дома в другой, их не просто переносили на руках, а «перевозили» на своеобразных «лошадях». В качестве них использовали изогнутые палки − алашат, люлямкат [7, с. 358].
В конце XIX в. штатолы стали уходить из быта мордвы, вместо них стали использоваться церковные свечи. Просветитель и исследователь культуры своего народа М. Е. Евсевьев отмечал, что в мордовском селе Волгапино Краснослободского уезда Пензенской губернии (ныне Ковылкинский район Республики Мордовия) в начале XX в. только пять патронимий из одиннадцати смогли сохранить свои старинные штатолы [7].
Штатолы, а позже и церковные свечи, были составной частью ритуалов, которые устраивались с целью обеспечить плодородие полей, плодовитость людей и домашних животных, благополучие семьи. Дело в том, что воск, из которого были изготовлены свечи, являлся продуктом деятельности пчел. Пчелы же в мордовской мифологии были символом плодовитости. Пчелиная Матка (Мекш-ава), согласно преданиям, обитает на так называемом мировом дереве (обычно яблоне), ветви которого упираются в небо, а корни раскиданы по всей земле. Воск из пчелиных сот стекает к корням дерева, а затем распространяется по всей земле, даруя ей плодородие. Именно из этого воска якобы и изготавливались штатолы:
«Яблоня, яблоневое дерево, красивое дерево,
Яблоня, яблоневое дерево, садовое дерево…
Ой, по листьям (ее) воск скатывается…
Воск падает для яркой свечки» [22, с. 13‒114].
Штатолы, вставленные в фонари, носили с собой участники обряда обхода домов в день Рождественского сочельника. Они исполняли ритуальные песни-колядки, в которых желали хозяевам успехов в хозяйственных делах, здоровья и радости всем членам семьи в наступающем году. Если свеча в фонаре по какой-либо причине гасла, это считалось предвестником несчастий как в отдельно взятых семьях, так и в целом крестьянском обществе [1; 20]. Штатолы обязательно использовали на моляне, проводившемся перед началом весенних полевых работ в каждом доме. Хозяева молились о благополучии всех семейных и о хорошем урожае: «Кормилец воск, вот настал твой праздник; все мы собрались к тебе с хлебом-солью; дай нам здоровья и хорошую жизнь. Пусть уродится у нас хлеб и размножится скот» [7, с. 348].
Применяли ритуальные свечи и в обрядах жизненного цикла. Благословляя свою дочь на счастливую замужнюю жизнь, ее отец передавал ей зажженный штатол, с которым она была на венчании. После приезда в дом мужа новые родственницы молодой жены опускали свечу в стакан с пивом, желая новобрачным веселой жизни [1]. Жених во время венчания также держал в руках зажженную свечу, которую затем его отец забирал домой, ее устанавливали в переднем углу, и она горела на протяжении всего свадебного пира [9]. Свечи обязательно зажигали во время моления, устраиваемого на новоселье (од кудонь озкс). Хозяйка перед ними молила богов о благополучии семьи в новом жилище:
«Господи, кормилец, прими нас!
Не пугайся, не сердись.
Юрт-ава с нами,
Здесь теперь будем жить» [23, с. 83].
Определенные ритуальные функции отводились штатолам и в похоронно-поминальной обрядности. Их зажигали во время похорон, чтобы обеспечить умершему человеку благоприятное существование в загробном мире. Свечи или лампадки до настоящего времени оставляют гореть в доме покойного до 40 дней. По народным поверьям, это помогает его душе найти дорогу домой.
Использовали штатолы также в очистительных целях. Ими окуривали гроб перед укладыванием в него тела умершего человека, обводя его три раза в направлении движения солнца. Во время свадебной церемонии с горящей свечой или лучиной стряпухи обходили вокруг пирогов, которые пекли для участников свадебного поезда. Родственницы невесты окуривали дымом сундук с ее приданым [7]. Священные свечи обязательно фигурировали на молениях, которые проводились с целью избавления от моровых болезней. Их несли впереди участников так называемых «опахиваний» селений, которые призваны были создать магическую преграду для эпидемий, наносивших вред людям и домашнему скоту. Чтобы защититься от несчастий, хозяева проносили штатолы вокруг своих домов перед Пасхой.
Поклонение огню проявлялось в традиционной культуре мордвы и посредством почитания печи, которая была центром традиционного жилища. Согласно мифологическим воззрениям мордвы, именно под печью было обиталище покровительницы дома Куд-авы. В связи с этим здесь устраивались ритуалы, которые должны были обеспечить благополучие семье. Например, для того чтобы приобщить новорожденного к семейному коллективу, а также получить для него покровительство божеств дома и семейного очага, повитуха после обмывания младенца клала его на лежанку печи. При этом она молила богов о долгой и счастливой жизни ребенка [23].
Печь фигурировала и в свадебном цикле. Именно у печки невеста выполняла обряд прощания с родным домом. Здесь же подруги и родственницы просватанной девушки передавали поезжанам приданое, которое давали за нее родители. В доме родителей мужа молодушку также вели к печке, где она должна была «познакомиться» с покровителями своего нового дома и очага. При этом приговаривали: «Каштом-ава, матушка! Молодую взяли, будет теперь перед тобой ходить, полюби ее!» [7, с. 285]. Молодая жена должна была поклониться и попросить богиню печи во всем помогать ей. Здесь же невеста брала на руки ребенка, все присутствующие желали молодым супругам завести много детей.
Печь была центром ритуалов, которые знаменовали собой закрепление молодой женщины в семейном коллективе мужа. И. И. Лепехин оставил сведения о том, что до того времени, когда в среде мордвы утвердилось православие, именно возле печки происходило заключение брачного союза: «По входе невесты в дом, дружка, поставя жениха и ее спинами к печи и держа перед ними хлеб и соль, при всем собрании делает им о сохранении супружеского союза вопросы, которые, отвечая ему на оные, клянутся друг другу наивсегдашнею верностью…» [4, с. 172].
Возле печки проводили и так называемый обряд «прикармливания». Его выполняла мать молодого мужа, которая кормила молодушку из своих рук, приговаривая: «Как печь из избы не выходит, так чтобы и ты не выходила». Молодая женщина при этом старалась не двигаться, положив свои руки на шесток печи. После этого действа свекровь надевала на сноху головной убор замужней женщины. Его было принято подавать через дымовое отверстие над печью [9, с. 84‒85]. Таким образом нового члена семьи символически «прикрепляли» к дому, центром которого являлся домашний очаг.
Печь выполняла и функции оберега. До недавнего времени у мордвы сохранялся обычай смотреть в печь после возвращения с похорон. Делали это для того, чтобы обезопасить себя от соприкосновения со смертью. М. Е. Евсевьев пишет, что люди, пришедшие с кладбища, при этом обращались к покровительнице печи со следующими словами: «Каштом-ава матушка, возьми со своим дымом печаль моего сердца»3. У печки проводили и обряды, которые были направлены на защиту домашних животных. Если какое-то из них терялось во время пастьбы, то хозяйка вечером оставляла в печке опрокинутый чугун. При этом она говорила: «Каменный двор сделаю для лошади (или коровы, овцы), железным забором загорожу, чтобы ее волки не съели, чтобы она далеко не ушла». Это повторялось каждый вечер, пока животное не найдется [22, с. 87].
Печь часто использовали в лечебной обрядности. Когда младенец плохо спал, много плакал, то его подносили к печке, предварительно открыв заслонку, и просили Каштом-аву исцелить его:
«Сбереги его, когда он пьет,
Сбереги его, когда он ест,
Сбереги его, когда он спит»4.
При лечении детей от сглаза ведунья клала на шесток определенное количество лыковых отрезков и лучинок, зажигала их и некоторое время держала над дымом этого импровизированного костра больное дитя. При этом она произносила следующие слова: «Кошка (или другое животное), бери хворь ребенка». У многих народов, как и у мордвы, был распространен так называемый обряд «припекания» новорожденного. Его проводили в тех случаях, когда младенец рождался слабым, плохо рос, не мог ходить и т. п. Он мог совершаться по-разному. В одних случаях в теплую печь на капустные листья клали тесто, при этом исполнитель этого действа говорил: «Болезнь припекаю, ребенка ходить пускаю». Могли на хлебной лопате в печь поместить и самого больного ребенка, причем иногда его также обмазывали тестом5.
Магические функции приписывались не только самому пламени, но и углям, золе, тлеющим головням. Они применялись во время очистительных и лечебных обрядов. Так, хорошим лечебным средством считался настой золы, а горячие угли использовались для излечения животных. Для этого хозяйка ночью обходила с горшком горящих углей дом и двор [24].
Зола и угли считались хорошими защитными средствами. Недаром на порог нового дома перед заселением насыпали золу ‒ таким образом старались перекрыть проникновение в избу потусторонних сил. В качестве оберегов зола и угли использовались для отпугивания колдунов, которые могли навредить маленьким детям. Для этого их в течение 40 дней после рождения младенца помещали на подоконники и порог избы. Данные производные огня в качестве защиты от смерти применяли и в похоронной обрядности. Когда гроб с телом умершего поднимали с лавки, чтобы вынести его из дома, на лавку насыпали из горнушки золы [22, с. 89]. После ее старались зарыть в землю, причем в потаенном месте, чтобы на него никто не наступил. Это делалось для предохранения людей от болезни. Участников похорон и поминок нередко заставляли переступать через горшок с углями, чтобы их не коснулось влияние смерти. Вероятно, этот обычай пришел на смену древнему ритуалу – очищению с помощью пламени костров.
Угли в апотропеических целях использовали и в обряде встречи новобрачных в доме жениха. Под ноги молодым бросали плошку с горячими углями, чтобы уберечь их от порчи. Впоследствии магический смысл этого действия был забыт и оно стало одним из увеселительных моментов свадебного цикла. Родственники жениха следили за тем, каким образом невеста отталкивала от себя посуду с углями. По силе удара судили о характере молодушки.
Заключение
В традиционной культуре мордвы имело место обожествление огня, что было тесно связано с солярным культом. Издревле для того, чтобы обеспечить благосклонность этой стихии, ей даровали ритуальную пищу, напитки и др. Так проявлялось преклонение именно перед огненной стихией, а не перед божествами-покровителями.
Почитание огня предопределило его широкое ритуальное применение, которое было довольно разноплановым. Издревле огонь наделялся магической способностью поддерживать плодородие земли и плодовитость людей и животных. Данные убеждения возникли из-за утилитарных свойств золы повышать плодородие полей. В связи с этим утвердились поверья в то, что все составные части пламени имеют благодатную силу. Недаром повсеместно был распространен магический обряд раскидывания по пашне головней от костров, перепрыгивания через их пламя. Широко бытовал также обычай окуривания дымом людей и животных, чтобы обеспечить их здоровье.
Огонь применялся и в очистительных обрядах, когда использовались его обеззараживающие и очищающие свойства. Подобные ритуалы проводили, как правило, перед началом нового времени года, нового хозяйственного цикла, перемен в личной жизни людей. В это время старались очиститься как физически, так и духовно, защитить себя и окружающее пространство от влияния потусторонних сил. При этом нередко проводились реальные действия, как например сжигание старых вещей, мусора.
Кроме того, имели место и иррациональные моменты: уничтожение масок ряженых, ритуальных чучел, человеческих волос. С очистительными обрядами перекликаются лечебные ритуалы. Во время их проведения огонь использовали не только для излечения людей и животных от болезней, но и для попытки прогнать смерть, колдунов и т. п.
Ритуальные функции огня в обрядовой культуре мордвы постепенно трансформируются. К настоящему времени практически не осталось магических ритуалов с пламенем костров и домашним очагом. Их место заняли церковные свечи, которые используются во многих современных обрядах. В тех же случаях, когда на каком-либо празднике жгут костры, это воспринимается не как ритуальное действо, а как зрелищный момент. Редко встречается и обычай окуривания дымом людей, животных, помещений. Изменились и предметы, посредством которых производится это действие. Если традиционно окуривание выполнялось с помощью пучков соломы, факелов, лучин, то сегодня для этого используются ладан или богородская трава.
Исследование обрядовой культуры любого этноса, в том числе и мордвы, имеет большое значение. Изучение локальных традиций дает возможность создать фактологическую базу, которая является основой для углубленного рассмотрения этногенеза народа, а также для реконструкции всей системы культуры этноса. Кроме того, обрядность играет большую роль в сфере консолидации этноса, регулирования устоев народной жизни, что имеет немаловажное значение и в настоящее время. Из практики обрядовой жизни народа можно почерпнуть те ее стороны, которые направлены на воспитание чувства коллективизма, этнической солидарности, толерантности, добрососедства, рационального отношения к экологии, на укрепление семьи.
1 м. – мокшане; э. – эрзяне.
2 РФ НИИ ГН. Описание обычаев, обрядов, свадьбы в мордовских селах (извлечения из архива М. Е. Евсевьева). Л-52. С. 16.
3 РФ НИИ ГН. Описание обычаев, обрядов, свадьбы в мордовских селах (извлечения из архива М. Е. Евсевьева). Л-52. С. 34.
4 ЦГА РМ. Черновые записи М. Е. Евсевьева. Мордовская свадьба записана в селе Подлесная Шентала Самарской губернии. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 42. Л. 41 об.
5 РФ НИИ ГН. Беляева Н. Ф., Корнишина Г. А., Лузгин А. С. Отчет об этнографической экспедиции по Куйбышевской области в 1984 г. И-1125. С. 28.
Об авторах
Галина Альбертовна Корнишина
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
Автор, ответственный за переписку.
Email: G.Kornihina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-5680-5041
Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России
Россия, 430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68Список литературы
- Мельников П. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1981. 136 с.
- Смирнов И. Н. Мордва. Историко-этнографический очерк. Саранск, 2002. 296 с. URL: http://niign.ru/knigi/smirnov-a.-p.-mordva.pdf (дата обращения: 02.01.2024).
- Можаровский А. История образования прихода села Селищ Сергачевского уезда Нижегородской епархии // Нижегородские епархиальные ведомости. 1890. № 20. С. 821‒827. URL: http://nnov.ngounb.ru/node/3429?fragment=page-9 (дата обращения: 02.01.2024).
- Лепехин И. Дневныя Записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства, 1768 и 1769 году. СПб., 1771. 538 с. URL: https://runivers.ru/lib/book7645/428020/ (дата обращения: 02.01.2024).
- Минх А. Н. Моляны и обряды мордвы Саратовской губернии // Этнографическое обозрение. 1892. Т. 15, № 4. С. 116–128. URL: https://archive.org/details/eo-I-IV-1892 (дата обращения: 02.01.2024).
- Paasonen H. Mordowinische Volksdishtung. Helsinki, 1941. Bd. 3.
- Евсевьев М. Е. Историко-этнографические исследования // Избранные труды: в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5. 552 с.
- Harva U. Die Religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 456 s.
- Майнов В. Н. Очерки юридического быта мордвы // Записки РГО. СПб., 1885. Т. 14, вып. 1. 267 с. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/81151 (дата обращения: 05.01.2024).
- Дубасов Н. И. Очерки из истории Тамбовского края. Тамбов, 1890. Вып. 1. 225 с. URL: https://runivers.ru/bookreader/book53190/#page/225/mode/1up (дата обращения: 05.01.2024).
- Макарий К. Суеверия и обычаи мордвы-мокшан Нижегородской губ. // Нижегородские губернские ведомости. 1849. № 49, 50.
- Орлов Д. Н. Село Напольное (этнографический очерк) // Материалы для истории и статистики Симбирской губернии. Симбирск, 1866. Вып. 2. С. 1‒42. URL: https://elib.rgo.ru/handle/123456789/216622 (дата обращения: 05.01.2024).
- Брыжинский В. С. Народный театр мордвы. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1985. 168 с.
- Девяткина Т. П. Мифология мордвы : энциклопедия. Саранск, 2006. 332 с.
- Мокшин Н. Ф., Мокшина Е. Н. Мордва и вера. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 2005. 531 с.
- Юрченкова Н. Г. Мифология мордовского этноса: генезис и трансформации. Саранск, 2009. 411 с. URL: http://www.niign.ru/izdatelskaya-deyatelnost/nauchnyie-izdaniya/seriya-mordovskaya-mifologiya/mifologiya-mordovskogo-etnosa-genezis-i-transformaczii (дата обращения: 05.01.2024).
- Документы и материалы по истории Мордовской АССР. Саранск, 1940. Т. 2. 352 с.
- Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Детский фольклор. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1978. Т. 8. 300 с. URL: http://www.niign.ru/izdatelskaya-deyatelnost/nauchnyie-izdaniya/ustno-noztncheskoe-tvorchestvo-mordovskogo-naroda.-tom-8.-detskij-folklor (дата обращения: 05.01.2024).
- Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. 256 с.
- Mainov W. Lez restes de la mythologie Mordvine // Yournal de la Societe Finno-Ougrienne. Helsingissa, 1889. S. 4‒291. URL: https://archive.org/details/aikakauskirjav5/page/n5/mode/2up (дата обращения: 05.01.2024).
- Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Календарно-обрядовые песни и заговоры. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1981. Т. 7, ч. 3. 304 с. URL: http://www.niign.ru/izdatelskaya-deyatelnost/nauchnyie-izdaniya/ustno-noztncheskoe-tvorchestvo-mordovskogo-naroda.-tom-7-chast-3 (дата обращения: 05.01.2024).
- Корнишина Г. А. Экологические воззрения мордвы (религиозно–обрядовый аспект). Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2008. 157 с.
- Корнишина Г. А. Дом и ритуал в традиционной культуре мордвы // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2012. № 2 (18). С. 80‒85. EDN: PFHZJD
- Мордва Самарского края: история и традиционная культура. Самара, 2021. 327 с. EDN: DEQPYR
Дополнительные файлы