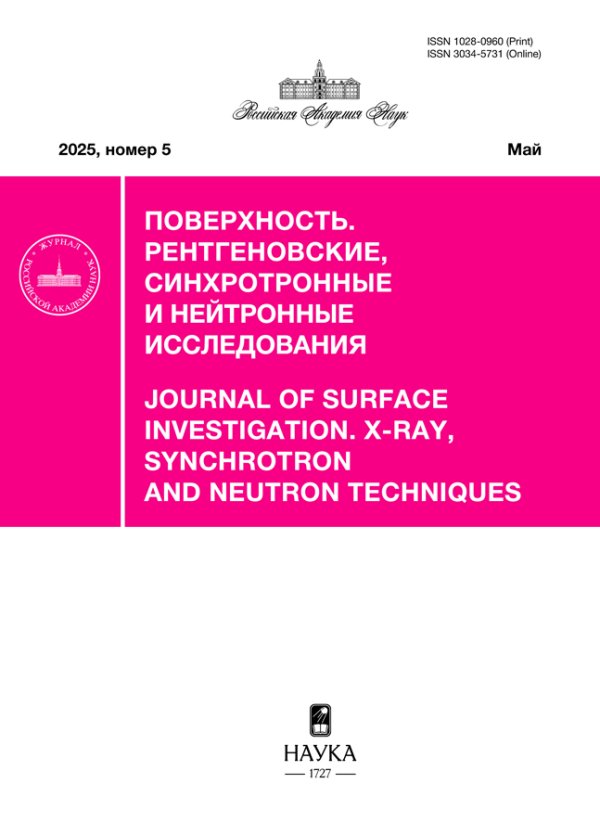Слоистый композиционный материал ниобий–металлокерамика
- Авторы: Камынина О.К.1, Вадченко С.Г.2, Ковалев И.Д.2, Прохоров Д.В.1, Андреев Д.Е.2, Некрасов А.Н.3
-
Учреждения:
- Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН
- Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова РАН
- Институт экспериментальной минералогии им. акад. Д.С. Коржинского РАН
- Выпуск: № 4 (2024)
- Страницы: 81-89
- Раздел: Статьи
- URL: https://bakhtiniada.ru/1028-0960/article/view/261080
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1028096024040113
- EDN: https://elibrary.ru/GILHPM
- ID: 261080
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Слоистые композиционные материалы на основе ниобия и металлокерамики получены методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза из предварительно структурированных образцов с использованием металлических фольг (Ti, Nb, Ta, Ni) и реакционных лент (Ti + 1.7B) и (5Ti + 3Si). Реакционные ленты для синтеза изготавливали прокаткой из порошковых смесей. Морфология, элементный и фазовый составы синтезированных многослойных композиционных материалов были изучены методами растровой электронной микроскопии и рентгенофазового анализа. Отдельное внимание было уделено формированию промежуточных слоев и модификации поверхности, происходящих в процессе горения. Прочностные характеристики синтезированных материалов определяли по схеме трехточечного нагружения при температуре 1100°С. Анализ полученных материалов показал, что соединение в режиме горения металлических фольг и реакционных лент, обеспечивается за счет реакционной диффузии, взаимной пропитки и химических реакций, протекающих в реакционных лентах и на поверхности металлических фольг. Формирование тонких промежуточных слоев в виде металлокерамики и эвтектических растворов обеспечивает синтезированным многослойным материалам хорошие прочностные свойства до 87 МПа при 1100°С. Данные результаты представляют интерес для разработки конструкционных материалов, работающих в экстремальных условиях.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
В связи с быстрым развитием техники требования к высокотемпературным материалам становятся все более жесткими [1, 2]. Для широко используемых в настоящее время сплавов на никелевой основе рабочая температура (1150°С) достигла 85% их температуры плавления [3], поэтому встал вопрос о высокотемпературных материалах нового поколения, способных работать при температурах выше 1200°С. Ниобий и материалы на его основе обладают привлекательными свойствами, такими как высокая температура плавления, прочность при высоких температурах и относительно низкая плотность по сравнению с другими тугоплавкими материалами [1, 2, 4–7].
В настоящей работе исследованы процессы, определяющие формирование слоистых композиционных материалов на основе ниобия в режиме горения (самораспространяющегося высокотемпературного синтеза). Предварительное структурирование слоистых материалов, изменение химического состава, толщины и очередности слоев в образце или покрытии позволяет получать градиентно-слоистую структуру с заданными свойствами в соответствии с требованиями промышленной эксплуатации и часто обеспечивает сложный набор требуемых свойств. Например, уменьшение массы конструкции при сохранении или улучшении термомеханических, механических и коррозионных свойств, таких как прочность, сопротивление усталости, ползучести, окислению [8].
В настоящей работе образцы предварительно структурировали из фольг тугоплавких металлов (Nb, Ti, Ta), выбор титана был обоснован его уникальными свойствами, такими как легкость, пластичность, относительно высокая температура плавления и способностью образовать с ниобием соединения и твердые растворы [9, 10]. При выборе тантала в качестве упрочняющего элемента также учитывали его свойства (высокая температура плавления, коррозионная стойкость, способность работать в агрессивных средах), но основным аргументом в пользу этого выбора были близкие с ниобием физико-химические характеристики [11, 12]. Однако высокая стоимость, редкость и относительно большой вес ниобия и тантала несколько ограничивают их практическое применение. Для решения этой задачи в настоящей работе предложено чередовать слои фольг тугоплавких металлов (Nb, Ti, Ta) со слоями металлокерамики, сформированной в результате горения реакционных лент титан–кремний и титан–бор, прокатанных из порошковых смесей. Мы предполагаем, что слои керамики значительно облегчат вес слоистых материалов на основе тантала и ниобия, сохранят высокотемпературные прочностные характеристики композиционных материалов и повысят коррозионную стойкость тантала и ниобия при высоких температурах [11–13].
Выбор реакционных лент для формирования слоистого композиционного материала основан на результатах предыдущих исследований с учетом температур плавления металлических фольг, температур горения реакционных лент и коэффициентов термического расширения (табл. 1) [12–16]. Никель, характеризующийся наиболее низкой температурой плавления в данном образце, использовали как связующий элемент для формирования слоя металлокерамики [17, 18]. При выборе ленты титан–кремний учитывали, что материалы системы Nb–Si–Ti обладают хорошими прочностными свойствами при высоких температурах и перспективны для применения в конструкционных материалах, работающих в экстремальных условиях [19]. Однако реакционные ленты в структурированных образцах использовали не только для формирования керамического слоя, но и в качестве энергетического элемента [20].
Таблица 1. Температура плавления металлических фольг (Tmp), адиабатическая температура горения реакционных лент (Tad), коэффициенты термического расширения α
Состав | Tmp, °C | Tad, °C | α, ×10–6 °C –1 |
Ti | 1670 | – | 8.6 |
Nb | 2447 | 7.0 | |
Ta | 3017 | – | 6.5 |
Ni | 1453 | – | 13 |
Ti + 1.7B | – | 3180 | 7.4 |
Ti + 0.65C | – | 2380 | 9.6 |
5Ti + 3Si | – | 2130 | 12.5 |
Благодаря реакциям, протекающим в реакционных лентах, реализуется самораспространяющийся высокотемпературный синтез, который энергетически и технологически выгоден для получения материалов и покрытий на основе тугоплавких металлов [21, 22].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе использовали коммерческий порошок Ti (ПТС-1, средний размер частиц d = 40 мкм и чистотой 99%), аморфный бор (чистотой 99.4%), кремний (d < 10 мкм, чистотой 99.4%) и фольги металлов Ti (ВТ-0, толщиной 50 мкм и 180 мкм), Nb (Нб-1, толщиной 100 мкм), Ta (ТВЧ, толщиной 100 мкм) и Ni (НП2М, толщиной 100 мкм).
Реакционные ленты (5Ti + 3Si) и (Ti + 1.7B) толщиной, соответственно, 290 и 230 мкм получали методом холодной прокатки в вальцах из порошковых смесей (состав указан в молярном соотношении) [20]. Для удаления влаги и летучих примесей ленты отжигали в вакуумной печи (10–2 Пa), при температуре 700°С в течение 2 ч.
Исходные образцы размером 45 × 17 × 2.8 мм формировали чередованием металлических фольг и керамических лент (табл. 2).
Таблица 2. Послойный состав структурированных образцов
Номер слоя | Состав слоя | Толщина, мкм |
L1 | Ti + 1.7B | 230 |
L2 | Ti + 1.7B | 230 |
L3 | Ti | 180 |
L4 | Ti | 50 |
L5 | Ta | 100 |
L6 | Ni | 100 |
L7 | Nb | 100 |
L8 | Ti + 1.7B | 230 |
L9 | Ti + 1.7B | 230 |
L10 | Ni | 100 |
L11 | 5Ti + 3Si | 290 |
L12 | Nb | 100 |
L13 | Ni | 100 |
L14 | Ti | 50 |
L15 | Ti | 180 |
L16 | Ti + 1.7B | 230 |
L17 | Ti + 1.7B | 230 |
Синтез проводили в реакционной камере в среде аргона при атмосферном давлении [23]. К образцам (рис. 1), помещенным между нагревательными пластинами, прикладывали нагрузку 3.7 МПа [24]. Образцы предварительно нагревали со скоростью 60°С/мин до температуры 240–260°С, что ниже температуры самовоспламенения. При достижении заданного значения температуры нагреватели отключали. Контроль температуры осуществляли тремя термопарами WR5/WR20, прокатанными до толщины 30–40 мкм, сигнал с которых через аналого-цифровой преобразователь L-780 (L-Card, Россия) записывали в компьютер с частотой 1 кГц. Термопары Т1, Т2 и Т3 располагали на одной плоскости между реакционными лентами Ti + 1.7B и нагревательной пластиной внизу образца (рис. 1). Реакцию инициировали раскаленной вольфрамовой спиралью с торца образца [23].
Рис. 1. Исходный образец, структурированный из фольг тугоплавких металлов и реакционных лент.
Анализ морфологии полученных композиционных материалов и определение химического состава методом рентгеноспектрального анализа выполняли на цифровом растровом микроскопе Tescan Vega II XMU (Tescan, Брно, Чешская Республика), оснащенном энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 450 с полупроводниковым Si(Li) детектором INCA x-sight и волнодисперсионным (волновым) спектрометром INCA Wave 700 (Oxford Instruments, Хай-Викомба, Великобритания). Исследования проводили при ускоряющем напряжении 20 кВ при токе поглощенных электронов на стандарте кобальта (Co) 210 пА, размер электронного зонда – 170 нм, время набора энергодисперсионного спектра – 70 с. Все расчеты химического состава выполняли с помощью пакета программ The Microanalysis Suite Issue 18d+SP3 (INCA Suite ver.4.15). В качестве образцов сравнения химического состава (стандартов) использовали чистые металлы (Ti, Nb и Ta) и кварц (SiO2) – в качестве стандарта на Si. Содержание бора (B) было рассчитано.
Кроме этого на цифровом сканирующем микроскопе LEO 1450 VP (Carl Zeiss, Германия) с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 350 с полупроводниковым Si(Li) детектором INCA x-sight были получены карты распределения характеристического рентгеновского излучения B, Si, Ti, Nb и Ta синтезированного образца (рис. 2).
Рис. 2. Карта распределения элементов синтезированного образца.
Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов проводили на дифрактометре “ДРОН-3М” (НПП “Буревестник”, Санкт-Петербург) с использованием монохроматического CuKα-излучения.
Термомеханические свойства образцов определяли по схеме трехточечного нагружения на модернизированной универсальной испытательной машине Instron-1195 при температуре 1100°C в атмосфере аргона. Скорость нагружения образцов составила 0.5 мм/мин.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных экспериментов были получены легкие прочные образцы композиционных материалов. Основой формирования композиционного материала стали фольги ниобия, тантала, титана и хорошее соединение между ними (ниобий–тантал, ниобий–тантал–никель) и слоями металлокерамики. Исследование морфологии синтезированных образцов, показало, что в результате высокотемпературной диффузии произошло прочное соединение слоев, об этом говорит волнистый характер межслоевых границ, отсутствие пор и трещин (рис. 2). Формирование этих слоев обеспечивается образованием жидкой фазы и диффузионными процессами [23, 25].
При анализе карты распределения элементов по образцу выявлено, что во время синтеза не произошло полное плавление фольг ниобия и тантала, фольги тугоплавких металлов составили основу образца. В то же время во время синтеза полностью расплавилась никелевая фольга и произошла диффузия частиц никеля по образцу. Также можно отметить небольшую диффузию атомов ниобия и тантала; атомы тантала диффундировали на значительно большее расстояние по сравнению с атомами ниобия, различие в скорости диффузии химических двойников ниобия и тантала было отмечено и ранее [26].
Данные рентгенофазового анализа (рис. 3), снятые с боковых поверхностей образцов, хорошо согласуются с данными растровой электронной микроскопии. По результатам РФА в образце присутствуют фазы TiB (орторомбическая структура) и TiB2 (гексагональная структура), фазы металлов титана (гексагональная структура), тантала (объемноцентрированная кубическая структура), ниобия (объемноцентрированная кубическая структура) и небольшое количество силицида титана Ti5Si3 (гексагональная кристаллическая структура). Наличие низшего силицида Ti5Si3 благоприятно сказывается на жаростойкости материала и улучшает свойства материалов при высоких температурах, так как при его образовании объемные изменения меньше, чем при образовании высших силицидов [27].
Рис. 3. Дифрактограмма синтезированного образца.
Известно, что хорошие прочностные характеристики слоистых композиционных материалов и прочность соединения между слоями обеспечивается за счет формирования тонких промежуточных слоев и отсутствия в их составе интерметаллидных фаз [14]. Поэтому особое внимание при формировании слоистого композита было уделено исследованию морфологии слоев и межслоевых соединений.
Исследование морфологии синтезированных образцов показало формирование ровных сплошных соединений между металлическими фольгами (L3–L7, табл. 2), образованных твердыми растворами β-(Ti, Ta), β-(Ni, Ta, Nb) и β-(Ti, Ni) (рис. 4). Формирование β-(Ti, Ta) в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза происходит в результате взаимной диффузии титана и тантала, но при температуре синтеза (>2500°C) коэффициент диффузии титана в пять раз выше, чем коэффициент диффузии тантала, т.е. можно предположить, что в результате синтеза на поверхности титановой фольги происходит частичное плавление, которое способствует диффузии атомов титана на поверхность танталовой фольги [13, 28, 29]. При образовании твердого раствора β-(Ni, Ta, Nb), соединяющего фольги тантала и ниобия (L5–L7, табл. 2), основную роль сыграло полное плавление никелевой фольги, которое способствовало взаимной диффузии тантала, ниобия и никеля. В соответствии с диаграммой состояния ниобий и тантал образуют твердый раствор, а высокие температуры синтеза увеличивают диффузию атомов [30]. Кроме того, Ta, Nb и Ni обладают пластичностью, и образованный твердый раствор позволит уменьшить напряжение на границе раздела и внутреннее напряжение в соединении, тем самым улучшая прочностные характеристики материала [31]. Твердый раствор β-(Ti, Ni), образован в результате диффузии никеля в титан (L3–L4, табл. 2). Можно предположить, что в результате синтеза произошло плавление титановых фольг, что подтверждается волнистой формой промежуточного слоя. В верхней части образца (L1–L2, табл. 2), в результате горения реакционных лент (Ti + 1.7B) сформировался слой металлокерамики: зерна TiB и TiB2 равномерно распределены в расплаве титана. Структура этого слоя идентична слоям образца, в состав которых входили ленты (Ti + 1.7B) (L1–L2, L8–L9, L16–L17, табл. 2), т.е. независимо от расположения реакционных лент в результате синтеза формировалась металлокерамика на основе зерен TiB и TiB2, равномерно распределенных в титановой связке (рис. 4, рис. 5) [32]. Эти данные хорошо согласуются с данными рентгенофазового анализа (рис. 3). При более детальном изучении морфологии нижних слоев образца было обнаружено, что в отличие от слоев L1–L2, L8–L9, где присутствие никеля в β-Ti незначительно, в слоях L16–L17 зерна TiB и TiB2 распределены в твердом растворе β-(Ti, Ni). Наличие никеля объясняется полным плавлением никелевых фольг и активной диффузией атомов никеля, что подтверждается картой распределения элементов (рис. 2).
Рис. 4. Морфология области образца, соответствующей слоям L1–L9 (табл. 2).
Рис. 5. Морфология области образца, соответствующей слоям L9–L17 (табл. 2).
Соединение титановой и ниобиевой фольг (L12–L15, табл. 2) произошло в результате формирования промежуточного слоя, образованного твердым раствором β-(Ti, Nb) (рис. 5) [10]. На границе ниобиевой фольги и слоя металлокерамики (L11–L12, табл. 2), образованной в результате горения реакционной ленты (5Ti + 3Si) сформировался промежуточный слой β-(Nb, Ti)5Si3, который обладает большей пластичностью и более низким коэффициентом термического расширения по сравнению с фазой Nb5Si3 [33] (рис. 5). Плавление никелевой фольги способствовало прямому образованию Ti5Si3 и однородности слоя, кроме этого, связующий эффект Ni для Ti5Si3 способствовал улучшению вязкости всего материала и повышению плотности [34].
При оценке прочностных свойств полученного слоистого композита в процессе испытаний на трехточечный изгиб вели запись вели запись нагрузки – прогиба образца (рис. 6). На кривой видно, что до 73 ± 10 МПа происходит упругая деформация, предел прочности достигается при 87 ± 10 МПа, далее имеет место вязкий характер разрушения образца. Однако не происходит полного разрушения образца: фольги металлов (Ta, Nb) обладают высокой пластичностью, а промежуточные слои, сформированные твердыми растворами, снижают концентрацию термических напряжений. Трещина распространяется по керамике, вдоль направления нагрузки. Следует отметить, что рассеяние энергии происходит в основном образованием магистральных трещин в слоях керамики, которые эффективно затормаживаются в вязких слоях твердого раствора и фольг чистого металла (рис. 6). Практически полное отсутствие трещин вдоль слоев указывает на высокую адгезию образовавшихся соединений с соседними слоями. Значения прочностных характеристик полученных образцов выше, чем прочностные свойства слоистых композиционных материалов, полученных в работе [13].
Рис. 6. Диаграмма разрушения при 1100°С (а) и морфология образца после испытаний на трехточечный изгиб (б).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе горения реакционных лент (Ti + 1.7B, 5Ti + 3Si), образуются прочные соединения между сформировавшимися слоями металлокерамики и металлическими фольгами (Ti, Nb, Ta, Ni), что позволяет конструировать на их основе материалы с заданной структурой, пористостью и прочностными характеристиками. Использование реакционной ленты на основе титан–кремний позволяет получать многослойные композиционные материалы на основе ниобия и тантала с хорошими термомеханическими характеристиками, прочность на трехточечный изгиб которых достигает 87 МПа при 1100°С.
Анализ морфологии синтезированных образцов показал, что соединение в режиме горения между металлическими фольгами и керамическими слоями, прокатанными из порошковых смесей, обеспечивается за счет реакционной диффузии, взаимной пропитки и химических реакций, протекающих в реакционных лентах и на поверхности металлических фольг. Формирование тонких межслоевых соединений на основе твердых растворов обеспечивает прочное соединение между слоями образца, повышает вязкость материала, снижает уровень внутреннего напряжения и уменьшает разницу коэффициентов термического расширения, тем самым повышая высокотемпературные характеристики слоистого композита.
Прочностные характеристики слоистых композиционных материалов на основе ниобия могут быть увеличены за счет оптимизации соотношения толщин слоев тугоплавких металлов и металлокерамики, сформировавшейся в результате горения реакционных лент.
Конфликт интересов. Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Об авторах
О. К. Камынина
Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: kamynolya@gmail.com
Россия, 142432, Черноголовка
С. Г. Вадченко
Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова РАН
Email: kamynolya@gmail.com
Россия, 142432, Черноголовка
И. Д. Ковалев
Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова РАН
Email: kamynolya@gmail.com
Россия, 142432, Черноголовка
Д. В. Прохоров
Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН
Email: kamynolya@gmail.com
Россия, 142432, Черноголовка
Д. Е. Андреев
Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова РАН
Email: kamynolya@gmail.com
Россия, 142432, Черноголовка
А. Н. Некрасов
Институт экспериментальной минералогии им. акад. Д.С. Коржинского РАН
Email: kamynolya@gmail.com
Россия, 142432, Черноголовка
Список литературы
- Zhao J.C., Westbrook J.H. // MRS Bull. 2003. V. 28. P. 622. https://doi.org/10.1557/mrs2003.189
- Kong B., Jia L., Zhang H., Sha J., Shi S., Guan K. // Int. J. Refractory Metals Hard Mater. 2016. V. 58. P. 84. https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2016.04.004
- Pierre C., Tasadduq Kh. // Aerospace Sci. Technol. 1999. V. 3. № 8. P. 513. https://doi.org/10.1016/S1270-9638(99)00108-X
- Kiiko V.M., Korzhov V.P., Kurlov V.N., Khvostunkov K.A. // J. Surf. Invest.: X-ray, Synchrotron Neutron Tech. 2020. V. 14. № 6. P. 1126. https://www.doi.org/10.1134/S1027451020060075
- Tsakiropoulos P. // Prog. Mater. Sci. 2022. V. 123. P. 100714. https://www.doi.org/10.1016/j.pmatsci.2020.100714
- Deardo A.J. // Int. Mater. Rev. 2003. V. 48. № 6. P. 371. https://doi.org/10.1179/095066003225008833
- Zheng X., Bai R., Cai X., Bai R., Xia M.,Wang F., Liu H., Wang H. // Mater. China. 2014. V. 33. № 9. P. 586. https://www.doi.org/10.7502/j.issn.1674-3962.2014.09.07
- Le V.T., Ha N.S., Goo N.S. // Composites B. 2021. V. 226. P. 109301. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2021.109301
- Saurabh A., Meghana Ch.M., Singh P.K., Verma P.Ch. // Materials Today: Proc. 2022. V. 56. P. 412. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.01.268
- Wang J.C., Liu Y.J., Qin P, Liang S.X., Sercombe T.B., Zhang L.C. // Mater. Sci. Engineering A. 2019. V. 760. P. 214. https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.06.001
- Gramberg U., Renner M., Diekmann H. // Mater. Corrosion. 1995. V. 46. № 12. P. 689. https://doi.org/10.1002/maco.19950461206
- Li Sh., Xiao L., Liu S., Zhang Y., Xu J., Zhou X., Zhao G., Cai Zh., Zhao X. // J. Europ. Ceram. Soc. 2022. V. 42. P. 4866. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.05.009
- Cai X., Wang D., Wang Y., Yang Zh. // J. Manufacturing Processes. 2021. V. 64. P. 1349. https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2021.02.057
- Wunderlich W. // Metals. 2014. V. 4. P. 410. https://www.doi.org/10.3390/met4030410
- Kamynina O.K., Vadchenko S.G., Shchukin A.S., Kovalev I.D. // Int. J. Self-Propag. High-Temp. Synth. 2016. V. 25. P. 238. https://doi.org/10.3103/S106138621604004X
- Kamynina O.K., Vadchenko S.G., Shchukin A.S. // Russ. J. Non-Ferr. Met. 2019. V. 60. P. 422. https://doi.org/10.3103/S1067821219040035
- Ye Y., Mu D. // // J. Europ. Ceram. Soc. 2014. V. 34. № 10. P. 2177. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2014.02.018
- Pei X.-J., Huang J.-H., Zhang J.-G., Wei Sh., Lin G.-B., Liu H.-Y. // Mater. Lett. 2006. V. 60. P. 2240. https://www.doi.org/10.1016/j.matlet.2005.12.138
- Reyes D., Malard V., Drawin S., Couret A., Moncho- ux J.-P. // Intermetallics. 2022. V. 144. P. 107509. https://www.doi.org/10.1016/j.intermet.2022.107509
- Vadchenko S.G. // Combust. Explos. Shock Waves. 2019. V. 55. P. 177. https://doi.org/10.1134/S0010508219020060
- Marchenko E., Yasenchuk Yu., Baigonakova G., Gun-ther S., Yuzhakov M., Zenkin S., Potekaev A., Dubovi-kov K. // Surf. Coat. Technol. 2020. V. 388. P. 125543. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.125543
- Vorotilo S., Potanin A.Y., Iatsyuk I.V., Levashov E.A. // Adv. Eng. Mater. 2018. V. 20. P. 1800200. https://doi.org/10.1002/adem.201800200
- Kamynina O.K., Vadchenko S.G., Shkodich N.F., Kovalev I.D. // Metals. 2022. V. 12. № 1. P. 38. https://doi.org/10.3390/met12010038
- Vadchenko S.G., Suvorov D.S., Kamynina O.K., Mukhina N.I. // Combust. Explos. Shock Waves. 2021. V. 57. № 6. P. 672. https://doi.org/10.1134/S0010508221060058
- Liu R., Hou X.S., Yang S.Y., Chen C., Mao Y.R., Wang S., Zhong Z.H., Zhang Z., Lu P., Wu Y.C. // Materials Characterization. 2021. V. 172. P. 110875. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2021.110875
- Dohmen R., Marschall H.R., Ludwig Th., Polednia J. // Phys. Chem. Minerals. 2019. V. 46. P. 311. https://doi.org/10.1007/s00269-018-1005-7
- Li Sh., Xiao L., Liu S., Zhang Ya., Xu J., Zhou X., Zhao G., Cai Zh., Zhao X. // J. Europ. Ceram. Soc. 2022. V. 42. № 12. P. 4866. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.05.009
- Ansel D., Thibon I., Boliveau M., Debuigne J. // Acta Materialia. 1998. V. 46. № 2. P. 423. https://doi.org/10.1016/S1359-6454(97)00272-3
- Liu Y., Li K., Wu H., Song M., Wang W., Li N., Tang H. // J. Mechanical Behavior Biomed. Mater. 2015. V. 51. P. 302. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2015.07.004
- Krishan R., Garg S.P., Krishnamurthy N., Paul E. // Phase Diagrams of Binary Tantalum Alloys. Indian Institute of Metals, Calcutta, India, 1996. P. 118.
- Zhang Y., Zhou J.P., Sun D.Q., Li H.M. // J. Mater. Res. Technol. 2020. V. 9. № 2. P. 1780. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.12.009
- Tang B., Tan Y., Xu T., Sun Z., Li X. // Coatings. 2020. V. 10. № 9. P. 813. https://doi.org/10.3390/coatings10090813
- Ioannis P., Claire U., Panos 0T. // Sci Technol Adv Mater. 2017. V. 18. № 1. P. 467. https://www.doi.org/10.1080/14686996.2017.1341802
- Yang Y., Mu D. // J. Europ. Ceram. Soc. 2014. V. 34. № 10. P. 2177. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2014.02.018
Дополнительные файлы