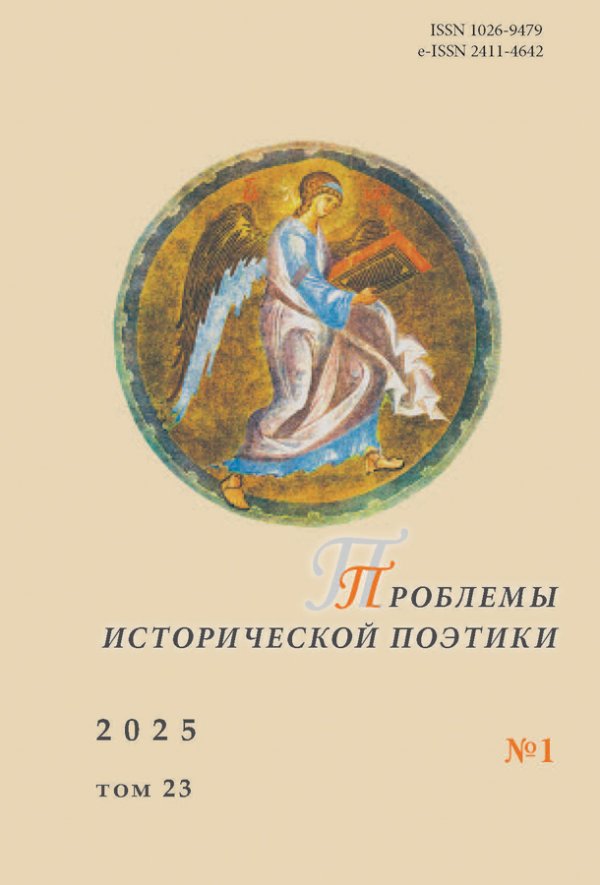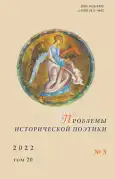Медицинский текст в фельетонной критике конца XIX — начала XX в.
- Авторы: Александров А.С.1
-
Учреждения:
- Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
- Выпуск: Том 20, № 3 (2022)
- Страницы: 153-168
- Раздел: Статьи
- URL: https://bakhtiniada.ru/1026-9479/article/view/283469
- DOI: https://doi.org/10.15393/j9.art.2022.11282
- EDN: https://elibrary.ru/ITJVLE
- ID: 283469
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена поэтике литературно-критического текста. Предметом изучения послужила фельетонная критика — одно из ведущих направлений в литературной критике начала XX в. В анализе статей А. А. Измайлова и К. И. Чуковского рассмотрены причины, по которым медицинский дискурс становится частью литературной критики, те изменения, которые происходили в художественной словесности на рубеже XIX–XX вв.: появление новых литературных течений и направлений, эксперименты в области языка, поиски новых форм, приемов поэтики произведения и мн. др. процессы, связанные с модернизацией литературного поля. Художественная литература в это время стала во многом источником приращения языка литературной критики, триггером, запустившим механизм насыщения языка рецензий и фельетонов медицинской терминологией, сделавшей медицинский дискурс частью анализа современной литературы. В исследовании прослежены примеры применения медицинской терминологии в литературной критике, рассмотрены комические приемы, в которых медицинская терминология играет ключевую роль. Проанализированы рецензии, в которых выявлено резко саркастическое отношение критиков к откровенным проявлениям натурализма. В работе выявлена эволюция взглядов критиковфельетонистов на медицинский дискурс, в результате которой оказался возможен серьезный диалог медицины и литературы, а медицинский дискурс стал частью поэтики рецензий и откликов на художественные произведения.
Полный текст
В № 46 журнала «Сатирикон» за 1910 г. был опубликован шарж «Лекция об Андрееве» известного графика и театрального художника Н. В. Ремизова, выступавшего в периодической печати под псевдонимом Ре-Ми. На этой шуточной карикатуре изображен Леонид Андреев, лежащий на хирургическом столе, в окружении известных критиков начала XX в. Главная роль в этом изображении принадлежит К. Чуковскому — он держит сердце писателя; очевидно, такой приоритет связан с только что вышедшим его монографическим очерком
«Леонид Андреев большой и маленький» (1908). На переднем плане сидит В. Ф. Боцяновский, заведующий литературнокритическим отделом газеты «Русь», также изображены критики К. И. Арабажин и А. А. Измайлов. В шарже высмеивается повышенное внимание рецензентов к творчеству «модного» писателя, популярность которого к 1910 г. достигла своей наивысшей точки. Работа литературных критиков здесь метафорически сопоставляется с работой врача, в самом широком смысле слова, вынужденного в рамках своей профессии проводить анамнез, ставить диагноз, лечить и осуществлять хирургическое вмешательство, а также выписывать рецепты для последующего лечения. Подобное сопоставление литературных критиков с лекарями связано с тем, что в конце XIX — начале XX в. происходило активное насыщение литературнокритического дискурса медицинской терминологией в откликах, рецензиях и обзорных статьях на литературные произведения. Наиболее ярко эта тенденция прослеживается в фельетонной критике [Александрова, Александров], [Александров, 2021b], которая была тесно связана с массовой периодической печатью.
Причин подобных направлений, наметившихся в литературном процессе, было несколько.
Отчасти это связано с теми бурными изменениями, которые происходили в литературе на рубеже XIX–XX вв.: появлением новых течений и направлений в литературе, экспериментами в области языка, поисками новых художественных форм и многими др. процессами, связанными с модернизацией литературного поля. А. А. Измайлов отмечал: «Бывают времена, когда ценность литературной критики понижается почти до нуля. Критику почти нечего делать, когда в литературе царственно властвуют отвоеванные понятия. В эпоху безраздельного господства реализма критика действительно рисковала топтаться на месте, толковать ясное, пересказывать писателя своими словами, как Орест Миллер, или естественно переливаться в публицистику Добролюбова или Михайловского. Но бывают времена революций и бунта, бурь и кораблекрушений, времена переломов и кризисов, когда все господствующие литературные понятия подвергаются пересмотру, колеблются самые основы, меняются формы, новое притязает на полное низвержение вчерашнего» [Измайлов, 1910: III–IV]. Смена художественных парадигм на рубеже веков отразилась и на литературной критике, вынужденной приспосабливаться к происходящим процессам, т. к. языковой инструментарий в этой сфере не был еще готов к столь бурным переменам в художественной литературе: «Мы еще только ищем терминов, еще нащупываем определения. Мы еще пользуемся услугами неуклюжих, лишенных гибкости, косолапых слов, и еще не уверены и дрожат наши ищущие руки» [Измайлов, 1910: 217–218]. Источником приращения языка литературной критики становится в том числе медицина, а триггером, запустившим механизм насыщения языка литературной критики медицинской терминологией, сделавшей медицинский дискурс частью анализа современной литературы, — сама словесность, в которой активно тематизировались на рубеже XIX–XX вв. всевозможные патологии.
Психические, хронические невротические заболевания — психозы, неврозы, эпилепсия, лунатизм, шизофрении, паранойи («Мелкий бес», «Жало смерти», «Тени» и др. произведения Ф. Сологуба, «Черные маски», «Проклятие зверя» Л. Андреева и мн. др.); болезни, вызванные социальными проблемами, — туберкулез, венерические заболевания, алкоголизм («Лесная топь» С. Н. Сергеева-Ценского, «Счастье» М. П. Арцыбашева и др.); инфекционные заболевания, сопровождающиеся нарушениями сознания на фоне сильной лихорадки и интоксикации, — тиф, или «гнилая горячка» и «нервная горячка», и прочие всевозможные лихорадки («Лихорадка» А. Н. Толстого); патологическое пристрастие к употреблению опиоидов — морфинизм («Без дороги» В. В. Вересаева), не говоря уже о безобидной инфлюэнце — всеми этими диагнозами, подчас с натуралистичными описаниями хода болезни, переполнено отечественное литературное пространство рубежа веков.
Красноречиво об этих процессах в художественной литературе высказался М. Горький в письме к Е. Н. Чирикову от 20 марта (2 апреля) 1907 г.: «…на литературу наступают различные параноики, садисты, педерасты и разного рода психопатологические личности, вроде Каменского, Арцыбашева и К˚. Чувствуется хаос духовный, смятение [идей] мысли, болезненная, нервозная торопливость. Исчезает простота языка и с нею — сила его»1. В литературной критике конца 1890-х — начала 1900-х гг. отчетливо прослеживается негативное отношение к чрезмерному натурализму рассказов с медицинской проблематикой, что проявилось в журналистике в различных комических формах и приемах. Например, это были разного рода карикатуры, рецензии и заметки с эпатажными заглавиями.
Для отечественной литературы конца XIX — начала XX в. стало нормой начало рассказа, подобное тому, которое предложил отечественный прозаик и драматург М. П. Арцыбашев в рассказе «Счастье»: «С тех пор, как у проститутки Сашки провалился нос и ее когда-то красивое и задорное лицо стало похоже на гнилой череп, жизнь ее утратила все, что можно было назвать жизнью»2 и т. д.
Художественные произведения наполнились реальными и потенциальными пациентами, «мраморными столами клиник», описанием кабинетов дерматологов, подробными описаниями хода болезней и пр. Как отмечал Измайлов, «страшные призраки гнусных болезней, высунувшись из углов калинкинских больниц и кабинетов дерматологов, силились обнять отвратительными объятиями гнойных рук русского литератора и с омерзительным кокетством кривили рот в улыбку, показывая зубы, едва держащиеся в источенных гниением деснах. Одевайте перчатки, когда вы собираетесь читать произведения, какие написал талант в союзе с медиками и сифилидологами!» [Измайлов, 1910: 102]. Далее критик в привычной ему фельетонной манере, обратившись к анализу пьесы Эжена Бриё «Потерпевшие. Медицинская пьеса в 3-х д.» (или еще один вариант перевода — «Порченные»), где показаны гибельные последствия распространения сифилиса, задавался вопросом: «Чем удивить теперь привычного читателя? Перед ним раскрывали крыши больниц для наружных болезней и направляли его внимание на больных экземой, сикозисом и волчанкой. Ему показывали со сцены хлороформирование и oпeрации с реально воспроизведенным артисткой лепетом наркотическаго бреда. Бриё познакомил его с психологией людей, страдающих болезнью, которую не принято называть в обществе, и в его пьесах он видел как красноречивые иллюстрации персонажей без речей, проходивших по задней стороне подмостков с перевязкою, закрывающею нос. Так называемая сумасшедшая рубашка посейчас фигурирует в одной модной пьесе на сцене, вызывая в ложах истерики нервных дам. Людей психического распада беллетристы фотографировали в момент начинающегося перехода их за грань нормальности и подробно следили за ростом их навязчивой идеи, вплоть до разрешения ее в крови или смерти» [Измайлов, 1910: 168].
«Фельетонная» критика сделала медицинский дискурс частью разговора о литературе. Наиболее ярко эта тенденция прослеживается в статьях Чуковского, который процессы обогащения языка литературной критики связал в первую очередь с влиянием города: «Наша литература теперь есть литература катастроф, отчаянья, ужаса, смерти, у каждого мальчишки теперь в душе апокалипсис…»3.
А. А. Измайлов вводит понятие «патологическая беллетристика», пишет статьи на эту тему. В своей книге «Помрачение божков и новые кумиры», посвященной современным тенденциям в литературе, критик помещает отдельную главу «У стола клиники. (Патологическая беллетристика)», где делает ряд важных замечаний и полемизирует с М. Нордау, предлагая взглянуть на тенденции в литературе с точки зрения не «вырождения», а неврастении: «На нашей памяти умный и злой парадоксалист подвел всю мировую жизнь под термин “вырождения”. Несравнимо более оказался бы прав тот, кто взглянул бы на новое искусство и новую жизнь с точки зрения простой неврастении» [Измайлов, 1910: 125]. И далее: «На фоне современного невроза расцветают прихотливые цветы. Болезненные и больные настроения писателей вдохновляют их на романы и драмы» [Измайлов, 1910: 167].
Еще один важный источник обогащения критического текста медицинской терминологией — работы зарубежных врачей-практиков, получившие большое распространение и популярность в России. Это прежде всего работы И. Мюллера (1801–1858), немецкого физиолога, проповедника здорового образа жизни, считавшего, что физиологическое здоровье определяет психическое; итальянского психиатра Ч. Ломброзо (1836–1909), работа которого «Гениальность и помешательство» (СПб., 1892) многократно переиздавалась в России и пользовалась большой популярностью; работы врача-психиатра М. Нордау, главным образом, его книга «Вырождение»4, а также труды немецкого естествоиспытателя, последователя Ч. Дарвина, Э. Г. Геккеля (1834–1919).
Отметим также исследования отечественных врачей-практиков, активно применяемые в рецензиях литературными критиками. Наиболее известными были книги Н. Н. Баженова (1857–1923) «Психиатрические беседы на литературные и общественные темы» (1903), «Символисты и декаденты: Психиатр<ический> этюд» (1899), В. Ф. Чижа (1855–1922), издавшего патографию Гоголя «Болезнь Н. В. Гоголя» (1904)5. Труд С. С. Корсакова (1854–1900) «Курс психиатрии» (1893), имевшийся в библиотеке А. П. Чехова, позволил М. С. Свифту проследить в образе главной героини рассказа «Душечка» симптомы психопатии [Свифт]. Упомянем работы В. М. Бехтерева, в том числе его многочисленные публикации в газете «Биржевые ведомости».
Общей психиатрии и медицине в целом, а также связи литературы и медицины посвящались многочисленные публичные лекции, отдельные печатные выступления как практикующих врачей, так и дилетантов на темы медицины, психиатрии и литературы.
Личный опыт литераторов также имел большое значение, так как он становился предметом обсуждения в информационном пространстве и изображения в художественной литературе. На рубеже веков понятия врачебной тайны и сопутствующие ей этические нормы практически не действовали. Различные физические недуги писателей подробно муссировались в прессе и специальной литературе. Ранее мы подробно рассматривали, как здоровье Л. Н. Толстого становилось информационным поводом [Александров, 2014, 2021a]. Психическое состояние В. Гаршина оказалось объектом пристального изучения в книге Н. Баженова «Психологические беседы на литературные и общественные темы» (см. главу «Душевная драма Гаршина») [Баженов]. Это исследование оказалось предметом подробного разбора в обстоятельной статье К. Чуковского «О Всеволоде Гаршине: (Введение в характеристику)» (Чуковский, т. 7: 281–302).
Однако отмеченные «больные» темы, наводнившие русскую литературу, не всегда были связаны с пережитым личным опытом авторов. Показателен в этом отношении случай, произошедший с Л. Андреевым в 1903 г. после выхода его рассказа «Мысль», о котором прозаик писал своему эпистолярному собеседнику: «Кстати: я ни аза не смыслю в психиатрии и ничего не читал для “Мысли”»6. Тем не менее в феврале 1903 г. в «Биржевых ведомостях» сообщалось о докладе доктора И. И. Иванова «Леонид Андреев как художник-психопатолог (о “Мысли”)», зачитанном 18 февраля 1903 г. на заседании Общества нормальной и патологической психологии.
В докладе утверждалось, что автор «Мысли» сам лечился от психического заболевания, и высказывалось предположение о том, что рассказ написан по опыту пребывания автора в психиатрической клинике. Андреев в свою очередь опубликовал открытое письмо, в котором указывал на фактическую ошибку в докладе врача-психиатра (по его словам, он проходил курс лечения, связанный с заболеванием сердца вследствие переутомления) и на недопустимость утверждения связи сюжетов литературных произведений с личной жизнью их авторов. Иванов в ответном письме7 принес извинения Андрееву, объяснив, что был введен в заблуждение сообщениями прессы. Показательная история могла произойти по двум причинам: во-первых, из-за сильного впечатления, произведенного рассказом писателя, а во-вторых, из-за циркулировавших в прессе слухах о проблемах психического характера, испытываемых Андреевым. Подчеркнем, что подобные слухи курсировали в прессе на протяжении всей жизни писателя.
Медицинская терминология, особенно связанная с клинической психологией и психиатрией, становится важным инструментом высмеивания и выражения отрицательного отношения к разного рода новшествам в литературе, выступая как комический прием [Крылов]. Яркий тому пример — отклики на произведения Л. Андреева («обезьянья ласка русского общественного мнения» (Чуковский, т. 6: 214)), из заглавий которых Чуковский составил целый словарь нелестных эпитетов (Чуковский, т. 6: 214–216). В него были включены следующие показательные названия: «Дегенерация творческая», «Микстура», «Помутившийся разум», «Поток патологической и порнографической беллетристики», «Припадок психопатической болезни», «Сумасшедшее творенье», «Сумасшедший бред» и т. д.
Комические приемы в литературной критике находили выражения и в разного рода игровых стратегиях. Как отмечает В. Н. Крылов, «игровой вариант творческого поведения предполагает не только само собой разумеющееся соблюдение критиком ряда условностей, задаваемых культурой <…>, а сознательную ориентацию на игровое поведение, проявляющееся в ироническом остранении, в феномене различных масок, игре псевдонимов…» [Крылов: 441–442]. Так, к примеру, в вечернем выпуске газеты «Биржевые ведомости» за 12 февраля 1909 г. было опубликовано «Письмо в редакцию» (под заглавием «100 рублей за объяснение»), подписанное профессором медицины П. И. Дьяконовым: «Прочитывая стихи большинства современных русских поэтов, я часто не могу уловить в них здравого смысла, и они производят на меня впечатление бреда больного человека <…>. Я обращался за разъяснением этих стихов-загадок ко многим литераторам и простым смертным людям, но никто не мог мне объяснить их, и я готов был прийти к заключению, что эти непонятные стихи действительно лишены всякого смысла и являются плодами больного рассудка <…>. Этим письмом я предлагаю всякому, — в том числе автору, — уплатить 100 рублей за перевод на общепонятный язык стихов Александра Блока “Ты так светла…”»8.
Поэтические строки:
«Ты так светла, как снег невинный.
Ты так бела, как дальний храм.
Не верю этой ночи длинной
И безысходным вечерам»
— вызывают у автора письма вопросы: «Кого автор подразумевает под той, которая светла, как снег невинный? Почему она бела, как храм далекий? Ведь храмы, как дальние, так и близкие, бывают разных цветов: и серые, и желтые, и красные… Эти два сравнения дают представление скорее о холоде (снега) и вышине (храма), чем о светлости и белизне. Почему поэт не верит этой ночи, и почему эта ночь длинная?‥»9 и т. д.
Заметка Дьяконова вызвала резонанс в прессе. Отдельные факты10 позволили нам предположить, что под маской профессора скрывался известный литературный критик А. А. Измайлов. Показательно, что в качестве нарративной маски он выбрал имя реального профессора медицины П. И. Дьяконова, от лица которого было опубликовано пресловутое «письмо в редакцию». Петр Иванович Дьяконов — известный хирург, ученый, профессор Московского университета. В 1891–1895 гг. совместно с Н. В. Склифосовским основал и редактировал журнал «Хирургическая летопись». В 1897 г. вместе с А. П. Чеховым начал издание журнала «Хирургия», редактором которого оставался до конца жизни.
Выступление критика под маской профессора медицины не случайно. Измайлов неоднократно заявлял в своих статьях, что современная литература есть «клиническая литература». В статье с показательным заглавием «Неврастенический век и неврастеническая литература» автор пишет: «В своей парадоксальной книге Нордау назвал современный век веком вырождения. Медицинский термин — вот разгадка современных настроений, современного искусства и литературы» [Измайлов, 1907: 3]. В откликах на драматические произведения Блока критик неоднократно вменял ему расстройство ума, о чем впоследствии вспоминал без сожаления: «Иногда, как в “Балаганчике” и драме “Незнакомка”, он так жестоко порывал со здравым смыслом, что становился вне критики, и я не сожалею о тех злых словах, какие не раз мне приходилось говорить о Блоке по поводу этих вещей» [Измайлов, 1910: 221]. Отношение к новому искусству — поэтике «смутного, неопределенного» — как к продукту «больной психики» было характерным для писателей позитивистской направленности. Например, как отмечает Н. Ю. Грякалова, в публицистике А. В. Амфитеатрова «медицинскую оценку получили почти все писатели-модернисты, ставшие свидетелями мутации позитивистской эпистемы и отразившие этот процесс как на уровне разрабатываемых ими литературных стратегий, так и избираемых моделей жизненного поведения» [Грякалова: 55]. Наряду со статьями негативного, пародийного характера, где медицинский текст выступал в качестве усилителя комического эффекта, информационное поле было наполнено рецензиями и фельетонами, в которых медицинский дискурс был частью серьезного разговора о литературе. Такие примеры в литературной критике встречаются не только в рецензиях на произведения, в которых речь идет о всевозможных болезнях, а действующими лицами являются врачи и пациенты. Например, с помощью специальной терминологии литературные критики метафорически пытались актуализировать произведения современников.
Показательна в этом отношении статья К. И. Чуковского «Утешеньишко людишкам», посвященная «проклятым» вопросам русского общества: бедности, несправедливости жизни — «вечной теме» произведений Горького. В фокусе критика — «Детство», «На дне», рассказы 1912–1915 гг., вошедшие в сборник «По Руси», которые он сравнивает с «лечебником», усиливая анализ названных произведений проекцией на медицинскую ситуацию, при этом сам критический текст густо насыщается медицинской терминологией:
«С детства его так ошарашили человеческие раны и боли, что он чувствует их, как свои. Хоть как-нибудь облегчить, залечить! — только об этом и думает. Это стало его помешательством. Род человеческий болен, весь в язвах и омерзительных струпьях, а Горький, — лекарь, лечитель, целитель, — придумывает рецепт за рецептом и торопит, посылает в аптеку: скорее! иначе — беда!
Его книги — лечебники, собрание рецептов; недаром в его публицистике столько лекарских докторских слов:
- Общественная гигиена…
- Духовное оздоровление общества…
- Нездоровые нервы общества…
- Зараза…
- Болезни национальной психики.
- Болезни, воспитанные в русском человеке… Таковы его ежеминутные термины.
Нужно вылечить, оздоровить людей: ведь они красавцы, таланты, святые! Уничтожьте нарывы, прыщи, покрывающие атлетическое тело народа, и вы увидите, как оно дивно-прекрасно. Оно и сейчас восхитительное, но запаршивело от маятной жизни: ему нужны фельдшера, санитары.
Горький один из таких: все свои идеи, доктрины всегда превращал в лекарства. Прописывал их пациенту, как порошки или мази. То пропишет анархизм, то — марксизм; то — ницшеанство, а то — коммунизм, но всегда убежден фанатически, что его последний рецепт — самый лучший: что он-то и спасет пациента. И все его герои — вместе с ним — охвачены единственной мечтой: как бы излечить, исцелить. Они такие же врачи, как и он. Прочтите его книжку “По Руси”, вышедшую одновременно с “Детством”, там у каждого свой собственный рецепт и свой собственный метод лечения. <…> И каждый в одиночку из жалости выдумывает какую-нибудь свою панацею — свои припарки, примочки, чтобы залечить эти кровоточащие язвы или хоть на минуту анестезировать боль. Такие самозваные лекари маятно-живущих людей Горькому родственно-милы. Пусть их лекарства смешны и беспомощны…» (Чуковский, т. 7: 635–636).
В этом отрывке Чуковский демонстрирует блистательное владение медицинской терминологией, а представленный отзыв является ярким примером разъяснения идеи художественного произведения языком врачебного искусства.
Измайлову, например, «медицинский текст» помогает акцентировать внимание читателя на «шаблонности» «прикладных рассказов на темы революции», наводнивших редакции газет и журналов после событий 1905 г. Указывая на эту тенденцию в литературном процессе, критик отмечал: «В этих повестях и драмах “на заказ” и “на вырез” все совсем поаптечному: Прописан рецепт, указаны порции, mixtur, detur, signatur! За доктора — литературный фельдшер такой-то…» [Измайлов, 1910: 59].
Литературные критики, держа руку на пульсе и следя за новинками литературы, оказались вынуждены погрузиться в нюансы физиологии и клинической психологии, психиатрии, невольно став частью медицинского текста русской литературы, представленного столь широко и разнообразно в отечественной словесности в конце XIX — начале XX в. Критики, поначалу относясь в большинстве своем с недоверием к откровенным проявлениям натурализма, выразившимся в подробном описании всевозможных болезней и реагируя на такие произведения порой резко саркастически, впоследствии включились в серьезный диалог медицины и литературы, а сам критический текст обогатился специальной лексикой, дефицит которой был особо ощутим в эпоху смены литературных направлений.
1 Горький М. Полн. собр. соч. и писем. Письма: в 24 т. М.: Наука, 2000. Т. 6. С. 39.
2 Арцыбашев М. Собр. соч.: в 6 т. М., [1914]. Т. 3: Рассказы. С. 131.
3 Чуковский К. И. Собр. соч.: в 15 т. М.: Агентство ФТМ, Лтд, 2012. Т. 7. С. 195–196. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использование сокращения Чуковский и указанием тома и страницы в круглых скобках.
4 Подробнее о влиянии идей Нордау см. в целом ряде работ, напр.: [Николози], [Сироткина], [Кубасов].
5 О нем подробнее в кн.: [Сироткина: 30–42].
6 А. А. Измайлов: переписка с современниками / сост., вступ. ст. А. С. Александрова; предисл., подгот. текстов и примеч. A. С. Александрова, Э. К. Александровой, Н. Ю. Грякаловой. СПб.: Пушкинский Дом, 2017. С. 56.
7 См.: Биржевые ведомости. Утр. вып. 1903. 1 марта. (№ 107). С. 1.
8 Дьяконов П. И. 100 рублей за объяснение // Биржевые ведомости. Веч. вып. 1909. 12 февр. (№ 10956).
9 Там же.
10 Рассмотрены нами в отдельной статье, см. подробнее об этом эпизоде: [Александров, Александрова].
Об авторах
Александр Сергеевич Александров
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: aspiros.83@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8611-6490
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Отдела новейшей русской литературы
Россия, наб. Макарова, 4, Санкт-Петербург, 199034Список литературы
- Александров А. С. Бюллетени о состоянии здоровья Л. Н. Толстого в прессе начала XX века // Десятая международная Летняя школа по русской литературе: статьи и материалы. СПб., 2014. С. 102–114.
- Александров А. С. Печатные бюллетени о здоровье Л. Н. Толстого конца XIX — начала XX веков как часть «медицинского текста» русской литературы // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки. 2021. № 3. С. 78–83. (a)
- Александров А. С. «Фельетонная критика» в литературном процессе 1880–1900-х гг. // Писатель — критика — читатель: механизмы формирования литературной репутации в России во второй половине XIX — первой трети XX вв. / отв. ред. А. С. Александров. СПб.: Росток, 2021. С. 408–438. (b)
- Александров А. С., Александрова Э. К. Позитивисты vs. Символисты (К истории восприятия одного блоковского стихотворения) // Филологические науки. 2015. № 5. С. 33–41.
- Александрова Э. К., Александров А. С. Фельетонная критика конца XIX — начала XX века: проблемы изучения. (Обзор научной конференции ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН) // Филологические науки. 2020. № 3. С. 127–136.
- Баженов Н. Психиатрические беседы на литературные и общественные темы. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1903. 159 с.
- Грякалова Н. Ю. Человек модерна: биография — рефлексия — письмо. СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. 382 с.
- Измайлов А. А. Литературные заметки: неврастенический век и неврастеническая литература: стихи И. Рукавишникова // Биржевые ведомости. Утр. вып. 1907. 16 марта. (№ 9798). С. 3.
- Измайлов А. А. Помрачение божков и новые кумиры: книга о новых веяниях в литературе. М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1910. 251 с.
- Крылов В. Н. Комические формы и приемы в массовой газетно-журнальной критике начала XX в. // Писатель-критика-читатель: механизмы формирования литературной репутации в России во второй половине XIX — первой трети XX вв. СПб.: Росток, 2021. С. 439–459.
- Кубасов А. В. Идея «вырождения» в поэтике и криптопоэтике А. П. Чехова // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 3. С. 206–221 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1633672884. pdf (01.04.2022). doi: 10.15393/j9.art.2021.9682
- Николози Р. Вырождение: литература и психиатрия в русской культуре конца XIX века. М.: НЛО, 2019. 512 с.
- Свифт М. С. «Душечка»: рассказ о любви неустойчивой личности // Диалог с Чеховым: сб. науч. тр. в честь 70-летия В. Б. Катаева / отв. ред. П. Н. Долженков. М.: МГУ, 2009. С. 85–100.
- Сироткина И. Классики и психиатры: психиатрия в российской культуре конца XIX — начала XX века / пер. с англ. авт. М.: НЛО, 2008. 272 с.
Дополнительные файлы