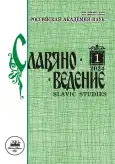The Slovak-Hungarian «Small War» in the Context of the Post-Munich Crisis in Bilateral Relations (March – September 1939)
- 作者: Salkov A.P.1
-
隶属关系:
- Belarusian State University
- 期: 编号 1 (2024)
- 页面: 54-69
- 栏目: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-544X/article/view/255406
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24010042
- ID: 255406
全文:
详细
The Munich Agreement had a profound effect on the national-territorial conflict between Czecho-Slovakia and Hungary. The first Vienna Award on November 2, 1938 resolved it in favor of Hungary. The consequences of the arbitration created a new configuration in the territorial dispute between autonomous Slovakia within the Second Republic and Hungary, involving Poland as well. Warsaw sought to obtain a joint Polish-Hungarian border, which led to the events of November 1938 – the Polish operation «Lom» in Transcarpathia failed, but local battles in the areas of Čadca and Javorina ended with the last adjustment of the post-Munich delimitation in favor of Poland. Since January 1939 incidents began on the Slovak-Hungarian border. In view of the threat of dismemberment of Slovakia on March 14, it declared independence. Hungary occupied Carpatho-Ukraine and then unleashed the «Small War» (March 23–31). Hungary received 1,050 sq. km with a population of 40 thousand people, half of whom were Slovaks. Slovak-Hungarian relations acquired a hostile character. Germany made the conflict between the two countries the subject of political blackmail, which was one of the reasons for their joining the fascist «axis».
全文:
Традиционно конфликтное в послеверсальской Европе словацко-венгерское этническое и государственное разграничение вследствие мюнхенского расчленения ЧСР получило новые импульсы (см. подробнее: [Saľkov 2010]). Однако в Мюнхене А. Гитлер не захотел обсуждать венгерский и польский вопросы, так как намеревался решить их с наибольшей выгодой для себя. По сообщению посланника ЧСР в Италии Ф. Хвалковского, рейхсканцлер Германии даже «не рекомендовал чехам проявлять излишнюю уступчивость перед лицом венгерских притязаний» 1. Тем не менее интересы венгерского и польского национальных меньшинств в ЧСР по просьбе Гитлера представлял на конференции Б. Муссолини 2. Лишь под его давлением проблема была упомянута в дополнении к соглашению, согласно которому, если ее не урегулируют в течение трех месяцев, вопрос должны будут рассмотреть участники Мюнхенской конференции 3.
Однако на деле реализовался иной сценарий. Развернулись бурные события начала октября 1938 г.: венгерский ультиматум 1 октября, уход 5 октября президента ЧСР Э. Бенеша 4 в отставку, объявление 6 октября автономии Словакии во главе с Й. Тисо 5, принятие А. Гитлером плана действий в Центральной Европе, который исключал образование венгерско-польской границы (на основе меморандума заместителя статс-секретаря иностранных дел Германии Э. Вёрмана).
В МИД Германии были проработаны, а 7 октября представлены Гитлеру 6 четыре гипотетических способа решения словацкого вопроса (от различных вариантов автономии, включая ориентацию на Венгрию или Польшу, до независимости). В Братиславе понимали нависшую угрозу и готовились к худшему. 9 октября правительство издало предписание на случай, если придется оставить территории с венгерским большинством населения. Оно было дополнено 11 октября инструкцией, адресованной местным властям ряда таких населенных пунктов [Vrábel 2018, 29].
На этом фоне 9–13 октября на пароходе «Жофия» в словацком дунайском порту Комарно прошли бесплодные венгеро-чехо-словацкие переговоры на основе старых требований Венгрии о передаче ей южных районов Словакии и Подкарпатской Руси. Чехо-Словацкая республика (Ч-СР) сразу согласилась в знак доброй воли уступить Венгрии в течение 24 часов пограничный городок Шаги (венг. Ипойшаг) в Южной Словакии и 36 часов – станцию Нове Место-под-Шатром (венг. Шаторальяуйхей) в Земплине 7. Венгрия же потребовала передать ей полосу территории Верхнего края (Фелвидека, что в венгерском понимании охватывало южные районы Словакии и Подкарпатской Руси) шириной в среднем 40 км и длиной свыше 800 км с крупными городами Братиславой (венг. Пожонь), Кошице (венг. Кашша), Мукачево (венг. Мункачи) 8. По воспоминаниям участника переговоров министра юстиции Ф. Дурчанского 9, «венгры хотели четверть Словакии», опираясь на данные переписи 1910 г., столь тенденциозные, что сам Й. Тисо фигурировал в ней как мадьяр 10.
Сразу после провала переговоров регент Венгерского королевства М. Хорти 11 организовал визит недавнего премьера К. Дараньи в Мюнхен. Во время переговоров, состоявшихся 14 октября, Гитлер упрекнул Венгрию за пассивность в период подписания Мюнхенского соглашения, когда, как он считал, можно было занять всю Словакию, и заявил, что теперь необходимо искать компромисс [Волков 1978, 49].
Урегулирование через арбитраж становилось неизбежным. Он состоялся в Вене 2 ноября 1938 г. в составе министров иностранных дел Германии и Италии (И. Риббентропа и Г. Чиано) и вынес решение, изложенное в семи пунктах. В самом важном, первом, пункте говорилось, что передаваемые Ч-СР в пользу Венгрии территории обозначаются на карте, а демаркация новой границы на месте возлагается на их совместную комиссию. По показаниям венгерского генерал-полковника И. Рускицай-Рюдигера, позже находившегося в советском плену, новую границу на карту арбитры нанесли лично 12, но карта не была опубликована и до сих пор не обнаружена 13, сохранилось лишь несколько различных описаний границы.
Автономное правительство не получило от Берлина и Рима приглашения на арбитраж. Когда словацкая делегация все же приехала в Вену, ее держали на задворках переговоров, а Ф. Хвалковский сообщил словакам уже готовое решение. Поэтому Й. Тисо долго отказывался подписывать окончательный документ, но Риббентроп и Хвалковский вынудили его сделать это. При этом рейхсминистр отметил, что «только благодаря Мюнхену Словакия еще существует, иначе, не будь Мюнхена, все заинтересованные стороны растянули бы ее по кускам» 14.
Все перипетии с картой и разными вариантами описания границы привели к появлению противоречивых данных о размере переданных территорий и численности их населения (см. подробнее: [Сальков 2019]). Фактическое совпадение показателей, приведенных в ноябре 1938 г. Прагой 15 и Братиславой 16 – 10,3 тыс. км кв. и 854 тыс. человек жителей, из которых 59,0% являлись мадьярами – позволяет считать их наиболее объективными.
Статистический сумбур имел свои корни. Сведения переписей разных лет, начиная с середины XIX в., сильно разнились, хотя никаких геноцидальных катастроф в крае не было. Разгадка состояла в том, что одни и те же люди, будучи многоязыкими, в зависимости от личной выгоды называли себя то словаками, то венграми. Например, накануне арбитража более 70% жителей Кошиц говорили на двух-трех языках, а около 25% – на четырех и более. При этом абсолютное большинство горожан предпочитали пользоваться венгерским [Simon 2014, 155–156].
Итоги триумфального для Будапешта арбитража были подведены 12 ноября на заседании Палаты представителей Венгерского парламента (созыва 1935 г.). Председатель палаты А. Ташнади предложил разработать законопроект о «возвращении Фелвидека к Святой Короне», предполагающий интеграцию этой территории, унификацию ее юридической и экономической систем, формирование местных органов власти 17. Ф. Дурчанский вспоминал: Венский арбитраж «превзошел самые оптимистические ожидания венгров», что давало им основания думать об отсутствии у словаков «иного выхода кроме присоединения к Венгрии» 18.
Но не все было так однозначно. В Будапеште узнали о планах Берлина создать обширную Закарпатскую державу, включающую земли соседних стран и опасались, что подобное славянское государство «могло бы привлечь славян из Чехословакии и, овладев Карпатами, обратить потом внимание на Дунайскую равнину […], что угрожает последующим уничтожением Венгрии» 19. Великобритания de jure не признала результаты арбитража, что привело к охлаждению в венгерско-британских отношениях [Becker 2011, 130–131].
Для реализации арбитражных решений был сформирован ряд смешанных комиссий. Основную роль играла делимитационная, которая решила использовать в качестве границ населенных пунктов не административное деление, а данные земельного кадастра. На переданных землях начался принудительный сгон чешских, словацких и русинских колонистов. На этом фоне Будапешт заявил о стремлении к дальнейшему пересмотру границы с Ч-СР с тем, чтобы добиться «исторических границ» Венгрии, так как венское решение считал только «специальным», но не «окончательным» [Пеганов 2009, 206–207].
В Венгрии была развернута пропагандистская кампания с целью присоединения оставшейся в Ч-СР части Подкарпатья (венг. Карпаталья). Уже 3 ноября Венгерское радиоагентство сообщило о митинге в Хусте (венг. Куст) (ставшего центром края после утраты Ужгорода (венг. Унгвар)), участники которого декларировали историческое и экономическое единство всего края и требовали проведения референдума о присоединении к Венгрии. «Kárpátok magyar újság» («Карпатская венгерская газета») вторила этим призывам: «Северная часть Подкарпатья не может быть отделена от южной, так как они связаны тысячелетним прошлым и единством местных жителей» [Fedinec 2015, 57–58].
6 ноября в правящих кругах Будапешта был разработан план вооруженного захвата всего Подкарпатья, что случайно стало известно в Берлине. Две германские ноты сдержали венгров, потому что Германия уже планировала подчинение себе всей Ч-СР 20. После этих событий на политической авансцене Венгрии выдвинулась фигура графа И. Чаки 21.
Итак, обстоятельства и последствия арбитража создали новую конфигурацию в территориальном споре между автономной Словакией в составе «Второй республики» и Венгрией, вовлекая в него и Польшу.
Еще в октябре, когда министр иностранных дел Польши Ю. Бек пытался добиться от Берлина согласия на венгерскую оккупацию всей Подкарпатской Руси для создания общей польско-венгерской границы (на что его толкал страх перед украинским ирредентизмом и собственные претензии на Тешенскую Силезию), Венгрия попросила Польшу помочь ей войсками. Однако Варшава пошла по пути организации в крае диверсионных акций. 19 октября Генштаб Войска польского отдал приказ о начале операции «Лом». 15 ноября силами недавних силезских участников «восстания в Заользье» начались диверсионные действия гибридного характера в сопредельных районах Закарпатья. Однако в считаные дни стало ясно, что Венгрия вынуждена отказаться от захвата края вооруженным путем. 25 ноября операция была свернута, а польские отряды в составе 720 боевиков отозваны, проведя 56 диверсий 22.
Польша, поддержав образование автономной Словакии (хотя сама надеялась установить протекторат над ней), вскоре обнаружила, что Братислава находится в орбите влияния Берлина, поэтому спешно выдвинула новые притязания. Специально созданные на спорных территориях общественные структуры – Комитет помощи Спишу и Ораве, Комитет объединения оравских поляков – потребовали присоединения к Польше значительной территории. Запросы же официальной Варшавы были скромнее – город Чадца, Яворина (самая высокая гора Белых Карпат), часть Татрских лесов, бассейн р. Попрад с преимущественно словацким населением в 6 тыс. человек. Словакия отвергла эти требования, но получив ультиматум, согласилась на плебисцит. После мелкого, но раздутого Варшавой инцидента (два камня, брошенные в автобус с польской делегацией), части опергруппы «Шлёнск» Войска польского 25 ноя- бря пересекли границу, проведя локальные бои в районах Чадцы и Яворины. 30 ноября был подписан делимитационный протокол – Словакия потеряла 226 кв. км с 4,3 тыс. человек населения, что стало последней корректировкой послемюнхенского разграничения [Fukala].
На отошедших к Венгрии арбитражных землях протекали своеобразные национальные процессы. В южных районах Подкарпатья в среде восточнославянского русинского населения возникли русофильские настроения, что встретило крайне негативное отношение со стороны венгерских властей. Их пропаганда всячески подчеркивала «венгеро-русинское братство», дикость чуждой «русско-татарской культуры», отсутствие этнической близости между русинами и украинцами. Возвращение русинов в православие (изначально они являлись православными, но под влиянием Брестской унии 1596 г. значительная их часть перешла в греко-католичество) расценивалось как измена. С другой стороны, в Восточной Словакии (районы Абов, Южный Шариш, Южный Земплин) постепенно развивалось национально-культурное движение «словяков» во главе с поэтом Виктором Дворчаком. Население этих районов объявлялось отдельным западнославянским народом с уникальными языком и культурой. По сути ирредентистски настроенные «словяцкие» деятели подчеркивали, что, несмотря на языковую близость со словаками, братским народом для них являются венгры. И русинская, и «словяцкая» проблемы стали факторами давления Будапешта на Братиславу [Казак 2014, 416–418].
На арбитражной территории венгры начали проводить политику репрессий против словацкого населения – аресты, обвинения в госизмене, происходили стычки на бытовом уровне. Особый отклик вызвал инцидент в нитранском городке Шураны (венг. Нагишурань). Собравшиеся 24 декабря у церкви 2–3 тыс. словаков выкрикивали антивенгерские лозунги, а затем под благовидным предлогом (все находившиеся в церкви словаки начали кашлять) сорвали рождественскую мессу на венгерском языке. 25 декабря ситуация повторилась, но венгерские власти заранее направили к церкви отряд полиции. В результате потасовки был открыт огонь. Погибла молодая девушка, 50 словаков арестовали 23. События в Шуранах приобрели широкое политическое звучание.
В начале января 1939 г. начались инциденты на словацко-венгерской границе. Изучить их причины Берлин поручил Роберту Новаку, офицеру абвера, курировавшему Юго-Восточную Европу. В начале 1939 г. он предпринял две поездки по Верхней Венгрии. Их результатом стали два отчета, больших по объему и насыщенных пусть тенденциозным, но богатым содержанием об этническом составе края, общественных настроениях населения, соотношении военных сил 24.
Активным проводником интересов Берлина в Словакии являлись партийные структуры лидера немецкого этнического меньшинства в Словакии Ф. Кармасина 25. Призывы его Немецкой партии присоединить Словакию к Германии не нашли отклика в Берлине, где придерживались концепции о словацких немцах как образце статуса меньшинства в Юго-Восточной Европе [Маннова 2003, 323–324]. Весьма содержательны четыре отчета функционера Немецкой партии Курта Рабла, составленные накануне и после арбитража 26. Интересно, что в ряде районов Южного Спиша с немецким населением (Нижний и Верхний Меджев, Штус) после угасшего по команде из Берлина немецкого ирредентистского движения стало нарастать желание присоединиться к Венгрии. При этом посол Венгрии в Германии Д. Стояи 27 в феврале 1939 г. отрицал стремление Будапешта присоединить эти территории 28. Германский генконсул в Братиславе Э. Дрюффель сообщил о планах главы Венгерской партии в Словакии графа Я. Эстерхази 29 пролоббировать в Берлине присоединение к Венгрии Меджева 30.
В условиях вмешательства Гитлера как в конфликт между властями Праги и Братиславы, так и в словацкий правительственный кризис, а также ввиду явной угрозы расчленения Словакии ее сейм 14 марта 1939 г. провозгласил независимость [Hoensch 2001, 159–183]. В ночь на 15 марта вызванный в Берлин президент Ч-СР Э. Гаха 31 принял ультимативные условия Гитлера и согласился на ликвидацию независимости и оккупацию Ч-СР. «Вторая республика» прекратила существование. Венгрия же 15–18 марта оккупировала Карпатскую Украину, присоединив ее с пышным титулом «Возвращенная Венгерской Святой Короне Карпаталья». По венгерским оценкам того времени из 674 тыс. жителей края русины составляли 500 тыс., а венгры – 62 тыс. человек 32. В сообщении разведуправления РККА «О событиях в Чехословакии» 20 марта еще за три дня до начала «Малой войны» было подчеркнуто: агрессоры «от “национального принципа” захватов перешли к захватам без покрывал» 33.
Венгрия стала первой из 27 государств, признавших Словакию de jure, при этом делала все возможное для историко-документального закрепления полученных территорий, например, в Будапеште было издано огромное тысячестраничное исследование Дьюлы Секхалми по многовековой истории Фелвидека с обоснованием венгерской исторической аргументации обладания краем [Szeghalmy URL].
Договор об охранных отношениях между Германией и Словацким государством (Охранный договор), тайно подписанный в Вене 18 марта 1939 г. со сроком действия в 25 лет, оказал глубокое воздействие на развитие словацко-венгерского конфликта. Германия по договору брала на себя охрану независимости и территориальной целостности Словакии (§ 1). Словакия соглашалась на создание «охранной зоны» вдоль ее западной границы с исключительными правами для вермахта (§ 2), обязывалась поставить под контроль Берлина свою армию (§ 3), а также согласовывать с ним внешнюю политику (§ 4). Следует отметить: в октябре 1939 г. словацкая сторона обнаружила, что оригинальный текст договора был потерян 34.
Подписанию договора предшествовали события, которые вносят коррективы в сложившееся в литературе описание хода событий. Ввод немецких войск на территорию Словакии начался 17 марта, а не позднее, как принято считать. Это следует из письма словацкого МИД в Берлин в этот день, в котором уже содержались сведения о вступлении частей вермахта в страну. Параллельно началась и немецкая оккупация Чехии, что вызвало транспортный коллапс на чешско-словацкой границе и панику в Братиславе. Эти обстоятельства, возможно, заставили словаков форсировать подписание Охранного договора. 17 марта состоялся разговор Э. Вёрмана с Д. Стояи. Тот принес карту и просил Берлин повлиять на Братиславу, чтобы она не чинила препятствий венгерскому перемещению границы с Карпатской Русью на 10 км к западу 35.
18 марта статс-секретарь МИД Германии Э. Вайцзеккер отправил инструкцию Э. Дрюффелю, в которой указал, что немецкое военное руководство (экспертом выступил начальник разведуправления Генштаба сухопутных сил генерал-майор Курт фон Типпельскирх) одобрило инициативу Будапешта. Вайцзеккер предложил повлиять на словаков, чтобы они не допустили эскалации конфликта, а «венгры пусть продвинутся настолько далеко, насколько смогут». Однако следом в Будапешт пошло указание Типпельскриха об ограничении продвижения оговоренной линией 36. Венгры выразили готовность сесть за стол переговоров со словаками для подписания соглашения о границе сразу же после завершения операции. Выполняя инструкцию Вайцзеккера, Дрюффель предупредил о предстоящей военной операции словацких политиков и довел до их сведения позицию Германии 37.
Венгрия, получившая после оккупации Карпатской Украины в наследство и неурегулированную проблему этого края, поддалась соблазну вторгнуться в сопредельный регион Восточной Словакии. Внешним толчком послужила телеграмма руководства провенгерской организации «Карпаторусский союз» в США, в которой предлагалось присоединить к Венгрии словацкие комитаты Унг-Земплин, Шариш и Сепеш с русинским населением. В Будапеште решили поставить всех перед фактом [Пушкаш 2003, 403–404]. Для придания большей легитимности своим действиям венгры апеллировали к венгеро-германским договоренностям о корректировке бывшей «бенешевской» административной границы между Словакией и Подкарпатьем. Кроме того, они исходили из убеждения игнорирования арбитрами в Вене факта, что «восточные границы Словакии никогда не были (в рамках Австро-Венгрии. – А.С.) точно определены» [Petruf 2011, 80–81].
Венгрия, напав на Словакию, развязала так называемую Малую войну (23– 31 марта 1939 г.). Венгерские войска с боями начали продвигаться на запад от Ужгорода к «линии Бенеша 1920 г.», вторгшись в Восточную Словакию в районе г. Собранце. Германия не выполнила обязательства по Охранному договору и не оказала помощь Словакии [Mičianik 2019, 299–339]. Именно 23 марта Берлин объявил об условиях до того считавшегося секретным Охранного договора, подписанного со словацкой стороны заместителем премьер-министра В. Тукой 38 и Ф. Дюрчански [Hoensch 2001, 196–204]. Стало очевидным, что договор узаконил германскую оккупацию Западной Словакии в виде огромной «охранной зоны», ограниченной на востоке горными грядами Малых Карпат, Белых Карпат и Яворника, а также маленького анклава в Предмостном районе Братиславы – района Девина и Петржалки [Пушкаш 2006, 283–284].
Видимо, в Берлине не были готовы к столь стремительным действиям Будапешта. В первый же день войны И. Риббентроп вызвал Д. Стояи и указал на недопустимость венгерской акции. Однако посол, сославшись на нехватку информации, предположил, что таким образом выполнялась германо-венгерская договоренность о корректировке словацко-русинского разграничения 39. Министр национальной обороны Словакии Ф. Чатлош 40 объявил мобилизацию. Однако венгерские войска в первый же день вторжения добились успеха 41.
Охранный договор и для венгров стал в некотором роде неожиданностью. И. Риббентроп позвонил Д. Стояи, а затем состоялось несколько встреч немецких и венгерских дипломатов, что заставило последних изменить планы 42. 24 марта в Братиславу была отправлена инструкция высокопоставленного сотрудника МИД Германии Г. Альтенбурга, предложившего Й. Тисо прекратить контратаки и продолжить обсуждение с венграми линии границы. В этой инструкции напоминалось, что 17 марта словакам было передано немецкое пожелание не оказывать вооруженного сопротивления венгерской операции 43.
25 марта венгерская авиация предприняла бомбардировку городка Спишска Нова Весь (венг. Иглю), в ходе которой погибли и были ранены около 40 человек. Половина из них являлись гражданскими лицами, что позволило словацким историкам сравнить это событие с похожим в испанской Гернике. Словацкая авиация бомбила в ответ – Ужгород и Мукачево [Petrík 2016, 104–118]. В заметках главнокомандующего сухопутными войсками вермахта В. Браухича, сделанных на оперативном совещании в Берлине 25 марта, зафиксирована позиция Гитлера на случай раздела Словакии: «восточная линия вдоль Нитры должна была стать германской границей, а Прессбург (немецкое наименование Братиславы до марта 1919 г. – А.С.) обязательно войти в состав рейха» 44. Таким образом, характер и развитие словацко-венгерского национально-территориального спора перешли в новый формат – межгосударственного конфликта внутри формирующегося фашистского блока.
Под давлением Берлина И. Чаки предложил Братиславе переговоры об установлении новой границы, исходившей из венгерской аннексии полосы от 20 до 30 км западнее р. Уж. Словакия была вынуждена согласиться. Переговоры прошли в Будапеште 27 марта – 4 апреля 1939 г. МИД Словакии через Э. Дрюффеля обратился за дипломатической поддержкой к Германии. Однако из Берлина поступило лишь требование к венгерским дипломатам прекратить утверждать, что оккупация новых словацких территорий произошла с согласия рейха 45. Премьер-министр автономного правительства Подкарпатской Руси А. Бродий 46, который являлся членом венгерской делегации, отстаивал необходимость присоединения к Венгрии «русинских территорий до Попрада» (самый крупный город словацкой исторической области Спиш, расположенный у подножья Высоких Татр далеко к северу от венгерской границы. – А.С.), но его максималистский проект был отклонен [Brenzovics 2010, 62].
Под давлением венгерского ультиматума признать новую границу к 11 часам 31 марта, Братислава 30 марта вновь запросила Берлин о поддержке. Однако, не получив ее и на этот раз, приняла ультиматум и согласилась на переход оккупированных территорий под суверенитет Венгрии 47. 4 апреля протокол о новой линии границы на участке между р. Уж и Польшей был подписан. К Венгрии отошел Собранецкий округ и часть округа Свина – 1050 км кв., около 40 тыс. человек, половина из которых были словаками 48. В словацкой историографии приводятся и более значимые цифры потерь – 1,7 тыс. кв. км с населением в 70 тыс. (из которых 38 тыс. русинов и 27 тыс. словаков) [Petruf 2016, 81].
Жертвами конфликта стали по нескольку десятков человек с каждой стороны. Будапешт остался недоволен достигнутыми результатами, так как планировал приобрести больше территорий. Словакия же считала Венгрию гораздо большей угрозой для существования, чем Германию. Поэтому, несмотря на потери «Малой войны», словацкое общество пережило небывалый со времен 1918 г. патриотический подъем, запечатлевшийся в народной памяти, и нашедший отражение в словацкой и венгерской историографии, публицистике, кинематографе [Vrábel 2016, 119–126; Jašek 2016, 127–153; Valo 2016, 177– 185]. В ряды Глинковой гвардии и национальной милиции вступили 27,7 тыс. резервистов и 21,7 тыс. гражданских ополченцев, что способствовало консолидации нации в начальный период существования государства [Lasko 2011, 205– 207, 212].
Всей многомесячной двухэтапной операцией по захвату Южной Словакии и Закарпатской Украины руководил с согласия Берлина начальник венгерского Генштаба Х. Верт. Он же являлся главнокомандующим венгерской военной администрацией на присоединенных словацких землях, отвечая за установленный там жесткий режим 49.
И Берлин, и Рим манипулировали «самостоятельной» Словакией в собственной политической игре с Венгрией и Польшей, о чем свидетельствуют обстоятельства визита премьер-министра Венгрии П. Телеки 50 и И. Чаки в Италию в апреле 1939 г. Г. Чиано зафиксировал в кабинетном дневнике, что больше всего Чаки («этот самонадеянный тип») говорил о Словакии: «Он надеется или, лучше сказать, обманывает себя надеждой, что Германия может преподнести ее, так сказать, в подарок Будапешту» 51. Однако личная неприязнь не влияла на реальную политику. Словацкий посланник Й. Звршковец 52 в посольских отчетах постоянно отмечал благожелательное отношение итальянской дипломатии к Венгрии [Kubík 2010, 100–101].
Германия также отдавала приоритет Будапешту. Речь А. Гитлера в рейхстаге 28 апреля содержала прямой намек на возможный раздел Словакии между Германией, Венгрией и Польшей, так как эти три соседние страны декларировались гарантами независимости словацкого государства [Petruf 2011, 119]. После Рима П. Телеки и И. Чаки были с визитом у Гитлера (29 апреля – 1 мая 1939 г.). Чаки изложил тому позицию Варшавы, согласно которой «на Словакию Польша имеет больше прав, нежели Венгрия. Ведь словацкий (а он лишь диалект польского) и польский – это практически один язык» 53. Характерены слова Гитлера, сказанные им в мае, вскоре после визита венгров: «Определение границ – дело военной важности» 54.
Венгерский посланник в Риме Фридьеш Виллани сообщил в июле о росте словацкого ирредентизма, направленного не только на арбитражные земли, но и на собственно венгерские территории (Вац, Эстергом) «по прямой инструкции Риббентропа». Из чего делался вывод: «не исключена силовая акция Словакии против Венгрии, возможно с тихой военной поддержкой Германии» 55.
Братислава отреагировала на сложившуюся после арбитража ситуацию и предложила Венгрии руководствоваться принципом паритетности по отношению к меньшинствам по обе стороны границы. Он вскоре был закреплен в Конституции 21 июля 1939 г., так как считался действенным инструментом в обеспечении прав словаков в Венгрии. На деле это привело лишь к новому витку противоречий [Ristveyová, Hruboň, Mitáč 2018, 24].
В переписке отдела разведки и контрразведки Верховного командования вермахта и МИД Германии (из захваченных в 1945 г. НКВД СССР немецких документов, предназначенных для Нюрнбергского процесса) имелась сделанная 12 августа 1939 г. запись, описывающая возможный сценарий использования Словакии германскими вооруженными силами в качестве «плацдарма или даже оперативного района». Причем информировать словацкое правительство о подобных планах «по причине военной тайны» не рекомендовалось: «Ему будет сказано об этом, также и по внешнеполитическим соображениям, только в последний час» 56.
Реальные события развивались именно по такому сценарию. 12 августа 1939 г. был подписан новый германо-словацкий договор, по которому Германия брала на себя обязательство обеспечить полную военную защиту Словакии 57. Это означало для Венгрии окончательную утрату шансов на присоединение словацких земель. Словакию же этот договор ставил под полный контроль Берлина. 24 августа Германия в ультимативной форме предложила ей принять участие в нападении на Польшу в обмен на обещание гарантии сохранения новых южных границ Словакии с Венгрией 58. В переписке 27–28 августа германский посланник в Братиславе Ганс Бернард сообщал Й. Тисо об угрозе для словацких границ со стороны Польши и вступлении немецких войск в Словакию для ее защиты, президент страны не возражал 59.
1 сентября 1939 г. словацкая полевая армия «Бернолак» в составе трех дивизий (около 50 тыс. чел.) под командованием Ф. Чатлоша, вторглась вместе с германской армадой в Польшу, приняв участие в развязывании Второй мировой войны. Однако Германия не торопилась содействовать возвращению отторгнутых ранее Польшей территорий. Э. Вёрман с 4 по 14 сентября вел с властями Братиславы и Берлина напряженную переписку по этому поводу, а также по вопросу принятия соответствующего словацкого закона и об области Орава 60. Наконец, 21 ноября был заключен германо-словацкий договор о реституции полученных польских территорий, подписанный А. Гитлером и Й. Тисо 61. В итоге Словакия возвратила земли, отошедшие к Польше в 1920, 1924 и 1938 годах, общей площадью около 600 кв. км с населением 45 тыс. человек [Марьина 1999, 206–207].
Таким образом, между Словакией и Венгрией, двумя странами германской сферы влияния, с первых дней войны возникли острые разногласия. В первой половине сентября Будапешт отказал словацкой стороне в просьбе разрешить ей транспортировку военных грузов через венгерскую территорию для прикрытия флангов германской армии. Безобидная ситуация послужила для Венгрии поводом для концентрации своих воинских соединений на словацкой границе 62.
Даже в условиях германо-польской военной кампании, положившей начало Второй мировой войне, Словакия и Венгрия фактически оказались по разным сторонам конфликта. Словакия, юридически признанная Польшей, объявила ей войну и приняла участие в боевых действиях против Войска польского. Венгрия сохраняла благожелательный Польше нейтралитет, разместила у себя часть отступившей польской армии, в Будапеште до 1941 г. работало польское посольство. Берлин сделал территориальный спор между Словакией и Венгрией объектом политического торга и шантажа, что стало одной из причин их будущего присоединения к Тройственному пакту [Сальков 2013, 75, 159].
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВП РФ – Архив внешней политики РФ.
ГА РФ – Государственный архив РФ.
СВР РФ – Служба внешней разведки РФ.
ЧСР – Чехословацкая республика.
Ч-СР – Чехо-Словацкая республика (октябрь 1938 – март 1939 г.).
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
АВП РФ. Ф. 77 (референтура по Венгрии). Оп. 14. П. 6. Д. 4.
Агрессия. Рассекреченные документы Службы внешней разведки Российской Федерации. 1939– 1941 / Л. Ф. Соцков (сост.). М.: Вече, 2021. 480 с.
Венгрия и Вторая мировая война: Секретные дипломатические документы из истории кануна и периода войны / Л. Жигмонд, М. Адам, Д. Юхас (авт.-сост.). М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1962. 367 с.
Военная разведка информирует. Документы Разведуправления Красной Армии. Январь 1939 – июнь 1941 г. / В. Гаврилов (сост.). М.: МФД, 2008. 836 с.
ГА РФ. Ф. Р-9401 («Особая папка» И. В. Сталина; «Особая папка» В. М. Молотова. Из материалов Секретариата НКВД-МВД СССР 1944–1956 гг.). Оп. 2. Д. 140; Д. 141.
Год кризиса, 1938–1939. Документы и материалы: в 2 т. / А. П. Бондаренко (редкол.). М.: Политиздат, 1990. Т. 1: 29 сентября 1938 г. – 31 мая 1939 г. 555 с.
Документы. Протоколы допросов бывшего начальника Генерального штаба венгерской армии генерал-полковника Генриха (Хенрика) Верта // Великая Отечественная война. 1941 год. Исслед., док., коммент. / отв. ред. В. С. Христофоров. М.: Изд-во Гл. архивного упр. г. Москвы, 2011. С. 693–755.
Документы Министерства иностранных дел Германии: в 3 вып. М.: Госполитиздат, 1946. Вып. 1: Германская политика в Венгрии (1937–1942 гг.). 160 с.
Документы по истории мюнхенского сговора. 1937–1939 / В. Ф. Мальцев, Д. Спачил (редкол.). М.: Политиздат, 1979. 471 с.
Мюнхенский сговор. Рассекреченные документы Службы внешней разведки Российской Федерации. 1933–1939 / Л. Ф. Соцков (сост.). М.: Вече, 2021. 672 с.
Чиано Галеаццо. Дневник фашиста, 1939–1943. М.: Плацъ, 2010. 672 с.
Akcja «Łom». Polskie działania dyversyjne na Rusi Zakarpackiej w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP / Paweł Samuś, Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew (wybór i opracowanie dokumentów). Warszawa: Adiutor, 1998. 327 s.
Čatloš Ferdinand. Marec 1939 // Vznik Slovenského štátu 14. marec 1939: Spomienky aktérov historických udalostí: v 2 diel / V. Bystrický, R. Letz, O. Podolec (eds.). Bratislava: AEPress, 2007–2008. 1. diel. 2007. S. 44–57.
Ďurćanský Ferdinand. S Tisom u Hitlera. Vznik Slovenskej republiky // Vznik Slovenského štátu 14. marec 1939: Spomienky aktérov historických udalostí: v 2 diel. Bratislava: AEPress, 2007–2008. 1. diel. 2007. S. 62–70.
Képviselőházi napló, 1935. XX. kötet (1938. június 21. – 1938. december 5.). Budapest: Athenaeum, 1938. URL: http://www3.arcanum.hu/onap/a110616.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=KN-1935_20&pg=0&l=hu (дата обращения: 23.04.2019).
Képviselőházi napló, 1939. VII. kötet (1940, szeptember 4. – 1940. november 19.). Budapest: Athenaeum, 1941. URL: https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN-1939_07/?pg=16&layout=s (дата обращения: 23.04.2019).
Krajčovič Milan. Medzinárodné súvislosti slovenskej otázky 1927/1936–1940/1944: maďarské dokumenty v porovnani s dokumentmi v Bonne, Bukurešti, Viedni a Prahe. Bratislava: SAP, 2008. 439 s.
Krvácajúca hranica: Dokumenty o utrpení Slovákov v Maďarsku / zost. J. Višňovan, J. Kirschbaum. Prievidza: Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi, 2003. 513 s.
Tiso Jozef. Zápisnica napísaná s dr. Jozefom Tisom // Vznik Slovenského štátu 14. marec 1939: Spomienky aktérov historických udalostí: v 2 diel / V. Bystrický, R. Letz, O. Podolec (eds.). Bratislava: AEPress, 2007–2008. 2. diel. 2008. S. 259–284.
Slovensko-nemecké vzťahy 1938–1941 v dokumentoch: v 2 sv. / príprava a výber dokumentov: E. Nižňanský, J. Tulkisová, I. Baka, M. Čaplovič, M. Fabricius, Ľ. Hallon, D. Segeš, D. Schriffl, M. Schvarc. Bratislava: Universum, 2009–2011. Sv. I.: od Mníchova k vojne proti ZSSR. 2009. 1171 s.
«Tretia ríša» a vznik Slovenského štátu: u 3 sv. / M. Schvarc, M. Holák, D. Schriffl (eds.). Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008–2011. Dokumenti I. 2008. 627 s.
«Tretia ríša» a vznik Slovenského štátu: u 3 sv. / M. Schvarc, M. Holák, D. Schriffl (eds.). Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008–2011. Dokumenty II. 2010. 556 s.
Viedenská arbitráž – 2. november 1938: u 3 sv. / zostavil L. Deák. Martin: Matica Slovenská, 2002–2005. Dokumenty I.: (20. september – 2. november 1938). 2002. 256 s.; Dokumenty II.: okupácia (2. november 1938–14. marec 1939). 2003. 304 s.; Dokumenty III.: rokovania (3. november 1938–4. apríl 1939). 2005. 456 s.
Zaťko Peter. Spomienky // Vznik Slovenského štátu 14. marec 1939: Spomienky aktérov historických udalostí: v 2 diel. Bratislava: AEPress, 2007–2008. 2. diel. 2008. S. 296–344.
1 Мюнхенский сговор, 358.
2 Документы Министерства иностранных дел Германии. Вып. 1, 88.
3 Венгрия и Вторая мировая война, 107.
4 Бенеш Эдвард – министр иностранных дел (с ноября 1918 по декабрь 1935 г.), президент ЧСР (с декабря 1935 по октябрь 1938 г.).
5 Тисо Йозеф – глава автономного правительства Словакии (с октября 1938 по март 1939 г.), премьер-министр (с марта по октябрь 1939 г.), президент Словацкой республики (с октября 1939 по апрель 1945 г.).
6 «Tretia ríša» a vznik Slovenského štátu. Dokumenti I, 76–77.
7 Viedenská arbitráž – 2. november 1938. Dokumenty I. 2002, 80–81.
8 АВПРФ. Ф. 77. Оп. 14. П. 6. Д. 4. Л. 9.
9 Дурчанский Фердинанд – министр юстиции, социальной опеки и здравоохранения (с октября по декабрь 1938 г.), министр общественных работ и транспорта (с декабря 1938 по март 1939 г.), министр иностранных дел и министр внутренних дел Словакии (с марта 1939 по июль 1940 г.).
10 Ďurčanský Ferdinand, 63.
11 Хорти Миклош – регент Венгерского королевства (с марта 1920 по октябрь 1944 г.).
12 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 141. Л. 174.
13 Viedenská arbitráž – 2. november 1938. Dokumenty I. 2002, 203–205.
14 Tiso Jozef, 265.
15 Viedenská arbitráž – 2. november 1938. Dokumenty I. 2002, 209–210.
16 Ibid., Dokumenty II. 2003, 31.
17 Képviselőházi napló, 1935. XX. kötet (1938. június 21. – 1938. december 5.). 258. old.
18 Ďurčanský Ferdinand, 65.
19 Агрессия. Рассекреченные документы СВР РФ, 131.
20 Венгрия и Вторая мировая война, 141.
21 Чаки Иштван – в качестве начальника канцелярии МИД был венгерским наблюдателем на Мюнхенской конференции, министр иностранных дел Венгрии (с декабря 1938 по январь 1941 г.).
22 Akcja «Łom», 199–200, 237–238, 270, 279.
23 Krvácajúca hranica, 408–411, 457–462.
24 «Tretia ríša» a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II, 98–110, 434–443.
25 Кармасин Франц – один из создателей Карпатонемецкой партии Словакии, после ее объединения (1935) с Судетонемецкой партией был заместителем К. Генлейна по Словакии и Подкарпатью. В октябре 1938 г. создал Немецкую партию (Словакии), как преемницу Карпатонемецкой. Лидер немецкого этнического меньшинства.
26 «Tretia ríša» a vznik Slovenského štátu. Dokumenti I, 268–272, 299–303.
27 Стояи Дёме – посол Венгрии в Германии (с 1936 по 1944 г.), будущий премьер-министр и министр иностранных дел (с марта по август 1944 г.) прогерманского правительства оккупированной немецкими войсками Венгрии.
28 «Tretia ríša» a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II, 246–247.
29 Эстерхази Янош – глава Венгерской партии в Словакии и лидер венгерского этнического меньшинства. В 1942 г. был единственным, кто голосовал в парламенте Словакии против депортации словацких евреев в нацистские лагеря смерти. В конце войны объявлен в розыск гестапо за спасение евреев и словаков, но в итоге был арестован контрразведкой СМЕРШ в апреле 1945 г. в Братиславе и осужден в СССР на 10 лет (в чем-то повторил трагическую судьбу шведского дипломата в Венгрии Рауля Валленберга, арестованного СМЕРШ в январе 1945 г. в Будапеште). В 1949 г. был выдан Чехословакии, где умер в тюрьме в 1957 г. См. подробнее: [Ковалевич. URL. 2011].
30 «Tretia ríša» a vznik Slovenského štátu. Dokumenti I, 399, 402–403.
31 Гаха Эмиль – президент Ч-СР (с ноября 1938 по март 1939 г.), государственный президент Протектората Богемии и Моравии (с марта 1939 по май 1945 г.).
32 Képviselőházi napló, 1939. VII. Kötet, 3.
33 Военная разведка информирует, 34.
34 Slovensko-nemecké vzťahy. Sv. I, 305–306.
35 Ibid., 280–282.
36 Ibid., 282–283.
37 Ibid., 285, 287.
38 Тука Войтех – заместитель премьер-министра (с марта по октябрь 1939 г.), премьер-министр (с октября 1939 по сентябрь 1944 г.), министр иностранных дел (с июля 1940 по ноябрь 1944 г.) Словакии.
39 Slovensko-nemecké vzťahy. Sv. I, 310.
40 Чатлош Фердинанд – министр национальной обороны Словакии (с марта 1939 по август 1944 г.).
41 Čatloš Ferdinand, 55–56.
42 Slovensko-nemecké vzťahy. Sv. I, 312.
43 Ibid., 316–317.
44 Ibid., 330.
45 Ibid., 334–337, 342.
46 Бродий Андрей – премьер-министр автономного правительства Подкарпатской Руси (с 11 по 26 октября 1938 г.), галицко-русский москвофил. После отстранения с поста был по настоянию Праги арестован за государственную измену, но вскоре освобожден, а после встречи с президентом «Второй республики» Эмилем Гахой отправлен на лечение в Татры, откуда бежал в Венгрию.
47 Slovensko-nemecké vzťahy. Sv. I, 337, 345–346.
48 Viedenská arbitráž – 2. november 1938. Dokumenty III, 382–384.
49 Документы. Протоколы допросов, 698, 712.
50 Телеки Пал – премьер-министр Венгрии (с февраля 1939 по апрель 1941 г.).
51 Чиано Галеаццо, 89–91.
52 Звршковец Йозеф – делегат Словацкого автономного правительства в МИД Ч-СР (с октября 1938 по март 1939 г.), словацкий эксперт на переговорах с Венгрией накануне Малой войны (март 1939 г.), посол Словакии в Италии (с июня 1939 по октябрь 1941 г.).
53 Krajčovič Milan, 332–333.
54 Год кризиса, 1938–1939. Т. 1, 494.
55 Krajčovič Milan, 343–344.
56 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 140. Л. 138.
57 Slovensko-nemecké vzťahy. Sv. I, 562–566.
58 Ibid., 590.
59 Мюнхенский сговор, 521–525.
60 Агрессия, 159–168.
61 Slovensko-nemecké vzťahy. Sv. I, 684–685.
62 Агрессия, 169, 172–173.
作者简介
Anatol Salkov
Belarusian State University
编辑信件的主要联系方式.
Email: anatsalkov@mail.ru
PhD (History), Associate Professor,
白俄罗斯, Minsk参考
- Becker A. Britský pohľad na Prvú viedenskú arbitráž. Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938–1945. Zborník z vedeckej konferencie (Šurany 22. –23. marca 2011), zostavil J. Mitáč. Bratislava, Ústav pamäti národa Publ., 2011, pp. 118–135.
- Brenzovics L. Nemzetiségi politika a visszacsatolt Kárpátalján (1939–1944). Ungvár, Kárpátaljai Maguar Kulturális Szövetség Publ., 2010, 204 p.
- Fedinec C. «A Maguar Szent Koronához visszatért Kárpátalja» 1938–1944. Budapest, Jaffa Kiadó Publ., 2015, 250 p.
- Fukala J. Československo-polský konflikt u Čadce v listopadu 1938. Available at: https://www.fronta.cz/dotaz/ceskoslovensko-polsky-konflikt-u-cadce-v-listopadu-1938 (accessed: 18.09.2015).
- Hoensch J. K. Slovensko a hitlerova východná politika: Hlinkova slovenská ľudová strana medzi autonómiou a separatizmom 1938–1939. Bratislava, Veda Press., 2001, 231 p.
- Istorija Slovakii, otv. red. Jelena Mannova. Moscow, Evrolinc Publ., 2003, 418 p. (In Russ.)
- Jašek P. Malá vojna v slovenskej historiografii. Malá vojna v marci 1939 a jej miesto v pamäti národa: zborník príspevkov z koferencie organizovanej Ústavom pamäti národa a mestom Spišská Nová Ves v dňoch 19. –20. marca 2015, zost. M. Lacko, M. Malatinský. Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku Press.; Bratislava, Múzeum ozbrojených zložiek SR Press., 2016, pp. 127–152.
- Kazak O. G. Rusinskij vopros kak argument v pogranichnyh sporah mezhdu Vengriej i Slovakiej (1939– 1944 gg.). Rossijsko-belorussko-ukrainskoe pogranichʼe: problemy vzaimodejstvija v kontekste edinogo sociokulʼturnogo prostranstva: materialy mezhd. nauchnoj konferencii (Novozybkov, Brjanskaja obl., 23–24 oktjabrja 2014 g.): v 2 ch., red Mishhenko V. V. Ch. 1. Brjansk, Ladomir Press., 2014, pp. 412– 421. (In Russ.)
- Kovalevich P. Pravednyj aristokrat. Available at: http://www.jewish.ru/history/facts/2011/11/news994302074.php (accessed: 20.09.2015). (In Russ.)
- Kubík P. Slovensko-talianske vzťahy: 1939–1945. Bratislava, Ústav pamäti národa Publ., 2010, 355 p.
- Lasko M. Maďarský vpád na Slovensko v marci 1939 a jeho ohlas. Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938–1945. Zborník z vedeckej konferencie (Šurany 22. –23. marca 2011), zostavil J. Mitáč. Bratislava, Ústav pamäti národa Publ., 2011. pp. 200–216.
- Marʼina V. V. Slovakija v politike SSSR i Germanii. Vostochnaja Evropa mezhdu Gitlerom i Stalinym. 1939–1941 gg., otv. red. V. K. Volkov, L. J. Gibianskij. Moscow, Indrik Publ., 1999, pp. 198–240. (In Russ.)
- Mičianik P. Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938–1939. Banská Bystrica, Dali-BB Press., 2019. 524 p.
- Peganov A. O. Cheho-slovacko-vengerskie peregovory v nojabre 1938 – marte 1939 g. o realizacii Venskogo arbitrazhnogo reshenija. Rossijskie i slavjanskie issledovanija: nauch. sb. Vyp. 4, otv. red. A. P. Salʼkov, O. A. Janovskij. Minsk, BGU Press., 2009, pp. 205–210. (In Russ.)
- Petrík J. Bombardovanie Spišskej Novej Vsi // Malá vojna v marci 1939 a jej miesto v pamäti národa: zborník príspevkov z koferencie organizovanej Ústavom pamäti národa a mestom Spišská Nová Ves v dňoch 19. –20. marca 2015, zost. M. Lacko, M. Malatinský. Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku Press.; Bratislava, Múzeum ozbrojených zložiek SR Press., 2016, pp. 104–118.
- Petruf P. Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939–1945: (náčrt problematiky). Bratislava, Historický ústav SAV Press., 2011, 328 p.
- Pushkash A. I. Vneshnjaja politika Vengrii. Fevralʼ 1937 – sentjabrʼ 1939 g. Moscow, Institut slavjanovedenija RAN Publ., 2003, 460 p. (In Russ.)
- Pushkash A. Civilizacija ili varvarstvo: Zakarpatʼe 1918–1945. Moscow, Evropa Press., 2006, 564 p. (In Russ.)
- Ristveyová K., Hruboň A., Mitáč J. Prvá Viedenská arbitráž a Slovensko (medzinárodné súvislosti, výsledky a dôsledky). Dve viedenské arbitráže (1938, 1940) z pohľadu slovenskej a rumunskej historiografie. R. Mârza, M. Syrný a kol. Banská Bystrica, Múzeum Slovenského Národného Povstania Publ., 2018, pp. 12–25.
- Saľkov A. P. Sovietsky zväz a formovanie prvých predstáv o povojnovej československo-maďarskej hranici (marec 1939 – jún 1941). Acta Historica Neosoliensia: Vedecký časopis pre historické vedy, šefredactor I. Nagy, t. XIII (2010), vol. 1–2. Banská Bystríca, Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Press., pp. 149–163.
- Salkov A. P. Venskij tretejskij sud (Pervyj Venskij arbitrazh): istoricheskie uslovija provedenija, mehanizm realizacii, politicheskie posledstvija (mart 1938 – ijunʼ 1941 g.). Aktualʼnye problemy slavjanskoj istorii: sbornik nauchnyh statej, posvjashhennyj 70-letiju G. F. Matveeva. Moscow, MGU Press., 2013, pp. 122– 134. (In Russ.)
- Salkov A. P. Nacional’no-territorial’nye konflikty v Central’no-Vostochnoj Evrope vo vneshnej politike SSSR (1938–1949 gg.). Minsk, BGU Press., 2019, 743 p. (In Russ.)
- Simon A. Maguar idők a Felvidéken 1938–1945. Az első bécsi döntés és következményei. Budapest, Jaffa Kiadó Press., 2014, 247 p.
- Szeghalmy G. Felvidék. Budapest, Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala Pabl., 1940. Available at: http://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMORJA_felvidek/?pg=0&layout=s (accessed: 20.10.2015).
- Valo P. Odraz Malej vojny v kinematografii a publicistike po roku 1990. Malá vojna v marci 1939 a jej miesto v pamäti národa: zborník príspevkov z koferencie organizovanej Ústavom pamäti národa a mestom Spišská Nová Ves v dňoch 19. –20. marca 2015, zost. M. Lacko, M. Malatinský. Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku Press.; Bratislava, Múzeum ozbrojených zložiek SR Press., 2016, pp. 177–185.
- Volkov V. K. Mjunhenskij sgovor i Balkanskie strany. Moscow, Nauka Publ., 1978, 340 p. (In Russ.)
- Vrábel F. Maďarsko-slovenský konflikt v maďarskej historiografii a publicistike. Malá vojna v marci 1939 a jej miesto v pamäti národa: zborník príspevkov z koferencie organizovanej Ústavom pamäti národa a mestom Spišská Nová Ves v dňoch 19. –20. marca 2015, zost M. Lacko, M. Malatinský. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku Press.; Bratislava: Múzeum ozbrojených zložiek SR Press., 2016, pp. 119–126.
- Vrábel F. Prvá Viedenská arbitráž – maďarský pohľad. Dve viedenské arbitráže (1938, 1940) z pohľadu slovenskej a rumunskej historiografie, R. Mârza, M. Syrný a kol. Banská Bystrica, Múzeum Slovenského Národného Povstania Publ., 2018, pp. 26–31.