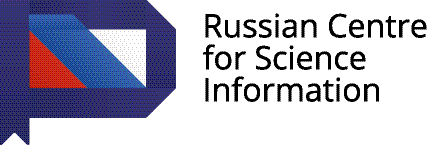Substances of Relatedness and the Narrative Division of Labor in the Dacha Household
- Autores: Kasatkina A.K.1
-
Afiliações:
- Higher School of Economics – Saint Petersburg Branch
- Edição: Nº 6 (2024)
- Páginas: 23-40
- Seção: Special Theme of the Issue: Economic Anthropology of Household Outside Metropolitan Areas in Contemporary Russia
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-5415/article/view/276263
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869541524060027
- EDN: https://elibrary.ru/VUCVUT
- ID: 276263
Citar
Texto integral
Resumo
The article discusses the discursive dimension of a modern urban household on the basis of interviews with garden plot owners in the Leningrad region. I proceed from the premise that the household is reproduced in everyday communication among its members, and consider communication as a meeting point between the fluid and unstable individual narrative universes and the more rigid material and practical reality of the household. This approach enables one to pose questions to the discursive material that go beyond the discourse: What is contemporary urban household? What processes and relations does it consist of? What is the role of economy and subsistence within it? How to define its boundaries? How to describe its temporality? How are economic and kinship relations interconnected? I argue that, at least while dachas in the households under consideration perform the recreational function rather than subsistence, dacha everyday chores are not about the necessities of subsistence, but rather create and maintain, formalize and organize relations in the family and especially between spouses. Each time talking about the dacha, relatives give new meanings to the dacha materiality of the past and present and propose and discuss reference points for the future.
Palavras-chave
Texto integral
Дача – часть современного городского домохозяйства. С дачи в город едет урожай, из города на дачу уезжают доживать век старые вещи. На даче свои правила поведения, обязательства, свой режим времени. А еще о даче и на даче много говорят: получение и освоение участка, строительство дома – все составляет историю, которую можно рассказать. Обсуждаются повседневные задачи, разделение обязанностей. В таком рутинном общении день за днем разворачиваются семья и хозяйство, или домохозяйство, понятое как процесс, объединяющий людей и материальные объекты.
Понятие “домохозяйство” располагается на пересечении экономики и родства, организации жизнеобеспечения и семейных отношений. Следуя субстантивистскому подходу в экономической антропологии, я рассматриваю любые практики домохозяйства как потенциально экономические, но меня интересует прежде всего значение, которое придают им их участники в создаваемых ими нарративных вселенных.
Дача позволяет поставить продуктивные вопросы для понимания феномена городского домохозяйства: что такое современное городское домохозяйство? из каких процессов и отношений оно складывается? какое место в нем отведено жизнеобеспечению? как можно определить его границы? как оно существует во времени? как связаны между собой хозяйственные и родственные отношения? Ответы на эти вопросы я буду искать в дискурсивном1 измерении современного городского домохозяйства, т.е. в том, как российские горожане говорят о своей даче. Задача этого текста главным образом заключается в калибровке метода. На примерах двух домохозяйств и трех бесед я исследую перспективность разных видов коммуникации для поиска ответов на эти вопросы и выдвину гипотезы, которые затем могут быть проверены на более широком материале.
Домохозяйство и дача
Изучив использование термина household в англоязычных исследованиях домашней экономики 2000-х годов, социологи Г. Казимир и Х. Тоби обнаружили, что авторы редко дают его определение, и часто household сливается с family. Сами они на основе своего анализа предлагают следующее определение: “отдельный человек или группа людей, которые регулярно в течение определенного периода времени имеют общие ресурсы, деятельность и расходы” (Casimir, Tobi 2011: 504). И все равно непонятно, чем отличается домохозяйство от, скажем, клуба цветоводов. Подобную мнимую очевидность этого термина в антропологии констатирует Р. Уилк (Wilk 1991). Очевидно, что в экономической антропологии “домохозяйство” используется в исследованиях домашней экономики в противопоставление рыночной, как локус, где экономические интересы и нужды переплетены с неэкономическими, эмоциональными отношениями (см. статью Н.В. Ссорина-Чайкова в наст. выпуске).
Дача усложняет картину домохозяйства и определение его границ. Во-первых, домохозяйство, где есть дача, по определению мультилокально: экономическая деятельность его членов разворачивается и в городском жилье, и на даче2 (о других видах мультилокальности российского домохозяйства см. статью Л.Я. Рахмановой в наст. выпуске). Во-вторых, дачей могут пользоваться родственники и друзья, которые в городе живут отдельно. В долгосрочной перспективе дача – это собственность, т.е. ресурс и капитал, который может конвертироваться в деньги или повлиять на состав и границы домохозяйства. Так, дача может быть продана, передана по наследству или разделена между родственниками, которые могут не пользоваться своей долей, но однажды продать ее посторонним людям. В краткосрочной же перспективе представители разных домохозяйств, которые регулярно встречаются на даче и объединяют свои ресурсы для совместной жизни, формируют новое временное домохозяйство, вполне укладывающееся в определение Г. Казимир и Х. Тоби. В последние годы дача все чаще начинает использоваться для постоянного проживания (Михеева 2012), но в обоих рассматриваемых здесь случаях дача остается сезонным “вторым домом” для городской семьи.
С точки зрения домашней экономики дача дает горожанину возможность самообеспечения продуктами питания. Именно этот ее аспект привлекал внимание экономистов и социологов, которые в 1990-е годы исследовали экономическую роль дач в связи с разработкой программы либеральных экономических реформ в России. Они видели в даче препятствие к модернизации экономики, поскольку она возвращала горожан к сельскому труду (Rose, Tikhomirov 1993), оттягивая их с городского рынка квалифицированной рабочей силы (Seeth et al. 1998). Но эти исследователи работали в русле формальной экономики и не учитывали роль культурного аспекта дачи в формировании локальной экономической рациональности. Географы А. Смит и Э. Стеннинг настаивают, что при целостном, субстантивистском рассмотрении домашней экономики можно увидеть, как дачное земледелие поддерживает рыночную экономику, а не препятствует ей: домашние заготовки с дачи, циркулируя в сетях неформальных обменов, в том числе взяток, помогают получить работу или сэкономить деньги для покупок, т.е. принять полноправное участие в рыночной экономике (Smith, Stenning 2006).
Внимательные к местным особенностям социологи пришли к выводу, что дачами владеют не беднейшие, а, напротив, более или менее состоятельные горожане, поскольку приобретение и содержание участка требует ресурсов (Clarke et al. 2000). Но функция дачи отличается гибкостью: в зависимости от обстоятельств она используется то для домашнего производства, то для повышения качества отдыха, и соответственно меняется структура вложений в нее (Southworth 2006: 470). Дача для российского горожанина – это не просто земля. Это и отдых на природе, и доступ к экологически чистой пище, и физическая активность, и место, где можно реализовать индивидуальные творческие амбиции садовода или строителя или найти утопическую “органическую идиллию” (Galtz 2000; Ловелл 2008; Caldwell 2011; Касаткина 2017б; Kasatkina 2021). И. Чеховских объединяет культурный и экономический аспекты дачи: благодаря давней традиции иметь землю за городом для летнего отдыха переключение на домашнее земледелие на даче для российского горожанина оказалось привычным и подручным средством выживания в кризисной ситуации, к которой привели перестроечные дефициты и последовавшие либеральные реформы (Чеховских 2000).
Теория и метод
Исследования семьи и родства, кажется, дальше ушли в обновлении своего теоретического языка, чем исследования домохозяйств. Дж. Карстен, подводя итоги обновлению тематики родства в антропологии, заключает, что теперь антропологи больше не рассматривают родственные связи как нечто само собой разумеющееся, а говорят об “идиоме отношений”, свойственном той или иной культуре, и вовсе отказываются от термина “родство” в пользу термина “отношения, соотнесенность” (relatedness). Тем самым подчеркивается открытость разнообразию интерпретаций связей между людьми и отказ от предзаданного определения, что есть родство или семья (Carsten 2000: 4)3. Об отношениях могут говорить в том числе на языке “субстанций родства” – любых субстанций (от спермы и грудного молока до пищи, труда, совета, любви), перетекающих между людьми и создающих связи между ними (Ibid.: 21).
Эта статья продолжает мое исследование дискурсивного измерения современной массовой дачи, начатое в диссертации (Касаткина 2019) и в публикациях (Касаткина 2017а, 2017б). Ранее я составляла реестр жанров дачных разговоров – устойчивых коммуникативных форм дачной повседневности (Касаткина 2019), смотрела, как работают интонации в моих беседах с дачниками (Касаткина 2017а), и анализировала нарративное устройство рассказов о строительстве садового домика (Касаткина 2017б). При этом отношения внутри домохозяйств оставались на периферии моего внимания, и даже садовый домик я рассматривала как личный проект его строителя, где другие члены семьи играли вспомогательную роль. Здесь я собираюсь восполнить этот пробел.
На дачные разговоры первой обратила внимание антрополог Дж. Зависка. Она заметила, что в начале 2000-х годов именно в разговорах о дачном труде и экономическом значении дачи можно было наблюдать разнообразие мнений об идущих в стране экономических трансформациях (Zavisca 2003). Но ее интересовали только высказываемые в разговорах позиции. Дискурсивное измерение российской городской семьи находится в центре внимания И. Разумовой (Разумова 2001). На основе большого массива интервью она делает важное заключение о нечеткости границ современной семьи, откуда могут исключать кровных родственников (отец) и включать друзей, животных или даже автомобиль. Но И. Разумова, фольклорист, интересуется только бытованием в семьях устойчивых форм словесности, близких фольклору (семейные предания, песни, сказки, шутки).
Мой подход к дачным разговорам ближе к исследованиям коммуникативного измерения семьи, которые на материале американского городского среднего класса проводят лингвистический антрополог Э. Окс и ее коллеги (Ochs, Kremer-Sadlik 2013, 2015). Они рассматривают семью как “одновременно правовой институт и социальное достижение” (Ochs, Kremer-Sadlik 2015: 88), т.е. как результат повседневных коммуникативных взаимодействий. В обсуждениях повседневной рутины и планов, обменах мыслями и чувствами, в координации совместных действий поддерживаются и укрепляются (или ослабляются) семейные связи и в целом связность семьи как единицы родства и экономики (family connectedness) (Ibid.: 92). В обзоре современных работ о коммуникации в семьях американского среднего класса они показывают, как в разговорах родителей с детьми воспроизводятся ценности позднего капитализма: образованность, индивидуализм, свобода выбора и предприимчивость (Ochs, Kremer-Sadlik 2015).
Я тоже считаю, что домохозяйство воспроизводится в каждодневной коммуникации между его членами, а значит, анализируя эти взаимодействия, можно сделать выводы о границах и практическом и смысловом наполнении домохозяйства. Я основываюсь на общих положениях лингвистической антропологии, которая рассматривает коммуникацию как набор действий, выполняющих практические задачи во взаимодействии между ее участниками. Мне также помогут понятия “внутреннего диалога” М. Бахтина (Бахтин 1975), нарративного пространства Дж. Брунера (Bruner 1987) и измерений нарратива К. Янг (Young 1987). Мое исследование можно локализовать в рамках третьей волны лингвистической антропологии, для которой характерно использование анализа языка и коммуникации для работы с нелингвистической проблематикой (Duranti 2003). Исследуя воображаемые вселенные субъективных смыслов, которые ситуативно, в интервью со мной, создают разные члены одного домохозяйства, и столкновения между этими мирами в разговорах, я хочу дополнить представления антропологов о “домохозяйстве” и “домашней экономике”.
Термин “домохозяйство” редко встречается в обыденном языке и характерен для исследовательского (статистика) или юридического (семейное право) доменов. В обычной жизни мы скажем скорее “семья”. Поэтому из линейки качественных методов для исследования домохозяйства лучше всего подходит участвующее наблюдение, когда исследователь сам может решить, какие из наблюдаемых практик связаны с домохозяйством. Мое исследование основано на интервью с ограниченной долей наблюдения, причем я не упоминала слово “домохозяйство” и спрашивала своих собеседников об истории их садового участка, о его роли в жизни их семьи, об участии членов семьи в его освоении. Я спрашивала только о даче, а не о семейном бюджете в целом, но дача – часть домохозяйства, и разговор о ней неизбежно затрагивает целое. Более того, когда внимание собеседника не сфокусировано на экономике, он говорит о широком диапазоне практик, где исследователь, применяя субстантивистскую оптику, может разглядеть экономическое. Я вижу два способа связать полученные мной субъективные и ситуативные картины дачных практик с исследовательским понятием домохозяйства. Во-первых, я хочу соотнести исследовательское понятие домохозяйства с субъективными смыслами и горизонтами. Во-вторых, я хочу увидеть, как домохозяйство производится через коммуникативные взаимодействия.
Характеристика материала
Для этого исследования я выбрала два домохозяйства дачников и три глубинных интервью, которые собирала для проекта о “дачных разговорах” (всего в корпусе проекта около 30 интервью, собранных в период с 2007 по 2012 г.). В центре моего внимания конкретный вид российской массовой дачи – садовый участок, который в позднесоветское время горожане получали по месту работы. Это не старинная профессорская или номенклатурная дача со всеми удобствами и не деревенский дом, где горожанин создает свою сельскую утопию (Мельникова 2020). Садовые участки раздавали для улучшения продовольственного снабжения советских городов, часто на непригодных для сельского хозяйства землях, выработанных торфяниках или песчаных карьерах. На садовом участке обязательно нужно было заниматься садом и огородом, только во вторую очередь – отдыхать4. Дома могло не быть совсем (это и сейчас норма в маленьких городах, где до дачи можно дойти пешком). В обоих рассматриваемых случаях участки находятся в 1,5–2 час. езды общественным транспортом от Санкт-Петербурга, и мои собеседники построили там дома, но забота о саде и огороде остается важной частью их дачных занятий.
Выбранные мной примеры представляют два контрастных случая, а именно – два разных этапа жизненного цикла домохозяйства. В Случае 1 семейная ситуация стабильна, двое супругов рассказывают мне о своей дачной рутине и давно сложившихся отношениях. В Случае 2 семья переживает потерю мужа и отца и вынуждена переструктурировать свои хозяйственные практики. Кроме того, выбранные мной беседы дают доступ к двум формам коммуникации, сфокусированной на домохозяйстве: разговор о даче с интервьюером и разговор о даче между двумя членами семьи – так что я могла наблюдать коммуникативные практики, в которых воспроизводится домохозяйство.
Случай 1. Двое супругов-пенсионеров Елена (1938 г.р.) и Олег (1937 г.р.) живут5 в Петербурге в квартире, теплую половину года регулярно проводят на своем садовом участке в Приозерском районе Ленобласти. Их дочь (1962 г.р.) и сын (1970 г.р.) съехали каждый в отдельное жилье за 7-8 лет до момента интервью (декабрь 2007 г.) и поддерживают связь с родителями – навещают их несколько раз в месяц в городе. На дачу дочь ездит редко, сын – чаще. Внуков у них нет. Оба супруга по профессии инженеры и всю жизнь работали по специальности. Елена на пенсии с 1993 г., Олег – с 1998. Дети помогают им с крупными приобретениями, необходимыми для дачи, особенно дочь, у которой более высокий доход. Участок получила на работе Елена в 1991 г. и осваивала его вместе с Олегом. Я договорилась о встрече с Еленой и беседовала сначала с ней на кухне их квартиры. Но когда мы уже заканчивали разговор, с лыжной прогулки пришел Олег. Он охотно согласился тоже рассказать мне о даче, и Елена оставила нас вдвоем на кухне. Закончив свой рассказ, Олег принес альбомы дачных фотографий, и его комментарии к ним добавили существенные детали. Так у меня оказалось два отдельных интервью с супругами, длительностью около полутора часов каждое, и две версии дачной жизни этой семьи.
Случай 2. София (1953 г.р.) за полгода до интервью (январь 2008 г.) потеряла мужа, с которым с 1988 г. вместе осваивала свой садовый участок во Всеволжском районе Ленобласти. Ее дочь Вера (1977 г.р.) живет отдельно от матери с мужем и маленьким сыном, но часто приезжает к ней в гости. В один из таких визитов и было организовано наше интервью. Мы сидели за накрытым столом, и Вера участвовала в разговоре, так что я была свидетелем коммуникативных практик этой семьи. София – экономист по профессии и на момент интервью продолжает работать по специальности. Муж тоже работал, и на дачу они выбирались только по выходным и в отпуск, в теплое время года. Вера в детстве ездила на дачу с родителями, повзрослев, появлялась там нечасто, но, когда у нее родился ребенок, стала приезжать активнее. Ее муж бывает на даче свойственников редко. Я записала с Софией и Верой полуторачасовой разговор, где ведущая роль принадлежит Софии, а Вера вставляет уточнения и принимает участие в рассказывании историй, но ее собственный нарратив о даче и домохозяйстве слишком фрагментарен, чтобы его можно было анализировать наравне с нарративом Софии.
Обе рассматриваемые семьи имеют сравнительно высокий уровень достатка, и их садовые участки расположены в садоводствах советских НИИ и конструкторского бюро. В более бедных семьях или в заводских садовых товариществах организация и осмысление домашней экономики могут существенно отличаться.
Нарративное пространство и границы домохозяйства
Изучая воображаемые вселенные биографических нарративов, Дж. Брунер смотрит, какие локусы человек выбирает и какими смыслами наделяет их в своем рассказе (Bruner 1987). Рассказы моих собеседников тоже создают воображаемые вселенные, где дача сосуществует с городским жильем и другими локусами повседневной жизни и оплетена сетью отношений между людьми. Рассказывая о своей даче, супруги Елена и Олег включают в свои нарративные пространства разные места и разных людей.
Елена включает в пространство своего рассказа множество людей – прежде всего родственников, и своих, и Олега. Их жизненные ситуации так или иначе влияют на ритмы дачной жизни супругов: вот сестра забирает к себе на дачу пожилую маму – и Елена может спокойно заниматься участком, вот у сестры рождается внук – и Елена вынуждена отвлечься от дачи, чтобы заботиться о маме, а вот Олег долго не может достроить дом из-за болезни своей мамы. В этом пространстве циркулируют и внимание, и забота, и материальные ресурсы. Смерть мамы Елены позволила супругам купить отдельную квартиру для сына. Дети помогают родителям: покупают для дачи стройматериалы, приобрели генератор. Сын работал с отцом на строительстве дома, копал колодец. Дочь привозит и увозит супругов на своей машине. Елена выращивает большие урожаи, делает много заготовок, и дети “с удовольствием приезжают и забирают помногу-помногу”. Но пищевая “субстанция родства” циркулирует не только в узком кругу близких родственников. Елена обменивается своими заготовками с соседями по даче, приглашает их собирать излишки ягод. Сбор излишков, впрочем, оформляет далекие и эфемерные связи, которые легко можно разорвать, если приглашенные не были достаточно деликатны. В обменах советами и информацией участвуют соседи по даче и товарищи Елены по клубу цветоводов, куда она ходит в городе. А вот городские приятели, приезжая на дачу в гости, участвуют только в обмене общением. В нарративном пространстве Елены границы домохозяйства оказываются расплывчаты и могут ситуативно включать членов расширенной семьи, соседей, друзей. Локусы – квартиры, дачи – здесь важны и как пространства, и как материальные активы.
Совсем иначе строит свое нарративное пространство Олег. Он почти не упоминает других родственников, кроме жены и детей. Он несколько раз декларирует единство их нуклеарной семьи в вопросах приобретения и освоения участка, вплоть до противостояния его родителям, которые, будучи выходцами из деревни, отговаривали их с Еленой от дачи:
А.К.: Но вы были непреклонны?
Олег: Ну не то что, я говорю, что… я в это… что нам хорошо, конечно, помогало, что, в общем-то, в дачных вопросах мы с Еленой едины. Это я понял, что в любом деле плохой мир лучше хорошего раздора, поэтому, значит, ну, решили – решили, там. Сейчас уже многое забылось, я не помню, как. По-моему, я никогда не перечил ей… (ПМА 2).
Даже внутри нуклеарной семьи, если Елена говорит о финансовой помощи детей как о само собой разумеющемся вкладе в общее дело, то в словах Олега проскальзывает неловкость (“мы и так на шее у детей сидим”). Оба супруга рассказывают, как дочь настояла, чтобы Олег вышел на пенсию, но вкладывают в ее уста разные формулировки. В версии Елены, дочь потребовала, чтобы отец, наконец, достроил дом для всей семьи. Олег более тщательно обозначает разделение труда, когда цитирует реплику дочери: дом нужен для родителей, а дети согласны помочь его достроить.
Олег декларирует непроницаемость границ своего маленького домохозяйства: он старался построить дом исключительно силами семьи и согласился нанять только печника. И настаивает, что общение в мужской части их дачного соседства сведено к минимуму, а что-то просить считается невежливым:
Так и общаться, в общем-то, причин нету особенно. Потом, значит, это вот женщины-агрономички, они, там, может быть, друг у друга что-то посмотрят, поговорят, там, – разное. А эти, хозяева – это вот, или там… им, значит… они так все самолюбивые – про себя все. Ну, я так понимаю. Что если он что-то умеет, так ему неинтересно даже смотреть, что я умею. Потому что он этим как бы не может воспользоваться. Ну а, как говорится, сам себя вот так считает князем, может быть. Ну это такое, я считаю, хорошее честолюбие такое, профессиональное (ПМА 2).
Впрочем, жизнь отличается от деклараций. В нашу беседу жизнь прорывается в сюжетных нарративах, когда Олег рассказывает, как сосед своим трактором помогал затаскивать на участок бетонные кольца для колодца, и в фотографиях, где можно видеть на участке гораздо больше гостей, чем он упоминал.
Нарративное пространство у Софии, как и у Елены, наполнено людьми, и прежде всего родственниками. Дачный участок включен в сети взаимопомощи расширенной семьи. Свекр помогал мужу Софии строить дом и сам сделал для них оконные рамы. А пока не было своего участка, муж помогал отцу на его даче, куда София так не хотела ездить. Различные родственники, владеющие своими дачами, помогают достать саженцы яблонь и клубники, дядя мужа, работавший в лесном порту, достал стройматериалы. Дача становится местом встречи родственников и друзей. Мама Софии приезжала из Подмосковья помогать осваивать участок и потом каждый год летом жила на даче вместе с дочерью. Сейчас именно на даче София может пожить с внуком. Друзья и коллеги мужа помогали ему в тяжелых строительных работах, но отношения самой Софии с ее друзьями основаны на обменах общением и пищей, а не помощью: друзья приезжают на дачу праздновать ее день рождения; сама она привозит подруге на день рождения уникальные дары сада – свежие цветы и букетики пряных трав с грядки. Отношения с дочерью у Софии раскрываются не на уровне “рассказанного мира6”, а непосредственно в ситуации разговора, потому что дочь сидит рядом и часто вмешивается в беседу.
Нарративное разделение труда
Нарративное разделение труда – это и разделение труда в собственно рассказывании, т.е. о чем мои собеседники выбрали рассказать сами, а о чем предоставили говорить другим членам семьи, и разделение труда внутри мира рассказа, актуальное или желаемое, т.е. какие обязанности рассказчик отводит себе, а какие – другим.
“Мы” и “я”. В центре нарративного пространства, которое создает каждый мой собеседник, “я” рассказчика чередуется с коллективным деятелем, некоторым общим ядром семьи, представленным местоимением “мы”, которое включает супруга и (иногда) детей рассказчика. М. Стратерн, анализируя идеи о субъекте у горных племен Папуа Новой Гвинеи, обнаруживает не только “дивидов” – персон, которые, в противоположность цельным “индивидам” европейской мысли, способны “делиться”, т.е. актуализировать мужские или женские качества в зависимости от окружения, но и цельные кумулятивные “я”. Это “я” авторитетных мужчин группы – бигменов, которые, накапливая престиж и богатства, вступают в отношения обмена от имени всей группы (Strathern 1988: 223). Замеченное мной коллективное “мы” дачника заряжено не богатством и престижем, но силой действия, в данном случае не распределенного, а совместного, слитого и обобщенного (“мы строили дом” включает много операций, из которых какие-то производились действительно всеми членами семьи, а какие-то – и поодиночке). В дачных повествованиях ситуативно встречаются и другие “мы”, когда рассказчик говорит о себе как одном из членов клуба цветоводов, коллег по работе, соседей по даче. Но именно семейное “мы” проходит через весь рассказ, и с ним рассказчик соотносит свою индивидуальную траекторию, причем не всегда гладко, о чем говорят сбивчивые “мы… я…”. “Я” захотела и получила участок, но “мы” приехали посмотреть на него и “не знали, куда ногу поставить”; “мы” посадили первые яблони и до изнеможения их поливали; “мы” хотели участок с домиком, но “я” любила смотреть на мужа, когда он работает; “мы” мылись в канавах, но “я” построил баню; “мы” живем на даче все лето, но “я” выращиваю овощи; “я” делаю заготовки, но “мы” едим их всю зиму. Дом строил “я” – когда речь о деталях строительства, но дом строили “мы сами” – когда речь о найме других мастеров.
Семейное “мы” активно действует в первые трудные годы освоения участка, и именно здесь оно включает и детей тоже. Дальше траектории расходятся, мои собеседники “раскладывают” свое “мы”. Елена и Олег говорят больше от первого лица и редко переходят на “мы”. Интересы, задачи, заботы, отношения с соседями у каждого из супругов свои. София, напротив, рассказывает преимущественно от лица коллективного “мы”, создавая идеалистическую картинку семейного согласия, пока не вступает Вера, отмежевываясь от провозглашенного матерью коллективного стремления:
София: Но мы всегда старались, чтобы было как-то удобно и все красиво, да?
Вера: Ну, это ты старалась [смеется] (ПМА 3).
Позднее Вера более детально описывает разделение труда между родителями, продолжая, уже бережнее, вносить нюансы в дискурсивное единство семьи, которое перед тем любовно создавала ее мать:
Вера: Ты еще вспомни, как вы сначала дизайн проекта рисовали [смешок]. У нас же… у нас мама все сама сначала рисовала, что бы она хотела видеть, а потом папа придумывал, как это можно осуществить.
[София тихо смеется]
Вера: Какие нужны материалы и как вот это все сделать, чтобы бревна друг за друга цеплялись и не падали (ПМА 3).
Елена и Олег в своих рассказах чаще выступают как связанные друг с другом общим хозяйством, но автономные акторы, каждый – автономное “я” со своими задачами и сетями отношений. Они могут себе это позволить, поскольку каждый из супругов знает, что другой расскажет мне свою часть истории. София, оставшись без мужа, выбирает рассказать мне общую историю своей дачи. Прошло всего полгода со дня его преждевременной смерти, и София в беседе со мной выполняет в том числе задачу создания нового канона семейной истории, где линия мужа уже завершена, закрыта, а его образ обретает черты вечности. Своими добавлениями Вера делает свой вклад в становление их новой семейной истории и оспаривает монополию матери и на создание семейного канона, и на голос отца.
Диалоги внутренние и внешние. Нарративное разделение труда может оформляться внутренними диалогами (Бахтин 1975), которые рассказчик инсценирует, чтобы делегировать некоторые речевые действия другому. Так, София, рассказывая, как она испугалась, когда увидела, сколько труда предстоит на участке, слова утешения вкладывает в уста мужа:
Когда мы туда [на участок] приехали, и я увидела, что нужно лес валить, – всё [на вздохе]. Конечно, ужас охватывает, когда смотришь на все это… И думаешь: “Господи, никогда!” Ну, у меня был муж – золотые руки, и он сказал: “София! Будет домик-пряник”. Когда он так мне что говорил, я всегда верила, что действительно все будет, все получится у нас [с улыбкой] (ПМА 3).
Разыграв эту маленькую сценку, София в лицах продемонстрировала, как были устроены ее отношения в браке в целом.
Елена вводит в свой рассказ фигуру мужа-критика, который “ругает” ее за упорное выращивание почти бесполезных, но таких красивых баклажанов. Это позволяет ей одновременно и сохранить эстетический подход к садоводству, и признать существование другой, более утилитарной позиции, делегированной мужу7. И оба супруга вкладывают в уста дочери настояние, чтобы Олег ушел на пенсию и занялся, наконец, домом. Делегирование этих слов дочери здесь отмечает и дискурсивно исполняет переход главенства в домохозяйстве от старшего поколения к младшему.
Похоже, сюжет об уходе на пенсию вошел в фольклорный фонд этой семьи именно в такой диалогической форме. История о “строительном зуде”, который подтолкнул Олега построить хозблок для своих инструментов, – еще один пример семейного фольклора. На устойчивый характер этих сюжетов указывают отточенные многократным рассказыванием формальные элементы – диалоги, формулы, которые сохраняются в версиях обоих супругов. Такие истории отрабатываются в многочисленных практиках совместного рассказывания (Разумова 2001), подобных тем, что я наблюдала в совместном интервью с Софией и Верой, когда они говорили наперебой, дополняя и уточняя друг друга.
В итоге мать и дочь не только вместе рассказывают о том, как однажды папа чуть не остался наедине с пятью кубометрами застывшего бетона или как они вдвоем единственный день за все годы провели на даче, не работая, но и этим слаженным речевым действием поддерживают единство своей семьи.
Разделение труда и позиционирование в дискурсе. Разделение дачных обязанностей в двух парах очень похоже: муж занимается строительством и тяжелыми работами на участке, а жена выращиванием растений. И в обоих случаях отношения супругов выглядят неравноправными: жена так или иначе оказывается главной – той, для кого все делается. Но дискурсивно это главенство оформляется по-разному. Олег все свое повествование организует вокруг списка задач на участке, которые жена ставит, а он выполняет: построить дом, выкопать колодец, сделать душ и баню, освободить времянку от своих инструментов, устроить беседку, купить камни, проложить дорожку… Он рассказывает только о строительстве и ни слова не говорит об огороде. Лишь раз, за просмотром фотографий, он показал мне устроенную женой альпийскую горку и прокомментировал ее очень нежно: “наше любимое <…> гордость хозяйки” (ПМА 2). Все фотографии дачных построек Олег комментирует однотипно, инсценируя диалог с женой, где она отдает распоряжение (“Нам нужен душ, нужна баня”; ПМА 2), а он выполняет. Олег вообще тщательно контролирует свое повествование и последовательно выдерживает атмосферу семейного единства и мира, лишь единожды допустив намек на разногласия с женой (ему нравился старый душ, который он сделал сам, но жена “заставила разобрать”). Елена же описывает и строительный труд мужа, и участие детей как само собой разумеющиеся вклады в общее хозяйство. Кроме того, для нее граница разделения труда более прозрачна, и она рассказывает о строительстве тоже и, в целом благосклонно отзываясь о результатах труда мужа, критикует некоторые его строительные решения.
София вынуждена говорить и за себя, и за мужа, но реплику, которая позиционирует ее в их совместном дачном проекте, все же вкладывает в его уста: “Эх, была бы у нас земля, я б тебе такой домик-пряник построил!” – мечтает он, пока они гостят по дачам родственников, еще до появления своего участка. А теперь Софии и Вере предстоит первый дачный сезон без мужа и отца, и они еще не адаптировались к потере:
София: Только на даче нужно, чтобы был по[вар]… кто-то готовил [смеются]. Кто-то готовил. Кто-то по саду, да?
Вера: И кто-то строит.
София: И кто-то строит. Да. Три человека – это минимум. Да.
А.К.: Ну, вас здесь и было трое.
Вера: Ну у нас – да. Пока было трое, нормально было. Сейчас как-то… сразу чувствуешь, что не успеваешь чего-нибудь. Все время что-то упускаешь. Когда вдвоем (ПМА 3).
Например, легко упустить проверить погреб из металлического бака, врытого под домом, ведь раньше им занимался папа, и множество мелочей, о которых им еще предстоит вспомнить.
Как и Елена, София со знанием дела рассуждает о дачном строительстве, но она не критикует мужа и все строительные недочеты приписывает коллективному семейному “мы”. Оглядываясь назад, на безвозвратно ушедшее время своей жизни в браке, она ретроспективно любуется своим умелым работящим мужем и рисует картину дачной повседневности для двоих, где сочетание свежего воздуха и любви превращает самые тривиальные бытовые задачи в удовольствие:
Да, да, конечно, это все для удовольствия, да. А куда вот так, если цивильно, да, два любящих человека все выходные? Это или готовить, стирать в городе. А там все по-другому: ты делаешь вроде то же самое – готовишь, все, – но ты готовишь на воздухе, все это, да. Любимый человек твой вкалывает. [смеются] Так это приятно, да, – вымыться там, все, а ты ему подаешь, он рад, вкусно. Там все не спеша, все это сделаешь… Нет, это все приятно (ПМА 3).
Кто знает, как звучал бы рассказ Елены, если бы она, как София, не могла больше разделить нарративный труд с мужем? Нарративное разделение труда оказывается связано не столько с практическим разделением обязанностей, сколько с позицией рассказчика в семейной иерархии и с этапом жизненного цикла домохозяйства.
“Сиротеет дачка”: домохозяйство во времени
Этап жизненного цикла домохозяйства обуславливает ощущение времени в рассказе о нем. Елена и Олег на момент интервью переживают период стабильности, Олег говорит даже об угрозе стагнации. Перед Еленой огородные заботы каждый год ставят новые задачи, зато Олегу теперь, когда все, что нужно, на участке уже построено, не хватает возможности “чего-то добиваться, что-то реализовывать”, и он возмещает это спортом.
Дачники 1990-х годов строили свои садовые домики, мечтая о родовой усадьбе, в которой будут жить поколения их детей и внуков (Касаткина 2017б). У Елены и Олега нет внуков, и когда дом, построенный методом проб и ошибок, начинает понемногу разрушаться, то для Олега это не долгожданный новый вызов, а только повод для ощущения, что он “начинает переживать дом”. Дом, который после него, возможно, никому больше не понадобится.
У Софии есть маленький внук, но она гораздо ярче выражает тревогу за неясное будущее их дачного дома, который только что остался без хозяина. Кто теперь будет его достраивать? Кто доделает отмостку вокруг дома, чтобы дождями не размыло фундамент и дом не разрушился? София не верит, что Вера и ее муж будут этим заниматься. Вера готова помогать матери на участке и не собирается забрасывать дачу в дальнейшем, но дистанцируется от родительского проекта дачи (“Ясно же, что мы уже так вот не захотим делать”, – говорит она). В их резких обменах репликами слышится эхо застарелого конфликта. Продумывая будущий дом, София с мужем заложили возможность добавления комнат для новых поколений семьи. Теперь, когда мужа нет, а Вера с зятем приезжают редко, София чувствует хрупкость этих проектов будущего. Она делегирует абстрактным “умным людям” мысль, которую непросто проговорить самой: возможно, дома, строившегося на века, хватит только на ее собственную жизнь:
Ну, я так думаю – как мне умные люди сказали: “София Павловна, не переживай! Ты сколько лет собираешься жить на даче-то еще? Ну 20 лет будешь жить. 20 лет дом твой простоит. Через 20 лет он рухнет без отмостки. Захотят они, чтобы у них рухнуло, – сделают отмостку, не захотят делать – ну тебя уже не будет” [горько смеется] (ПМА 3).
Домохозяйство Софии проходит через сложный период перераспределения обязанностей и ролей, и это обостряет противоречия и взаимные претензии. Как бы ни мечтали родители, чтобы выросшие дети разделили с ними дачные заботы, садовый участок, освоенный старшим поколением, остается царством его вкусов, увлечений и образа жизни, и дети приезжают туда только погостить.
* * *
В рассмотренных беседах современное городское домохозяйство предстает как мультилокальная динамичная структура, состоящая из материальных объектов (дачный участок, дом, городская квартира) и сетей отношений, в которые они вплетены и по которым циркулируют различные субстанции, как материальные (урожай, домашние заготовки, деньги), так и нематериальные (труд, информация, внимание). Сеть отношений ситуативно может сжиматься до нуклеарной семьи или включать членов расширенной семьи, а также неродственников – соседей, друзей, коллег. Нарративная картина домохозяйства, которую создает человек в своем рассказе для интервьюера, может существенно отличаться от наблюдаемой со стороны по плотности и открытости сети. Тем не менее представляется важным регистрировать и учитывать эти отличия и особенно различия в рассказах членов одной семьи. Сравнение помогает увидеть, как члены одной семьи по-разному могут позиционировать себя и воспринимать одно и то же домохозяйство. Так, если Елена представляет себя внутри большой сети родственников и знакомых, по которой циркулируют разнообразные субстанции, то ее муж Олег делает акцент на автономии своей нуклеарной семьи. Напряжение между коллективным “мы” семьи и автономным “я” индивида задает нерв всем беседам о домохозяйстве и особенно там, где в разговоре участвует несколько его членов.
Оба рассматриваемых домохозяйства выращивают на дачах большие урожаи овощей. Елена и Олег круглый год едят свою картошку, морковку, свеклу. Елена делает много заготовок. Во время нашего интервью в декабре я видела связки своего, дачного, лука на стенах кухни. София в январе угощает меня дачной картошкой, сохранившейся с осени. Но никто из них не занимается этим от нужды. София даже полагает, что экономически дачные овощи не оправдывают затрат на их выращивание. Зато Елене удобно иметь овощи под рукой и не ходить за ними в магазин. И обе женщины уверены, что “с грядки все самое” (Елена) вкусное и здоровое. Для обеих дачниц выращивание овощей, фруктов, цветов на даче – это хобби и удовольствие. Если вспомнить континуум между “штаб-квартирой семейного самообеспечения” (Рис 2005: 236) и местом летнего отдыха, в который помещает дачу К. Саутворт (Southworth 2006), то на момент интервью в 2007–2008 гг. обе дачи ближе ко второй точке. Но очевидно, что они в любой момент могут переместиться к другому полюсу и начать кормить семью. И это еще один источник динамизма домохозяйства, где есть дача.
А пока хозяйственные дела на даче, т.е. занятия, связанные с жизнеобеспечением на даче, в рассказах моих собеседников не столько обеспечивают существование, сколько создают и поддерживают, оформляют и организуют отношения в семье и особенно между супругами. Муж строит для жены, она принимает его труд. Дети помогают трудом или деньгами; финансовая помощь ценна, но трудовой вклад – бесценен, поскольку предполагает личное участие и создает более близкие и вовлеченные отношения. Эстетика, удовольствие, отношения между людьми – своего рода нематериальное измерение дачной материальности, которое выходит на первый план в этом рекреационном режиме дачного хозяйствования.
Внутри городского домохозяйства дача – пространство интимности и близких дистанций и с другими людьми, и с самим собой (Caldwell 2011). Мои разговоры с дачниками полны разного рода напряжений и интенсивностей, которые могут и не получить вербального оформления: наслаждение от физической активности на природе, раздражение, порой вызываемое родственниками. Подробный анализ этих разговоров – задача другого исследования. Завершая сравнение нарративных вселенных двух домохозяйств, упомяну только об одном важном виде интенсивности – о любви. Нам часто бывает трудно говорить о своей любви вслух. В рассматриваемых семьях только София, оглядываясь назад, создавая заново свою дачную биографию, где образ ушедшего мужа застывает в вечности, описывает дачу как пространство любви, которая разворачивается и длится в повседневных домашних хлопотах и заботе друг о друге. Елена и Олег, описывая очень схожую картину совместного хозяйствования, о любви не говорят. Но их общая история еще продолжается и открыта изменениям.
Когда один из супругов умирает, дискурсивное измерение домохозяйства получает особенно важную роль: здесь формируется память об отношениях, оставшихся в прошлом, наполняются смыслом материальные объекты (дом, который папа построил из любви к маме), предлагаются и обсуждаются ориентиры для будущего. Ориентиры, которые новое поколение может отвергнуть, и тогда после ухода родителей дети забрасывают или продают дачу.
Благодарности
Я выражаю глубокую признательность за помощь в работе над статьей коллегам по проекту об антропологии домохозяйств, коллегам по Лаборатории антропологической лингвистики ИЛИ РАН и Антропологическому кружку Н.В. Ссорина-Чайкова.
Источники и материалы
ПМА 1 – Полевые материалы автора, 2007 г. Интервью (1,5 час.), информант Елена, 1938 г.р.
ПМА 2 – Полевые материалы автора, 2007 г. Интервью (1,5 час.), информант Олег, 1937 г.р.
ПМА 3 – Полевые материалы автора, 2008 г. Интервью (1,5 час.), информанты: София, 1953 г.р., Вера, 1977 г.р.
1 В этой статье понятия “дискурс” и “нарратив” не синонимичны и не связаны с какой-либо теоретической рамкой. Под дискурсом понимается коммуникативная практика в широком смысле, под нарративом – конкретные фрагменты дискурса, обладающие определенной структурой, сюжетом, логикой.
2 А. Смит и Э. Стеннинг указывают, что мультилокально, по сути, любое домохозяйство, где рабочее место отделено от места проживания (Smith, Stenning 2006).
3 По этой же главной причине – евроцентричность этих обобщающих категорий – антропологи отказались и от понятия “экономика” (подробнее см. статью Н.В. Ссорина-Чайкова в наст. выпуске).
4 Такая иерархия назначений садового участка сохранялась и в современном законодательстве вплоть до 2017 г., когда был принят новый закон о садоводстве и огородничестве.
5 Настоящее время здесь и далее – это время на момент интервью, т.е. конец 2007 – начало 2008 г.
6 Исследовательница нарративов К. Янг выделяет в устных нарративах измерения “рассказанного мира” (taleworld – воображаемое пространство внутри повествования) и взаимодействия говорящего и слушателей (storyrealm) (Young 1987).
7 Действительно ли Олег недоволен “баклажанным” увлечением супруги, остается неизвестным. Как бы то ни было, дихотомия эстетического и утилитарного в устах Елены гендерно окрашена и выдержана в той же культурной логике, что и “мужской” запрет на “женское” украшение избушек в статье Л. Рахмановой в этом спецвыпуске.
Sobre autores
Alexandra Kasatkina
Higher School of Economics – Saint Petersburg Branch
Autor responsável pela correspondência
Email: alexkasatkina@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-8827-9696
к. и. н., доцент
Rússia, Saint PetersburgBibliografia
- Bakhtin, M.M. 1975. Slovo v romane [The Word in the Novel]. In Voprosy literatury i estetiki [Questions of Literature and Aesthetics], by M.M. Bakhtin, 72–233. Moscow: Khudozhestvennaia literatura.
- Bruner, J. 1987. Life as Narrative. Social Research.54 (1): 11–32.
- Caldwell, M. 2011. Dacha Idylls: Living Organically in Russia’s Countryside. Berkeley: University of California Press.
- Carsten, J. 2000. Introduction: Cultures of Relatedness. In Cultures of Relatedness: New Approaches to the Study of Kinship, edited by J. Carsten, 1–36. Cambridge: Cambridge University Press.
- Casimir, G.J., and H. Tobi. 2011. Defining and Using the Concept of Household: A Systematic Review. International Journal of Consumer Studies 35: 498–506. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2011.01024.x
- Chekhovskikh, I.A. 2000. Gorodskie semeinye strategii v neformal’noi ekonomike: trud na dache [Urban family Strategies in the Informal Economy: Work in the Country]. PhD diss. University of Economics (St. Petersburg).
- Clarke, S., et al. 2000. The Myth of the Urban Peasant. Work, Employment and Society 14 (3): 481–499. https://doi.org/10.1177/09500170022118536
- Duranti, A. 2003. Language as Culture in US Anthropology: Three Paradigms. Current Anthropology 44 (3): 323–347. https://doi.org/10.1086/368118
- Galtz, N.R. 2000. Space and the Everyday: An Historical Sociology of the Moscow Dacha. PhD diss. University of Michigan.
- Kasatkina, A.K. 2017. Intonirovanie pozitsii v issledovatel’skom interv’iu, ili muzyka so smyslom [Intonation of Positions in a Research Interview, Or Music with Meaning]. Praktiki i interpretatsii 4: 83–93. https://doi.org/10.23683/2415-8852-2017-4-83-93
- Kasatkina, A.K. 2017. Sadovyi domik i ego stroitel’ v razgovorakh s sadovodami nachala XXI v. [A Garden House and Its Builder in Conversations with Gardeners at the Beginning of the 21st Century]. In Experto crede Alberto: sbornik statei k 70-letiiu Al’berta Kashfullovicha Baiburina [Experto crede Alberto: Collection of Articles for the 70th Anniversary of Albert Kashfullovich Bayburin], edited by A. Piir and M. Pirogovskaia, 195–215. St. Petersburg: Izdatel’stvo EUSPb.
- Kasatkina, A.K. 2019. Dachnye razgovory kak ob’ekt etnograficheskogo issledovaniia: razrabotka metoda (na materiale interv’iu ob osvoenii sadovykh uchastkov v 1980-е – 1990-е gg.) [Dacha Conversations as an Object of Ethnographic Research: Development of a Method (Based on Interviews about the Development of Garden Plots in the 1980s–1990s)]. PhD diss., Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography.
- Kasatkina, A. 2021. Zur Aufhebung der Unterscheidung von Arbeit und Freizeit im Marxismus (am Beispiel der postsowjetischen Datscha) [On the Elimination of the Distinction between Work and Leisure in Marxism (Basing on the Example of Post-Soviet Dacha)]. In Verordnete Arbeit – Gelenkte Freizeit. Musse in der Sowjetkultur? [Prescribed Work – Controlled Leisure: Leisure in Soviet Culture?], edited by E. Cheauré, 489–508. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Lovell, S. 2008. Dachniki. Istoriia letnego zhit’ia v Rossii, 1710–2000 [Summer Residents: History of Summer Living in Russia, 1710–2000]. St. Petersburg: Akademicheskii proekt.
- Melnikova, E.A. 2020. Derevnia v gorodskikh proektsiiakh sovremennykh rossiian [Village in Urban Projections of Modern Russians]. Etnograficheskoe obozrenie 6: 5–11. https://doi.org/10.31857/S086954150013117-8
- Mikheeva, Z.A. 2012. Suburbanizatsiia kak instrument resheniia zhilishchnoi problemy Sankt-Peterburga i Leningradskoi oblasti [Suburbanization as a Tool for Solving the Housing Problem of St. Petersburg and the Leningrad Region]. PhD diss abstract. St. Petersburg State University.
- Ochs, E., and T. Kremer-Sadlik, eds. 2013. Fast-Forward Family: Home, Work, and Relationships in Miiddle-Class America. Berkeley: University of California Press.
- Ochs, E., and T. Kremer-Sadlik. 2015. How Postindustrial Families Talk. Annual Review of Anthropology 44: 87–103. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102214-014027
- Razumova, I.A. 2001. Potaennoe znanie sovremennoi russkoi sem’i [Secret Knowledge of the Modern Russian Family]. Moscow: Indrik.
- Ries, N. 2005. Russkie razgovory: kul’tura i rechevaia povsednevnost’ epokhi perestroiki [Russian Talk: Culture and Everyday Speech of the Perestroika Era]. Moscow: NLO.
- Rose, R., and Y. Tikhomirov. 1993. Who Grows Food in Russia and Eastern Europe? Post-Soviet Geography 34 (2): 111–126. https://doi.org/10.1080/10605851.1993.10640922
- Seeth, H.T., et al. 1998. Russian Poverty: Muddling Through Economic Transition with Garden Plot. World Development 26 (9): 1611–1623.
- Smith, A., and A. Stenning. 2006. Beyond Household Economies: Articulations and Spaces of Economic Practice in Postsocialism. Progress in Human Geography 30 (2): 190–213. https://doi.org/10.1191/0309132506ph601oa
- Southworth, C. 2006. The Dacha Debate: Household Agriculture and Labor Markets in Post‐Socialist Russia. Rural Sociology 71 (3): 451–478. https://doi.org/10.1526/003601106778070671
- Strathern, M. 1988. The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in Melanesia. Berkeley: University of California Press.
- Wilk, R. 1991. The Household in Anthropology: Panacea or Problem? Reviews in Anthropology 20 (1): 1–12. https://doi.org/10.1080/00988157.1991.9977987
- Young, K. 1987. Taleworlds and Storyrealms: The Phenomenology of Narrative. Dordrecht: Martinus Nijhoff.
- Zavisca, J. 2003. Contesting Capitalism at the Post-Soviet Dacha: The Meaning of Food Cultivation for Urban Russians. Slavic Review 62 (4): 786–810. https://doi.org/10.2307/3185655
Arquivos suplementares