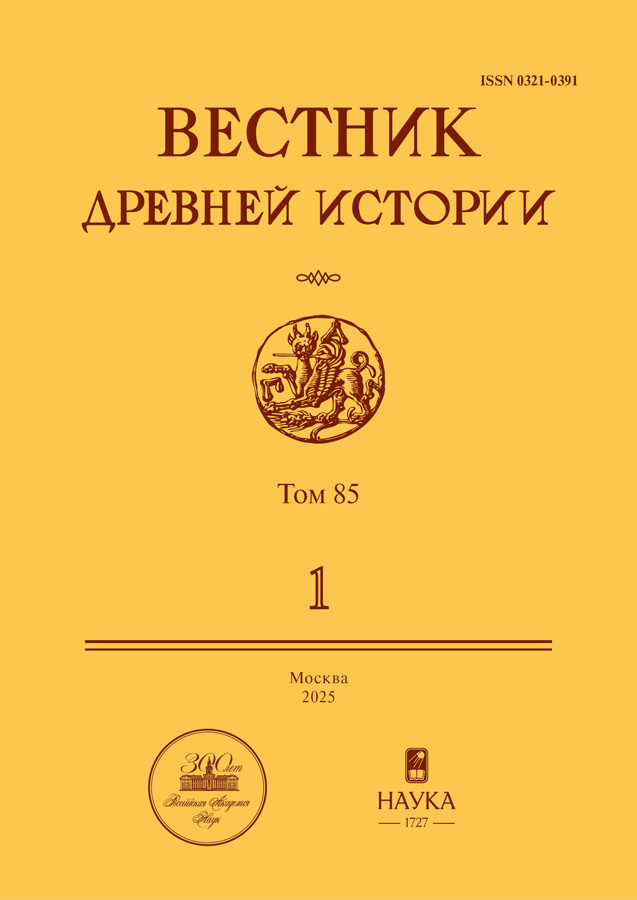Староассирийская легенда о Саргоне
- Авторы: Архипов И.С.1,2, Успенский А.Ф.3,2
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики
- Выпуск: Том 84, № 2 (2024)
- Страницы: 502-536
- Раздел: Приложение
- URL: https://bakhtiniada.ru/0321-0391/article/view/277504
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0321039124020143
- ID: 277504
Полный текст
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Канеш (Кюльтепе) в центральной Анатолии – один из ключевых археологических памятников древнего Ближнего Востока. Расцвет города приходится на Староассирийский период – первые два века II тыс. до н. э., когда в Канеше находилась торговая колония, основанная выходцами из города Ашшур, будущей столицы Ассирии1. Раскопки городища начались в конце XIX в. С 1948 г. и до настоящего времени они ведутся турецкими археологами2. Среди находок, сделанных при раскопках, особое место занимают более 23000 клинописных табличек (из них опубликовано пока около трети), которые написаны на староассирийском диалекте аккадского языка и происходят главным образом из домашних архивов ашшурских купцов3. Подавляющее большинство из них составляют письма, договоры и хозяйственные документы. Крохотный корпус староассирийских литературных текстов из Канеша включает одиннадцать заклинаний4, царскую надпись5, несколько школьных табличек6 и один уникальный текст о Саргоне Аккадском, которому и посвящена настоящая публикация7.
Табличка с инвентарным номером Kt j/k 97 была обнаружена в 1958 г. при раскопках дома, где жил один из ашшурских купцов, вероятно, по имени Ах-шалим. Он принадлежал к высшим слоям ашшурского общества: предметом одного из договоров, найденных в этом же доме, было олово в емкости с печатью царя Пузур-Ашшура (1877–1870 гг. до н. э.), а одним из свидетелей сделки выступал сын предыдущего царя8. Дом относится к слою Кюльтепе II и был разрушен вместе с остальным городом около 1836 г. до н. э. Соответственно, интересующая нас табличка была создана не позднее этой даты.
Текст на табличке был опубликован только в 1997 г., с турецким переводом9. К настоящему времени вышли четыре английских10, два немецких11 и один французский12 перевод с более или менее подробными комментариями, не считая работ, где рассматриваются отдельные трудные места произведения13. Стандартным, на наш взгляд, остается издание Я. Г. Дерксена 2005 г., содержащее, среди прочего, подробный обзор и критику более ранних переводов М. Ван Де Миропа, К. Хекера и Б. Фостера. Опубликованный в том же году перевод А. Кавиньо менее достоверен, а издание Б. Альстера и Т. Осимы 2007 г. демонстрирует скорее регресс в понимании текста. Тем не менее, обе эти работы содержат отдельные ценные предложения. Перевод М. Хауля, вышедший в 2009 г., был фактически выполнен в 2004 г.14 и не учитывает издания следующих лет.
Литературное произведение, дошедшее до наших дней на табличке Kt j/k 97, в современной науке обычно фигурирует под названием «Староассирийская легенда о Саргоне» (далее – «Легенда»). В нем рассказывается о деяниях основателя Староаккадской державы – Саргона Древнего (2334–2279 гг. до н. э.). Текст из 66 строк в композиционном отношении делится на шесть частей. Во вводной части приводится развернутая титулатура Саргона, содержащая, в частности, отсылки к его основным военным и политическим свершениям. Следующие четыре части повествуют о четырех прямо не связанных между собой эпизодах из жизни Саргона – спортивной игре, царском пире, «блуждании во тьме» и унижении коренных жителей Малой Азии и прилегающих областей (подробнее об этих мотивах см. ниже). В заключительной, шестой, части текста в центре внимания оказывается связь Саргона с миром богов и заупокойным культом.
ЖАНРОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ «ЛЕГЕНДЫ»
«Легенда» принадлежит к довольно обширному корпусу месопотамских произведений, рассказывающих о подвигах Саргона. Содержательно и стилистически c ними тесно связаны также легенды о его внуке, царе Аккада Нарам-Сине (2254–2219 гг. до н. э.)15. Рукописи этих произведений датируются временем от собственно Староаккадского периода до середины I тыс. до н. э. В их сюжетах переплетаются отсылки к подлинным историческим событиям, известным прежде всего по надписям самих староаккадских царей, и очевидно фантастические и фольклорные мотивы. В жанровом отношении корпус достаточно разнороден: в нем встречаются как поэтические сочинения эпического или лирического рода, так и прозаические «письма» (очевидно, фиктивные). Большинство произведений написаны на гимно-эпической разновидности старовавилонского диалекта или на близко связанном с ней младовавилонском диалекте аккадского языка, однако в корпусе встречаются и единичные тексты на других аккадских диалектах, а также на шумерском и хеттском языках.
Даже с учетом гетерогенности корпуса «Легенда» заметно выделяется на фоне прочих произведений саргоновского цикла. Во-первых, это единственное сочинение, составленное на староассирийском (и вообще на ассирийском) диалекте аккадского языка. Во-вторых, поэтика «Легенды» – написанной, судя по всему, литературной прозой (см. ниже) – сближает ее скорее с царскими надписями, чем с эпическими произведениями. Кроме того, компилятивный характер «Легенды» противопоставляет ее другим произведениям о Саргоне и Нарам-Сине, как правило, имеющим единый сюжет. Наконец, не находит очевидных параллелей в других произведениях корпуса и предполагаемый комический пафос «Легенды».
В научной литературе о «Легенде» высказывались в этой связи самые разнообразные точки зрения о ее жанровой природе и о причинах, стоящих за ее составлением. Хекер, насколько мы можем судить, остается единственным исследователем, принимавшим произведение за копию подлинной надписи Саргона Аккадского. Ван Де Мироп впервые, опираясь на устное предположение М. Ливерани, охарактеризовал наш текст как пародию на староаккадские царские надписи16. Позже сам Ливерани развил эту точку зрения в специальной работе17. К этому направлению мысли присоединился Фостер, определивший памятник как пародию на легенды саргоновского цикла18, в которой в сатирическом ключе переиначиваются знаменитые пассажи из надписей староаккадских царей19. Особое внимание он уделяет разного рода каламбурам и играм слов, с помощью которых составитель «Легенды» якобы высмеивает классический формуляр надписей20. Однако конкретные примеры такого рода каламбуров, которые приводит Фостер, были признаны в позднейшей литературе крайне неубедительными или основанными на ошибочном прочтении текста21. Кавиньо также не отказывается полностью от пародийной интерпретации текста, однако обращает большее внимание на его уникальный характер и на особый интерес к историческому прошлому, который послужил, по мнению исследователя, толчком для составления памятника22. В целом гипотеза о пародийной природе нашего текста пользуется известной популярностью в ассириологической литературе, не посвященной специально «Легенде»23.
Теория о «Легенде» как пародии на староаккадские царские надписи строится на следующих основаниях. Многие использованные в этом сочинении топосы обнаруживают параллели с пассажами из надписей (см. ниже), однако содержание этих топосов всегда оказывается гиперболизированным. Так, например, в два с лишним раза увеличено количество участников пира при дворе Саргона, а мотив многочисленных царских побед, одержанных в течение одного года, преображен таким образом, что все они происходят в течение одного дня24. Развивая эту идею, исследователи предполагают комический эффект и для тех эпизодов, которые не обнаруживают непосредственных параллелей в царских надписях: высмеиванием самохвального стиля надписей считается, например, история о пребывании Саргона во тьме или упоминание его прикосновения к «небесным зубцам»25.
Многие суждения о комическом или пародийном характере «Легенды» неизбежно оказываются субъективными26. В этой связи любопытны замечания Дж. Гудник Вестенхольц о фольклорной основе текста. Например, она указывает на то, что описания огромных пиршеств типологически характерны для эпических текстов, прославляющих деяния героя27. В целом, по ее мнению, текст представляет собой не пародию, но произведение, сочетающее в себе черты эпического, фольклорного и исторического нарратива. Однозначная жанровая идентификация такого памятника невозможна28. Сравнительно близки к этим мыслям и выводы, к которым приходят Альстер и Осима. Они также отрицают пародийную природу текста, хотя и признают, что он изобилует «комическими преувеличениями». Вслед за Кавиньо они придают особое значение уникальности памятника и предполагают, что он был результатом литературной импровизации, включившей в себя более или менее разнородные элементы, отражающие интересы его составителя29. Остроумным представляется типологическое сближение Легенды с таким памятником, как «История Александра Великого» Псевдо-Калисфена30.
Наконец, принципиально иную функциональную интерпретацию «Легенды» предлагает Дерксен31. По его мнению, она была составлена для использования в рамках заупокойного культа обожествленного Саргона32. Он указывает на сведения о почитании Саргона и Нарам-Сина, содержащиеся в тексте о ритуале kispum33, найденном в старовавилонских архивах города Мари34. Судя по всему, этот текст был составлен в эпоху правления Шамши-Адада, царя обширной державы на севере Месопотамии, включавшей в том числе и земли Ашшура. Вполне вероятно, что перечисление в списке поминаемых предков двух царей Саргоновского периода связано с желанием Шамши-Адада включить их в свою генеалогию. Дерксен предполагает, что схожие генеалогические построения, подразумевавшие заупокойный культ, могли бытовать и в более раннее время среди правителей Ашшура. В качестве косвенных аргументов в поддержку этой идеи он указывает на тот факт, что два староассирийских правителя XIX в. до н. э. носили имена великих царей Староаккадского периода – Саргона и Нарам-Сина.
Верификация толкования, которое предлагает Дерксен, в значительной степени осложнена неполнотой дошедших до наших дней данных. Так, практически ничего не известно сегодня о культе предков среди правителей Ашшура в Староассирийский период35. Вызывает сомнения также вопрос о том, зачем было бы включать в «поминальное» произведение такие эпизоды, как история о «провинившемся поваре» (стк. 36–37), или по меньшей мере причудливые описания наказаний, которые наложил Саргон Древний на завоеванные им народы (стк. 50–62). Тем не менее, сильной стороной гипотезы Дерксена, несомненно, является тот факт, что она прекрасно согласуется с окончанием текста, в котором Саргон требует увеличения приносимых ему жертвоприношений (šattukkum, стк. 66).
Нам представляется, что сегодня невозможно прийти к однозначным выводам относительно жанровой природы «Легенды». Каждая из перечисленных выше гипотез имеет как свои преимущества, так и значимые недостатки. Тем не менее, в ходе академической дискуссии были определены многие характерные черты этого текста. Упомянем лишь некоторые из них.
Несомненно, что за составлением «Легенды» стоял исключительный интерес к Саргоновскому периоду в истории Месопотамии. Составитель текста был, по всей видимости, знаком как с письменными памятниками, прославляющими царей III тыс. до н. э. (царские надписи, шумерские царские гимны), так и с фольклорной традицией, отразившейся позже в легендах саргоновского цикла. Нельзя исключить, что отдельные эпизоды должны были восприниматься аудиторией как комические, однако в целом образ Саргона в этом тексте вполне соответствует образу эпического героя, известного по позднейшим произведениям. Наконец, значима и выявленная неоднородность образности, топики и тематической структуры памятника, которая служит косвенным подтверждением идеи о «Легенде» как единичном тексте, другие рукописи которого вряд ли когда-либо будут обнаружены.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ СИНОПСИС «ЛЕГЕНДЫ»
Титулатура и клятва Саргона
Эпитеты и титулы Саргона в начальной части «Легенды» обнаруживают параллели со староаккадскими царскими надписями и шумерскими царскими гимнами. Сообщение о том, что Саргон сразился c семьюдесятью городами в течении всего одного дня (стк. 8–9), напоминает царский эпитет Нарам-Сина «тот, кто выиграл девять битв за один год»36, связанный с подавлением так называемого великого восстания против царя Аккада37. Топос «одного года», подразумевающий совершение правителем какого-то трудоемкого действия в течение краткого периода, обрел большую популярность в царских надписях Ассирии и Вавилонии, начиная со Старовавилонского периода (при этом в староассирийских надписях он отсутствует). Напротив, обозначение пределов владений царя как «страны от восхода солнца до захода солнца» (стк. 5–7) не имеет дословного соответствия в саргоновских надписях – пределы завоеваний обычно обозначаются здесь с помощью конкретных топонимов, таких, например, как Верхнее море и Нижнее море или Элам и Субарту, также подразумевающих, впрочем, идею власти правителя над всем известным миром38. В то же время точное соответствие – «от восхода солнца до захода солнца» – обнаруживается в шумероязычных надписях Лугальзагеси, царя Урука и главного противника Саргона Аккадского39. Наконец, мотив «разговора с богами» (стк. 3–4) объединяет «Легенду», в первую очередь, с шумерской царской литературой. Так, царь Шульги похваляется тем, что беседует с богом солнца Уту40, а царь Энсукукешдана в шумерской поэме «Энмеркар и Энсукукешдана» сообщает, что общается с богиней Инанной на рассвете41.
Следующие затем три части «Легенды» начинаются с клятвы, которая появляется один раз в расширенном виде, с эпитетами при именах богов («Клянусь Ададом, хозяином силы, и Иштар, хозяйкой битвы») и дважды в кратком виде («Клянусь Ададом и Иштар»). Бог Адад играет в тексте центральную роль42: именно он называется источником могущества Саргона в начале «Легенды» (стк. 4), а в конце текста именуется царем (стк. 66, ср. обсуждение ниже)43. Иштар же, возможно, появляется в «Легенде» под влиянием клятвенной формулы староаккадских царских надписей (см. ниже с прим. 48).
В формуле клятвы, представленной в нашем тексте, находит отражение топос «искренности царского высказывания»44: он подразумевает эксплицитное заверение от лица царя в том, что описание каких-либо исключительных событий правдиво, несмотря на их кажущееся неправдоподобие и на возможные сомнения аудитории. Первая известная реализация этого топоса обнаруживается в царских надписях староаккадского царя Римуша, также в виде клятвы:
«Он клянется Шамашем и Илабой: (это) не вымыслы, (это) истинно (так)!»45
Такая же клятва, с небольшими отличиями, повторяется затем в царских надписях двух других царей Саргоновской династии – Маништушу46 и Нарам-Сина47. Позже содержательно и структурно схожее изречение48 появляется в шумерских гимнах, прославляющих царей III династии Ура и I династии Исина, Шульги49 и Ишме-Дагана50. Ср., например, в гимне Шульги:
«Что касается содержания моих песен, всех, какие есть, – (это) не ложь, (но это) правда» (гимн Шульги E)51.
Наконец, по царским текстам I тыс. до н. э. известно еще несколько примеров клятвы в истинности описываемых событий, формуляр которой восходит, очевидно, к староаккадским царским надписям52.
Исследователи обычно предполагают, что клятва из «Легенды» представляет собой сокращенный вариант этого же формульного комплекса или своего рода аллюзию на него53. Несмотря на очевидные расхождения – отсутствие эксплицитного утверждения истинности и отрицания лживости высказывания, упоминание других божеств, отличие в глагольном лице, – общая ориентация «Легенды» на топику староаккадских царских надписей делает эту гипотезу вполне убедительной. Существенно, что обсуждаемая формула никогда не встречается в дошедших до нас надписях самого Саргона. Возможно, мы имеем дело с анахронистическим выравниванием в культурной памяти Древней Месопотамии, в рамках которого с Саргоном Древним ассоциировался топос, изначально связанный с произведениями других царей Саргоновской династии54.
Нетрудно заметить, что повторяющаяся клятва выполняет в тексте «Легенды» еще и важную композиционную функцию – она задает рамочную конструкцию, благодаря которой текст делится на несколько частей, каждая из которых связана с определенным эпизодом55. Первое использование клятвы в тексте (стк. 11–13) помечает переход от вводной части, с титулатурой и развернутыми эпитетами Саргона, к первому эпизоду, в котором Саргон в ходе атлетического состязания ловит газель56. Второй случай ее употребления (стк. 18–19) отделяет эпизод с газелью от описания царских пиров при дворе Саргона и истории о провинившемся поваре, а после третьей клятвы (стк. 40–41) повествователь обращается к событиям, связанным с путешествиями и, возможно, также завоеваниями Саргона57. Не предваряется клятвой только заключительная часть произведения, однако содержащиеся здесь риторические вопросы («Зачем мне умножать слова на табличке? Разве Ану меня не знает?»)58 вновь возвращают нас к теме искренности царского высказывания. Апелляция к божественному всезнанию во втором вопросе объясняет первый вопрос: рассказчик как бы утверждает, что дальнейшее изложение бессмысленно потому, что все излагаемое уже известно божеству59. Кроме того, этот прием также указывает на истинность всего изложенного в предшествующем тексте: рассказчику не имеет смысла лгать, поскольку все им излагаемое уже известно божеству и может быть им «проверено».
Атлетический подвиг Саргона
Очень необычен первый эпизод «Легенды», в котором царь, демонстрируя свои атлетические качества, успевает поймать газель, пока в воде тонет кирпич, попутно надевая на себя змею взамен порвавшегося пояса. Общие содержательные параллели к этому эпизоду известны, в частности, из гимнов Шульги:
«Я – Шульги, газель на бегу я могу схватить!» (гимн Шульги B)60.
Мотив царя как выдающегося бегуна играет большую роль также в гимне Шульги A, где правитель всего за один день преодолевает расстояние от Ниппура до Ура и обратно61. Позже этот мотив был заимствован в гимны Ишме-Дагана62. В несколько преображенном виде этот образ появляется и в Ветхом Завете63:
«Бог препоясует меня силою, устрояет мне верный путь; делает ноги мои как оленьи, и на высотах поставляет меня»64;
«Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей; быстрее орлов, сильнее львов они были»65.
Что касается микромотива использования змеи в качестве пояса, параллелей к нему в ближневосточной литературе до сих пор не обнаружено. Дж. Гудник-Вестенхольц указывает66, однако, что он представлен в «Эпосе о Силамаке» народа фульбе (Западная Африка). Силамака, сын одного из вождей фульбе, уже с детства проявлявший героические качества, собирается выступить против царя Да Мозона. Для того, чтобы обрести магическую защиту в этом предприятии, он должен сделать себе пояс из змеи, которая обитает в роще деревьев-галамани. Никому из других воинов это не удается, но Силамака ловит змею, помечает ее особыми знаками и изготавливает из нее пояс67. О наличии микромотива «змея как пояс» в фольклорных традициях Индии и Индонезии свидетельствуют также данные указателя фольклорных мотивов Томпсона68, ср. мотивы K1023.1.1 «Dupe allowed to guard “king’s girdle”: it is a snake, which bites him» (Индонезия) и A.123.10 «God (deity) girdled with snakes; on his forehead shines the moon» (Индия).
Царский пир
Топос, несомненно связанный с литературной ориентацией «Легенды» на староаккадский корпус царских надписей, – описание царских пиров во втором эпизоде произведения (стк. 19–28). Здесь подробно рассказывается о гигантских трапезах, устраиваемых при дворе Саргона. Описание это родственно более лаконичному пассажу из надписи самого Саргона Аккадского:
«5400 человек ежедневно ели перед ним хлеб»69.
С одной стороны, царь похваляется здесь своей способностью устраивать постоянные пиры для огромного количества людей. С другой стороны, он подчеркивает собственную близость к подданным, вероятно даже конкретнее, к своей дружине70. Именно эта идея, предположительно, выражена с помощью употребленного здесь выражения «есть хлеб перед кем-либо», не имеющего точных соответствий в аккадском языке, но обнаруживающего любопытные параллели в Ветхом завете71. В «Легенде» активно задействованы оба упомянутых аспекта топоса из надписи Саргона. Во-первых, заметно гиперболизировано количество участников царского пира (их общее число – 11000)72. Во-вторых, в тексте эксплицитно упомянуты должности пирующих, из которых большую часть составляют воины.
Феномен царского пира с воинами и приближенными известен нам отнюдь не только по литературным памятникам. Многочисленные данные о таком явлении, как «царская трапеза» (акк. naptan šarrim, paššūr šarrim), происходят из дворцовых архивов старовавилонского Мари73. Особенно любопытно эпистолярное свидетельство (письмо царя Шамши-Адада своему сыну Ясмах-Адду, наместнику Мари), в котором наглядно формулируется обязанность правителя устраивать пиршество для воинов (царское noblesse oblige, по удачному выражению Дж. Сассона):
«Пусть они (солдаты, обеспечивающие защиту города Мари) постоянно присутствуют перед тобой на пиру. Не подавай им ничего неподобающего, но пусть они пируют изобильно!»74
Таким образом, описание царского пира в «Легенде» является, с одной стороны, гиперболизированной аллюзией на пассаж из надписи Саргона Аккадского, а с другой, апеллирует к хорошо известным читателю реалиям институализированной царской трапезы с войском.
Саргон на краю света
Третий эпизод «Легенды» основан на мотиве блуждания Саргона во тьме (стк. 41–46), который появляется, кроме нашего текста, в одной из старовавилонских саргоновских легенд, а также в так называемых исторических оменах аккадских гаданий75:
«Забрел Саргон в страну Ута-рапашти. Лес, будто враг, на него ополчился, напустил мрак на свет небесный, потемнело солнце, на врага выступили звезды»76;
«Знамение Саргона: когда он забрел (вар.: зашел) во тьму, но увидел свет (вар.: ему явился свет)» (старовавилонская версия омена);
«Знамение Саргона: когда он пошел в страну Мархаши и в скитании во тьме Иштар явила ему свет» (младовавилонская версия омена)77.
Место, где происходит этот эпизод, – страна Мархаши, действительно существовавшая в III тыс. до н. э. в восточном Иране78, – прямо указывается только в поздней версии омена. Другие тексты свидетельствуют о более ранней традиции, согласно которой Саргон оказался в темноте во время путешествия на край света. Так, Ута-рапашти в приведенном выше отрывке из старовавилонской легенды скорее всего связан с Ут(а)-напишти – пережившим всемирный потоп легендарным героем, который жил за мировым океаном79. Наш текст также принадлежит к этой традиции: как отмечает Кавиньо, сердолик и ляпис-лазурь, которыми Саргон украсил мерило, выходя из темноты (стк. 44–46), происходят из сада драгоценных камней, находившегося на краю света согласно «Эпосу о Гильгамеше»80. В поисках бессмертного Ут-Напишти Гильгамеш проходит «путь солнца» в полной темноте и выходит в сад, где на деревьях растут сердолик и ляпис-лазурь81. Кроме того, согласно «Вавилонской карте мира», произведению VIII или VII в. до н. э., за омывающим землю океаном, на севере у Великой Стены Неба и Земли, был расположен остров, «где не видно солнца»82. Мотив восхождения Саргона на Стену Неба и Земли также присутствует в легендах саргоновского цикла83.
С «Эпосом о Гильгамеше», безусловно, сближает наш текст и упоминание о том, что Саргон разделил гору – предположительно, хребет Аманус (см. комментарий) – на две части (стк. 47–48). В V таблице канонической версии «Эпоса о Гильгамеше» сообщается о том, что во время битвы Гильгамеша и монстра Хувавы Кедровая Гора (в данном случае – Ливанские горы) раскололась на две части. Согласно одной из старовавилонских версий «Эпоса», причиной появления двух гор стал крик Хувавы:
«Сразил он чудище, стража леса,
От чьего крика Сариа и Ливан раскололись» (старовавилонская версия)84;
«От (ударов) пяток их надвое земля распалась,
От круженья их Сирара и Ливан разломились85» (каноническая версия)86.
Как предположил Э. Джордж87, в приведенных пассажах из «Эпоса о Гильгамеше» нашел отражение этиологический миф, возможно, левантийского происхождения, объясняющий возникновение двух горных цепей – Ливана и Антиливана. Ранним свидетельством о существовании схожего мифа можно считать, видимо, и текст «Легенды»88. В «Легенде», вместе с тем, разделение Саргоном горы на две части с помощью мерила обозначается как «совершение раздела для страны» (ср. наш комментарий). Это сближает образ Саргона в «Легенде» с его описанием в «Саргоновской географии», где говорится о проведении этим монархом границ во всем мире:
«Когда Саргон, царь Вселенной, завоевал всю страну вплоть до небес, он провел в ней границы, пределы ее измерил»89.
Завоевания Саргона
В стк. 50–62 в девяти эпизодах перечисляются города и области, чьих жителей Саргон подвергает различным манипуляциям с одеждой или прическами; в одном случае речь идет о нанесении увечья. Большинство из этих манипуляций унизительные: жители Тукриша уподобляются дикарям, одетым в шкуры90, киприоты, амореи, лухмийцы и, возможно, киларийцы (см. комментарий к стк. 58) – женщинам, худурцы – рабам. В последнем эпизоде Саргон, наоборот, наделяет жителей сразу трех областей богатой одеждой (если верно принятое нами толкование текста, см. комментарий). Символическое значение действий по отношению к киларцам, жителям Канеша и хаттам91 не очевидно. Можно предположить, что эти образы вдохновлены скорее традиционными одеждами и прическами соответствующих народов, которые в большинстве случаев, хотя и не без исключений, описываются в издевательском ключе92. Рассказ о действиях Саргона в таком случае выполняет этиологическую функцию.
С географической точки зрения перечень упомянутых в этой части «Легенды» топонимов делится на две части. Первую составляют анатолийские топонимы: Худура93, Килар94, Канеш, Хатти95 и Лухма96. Вторую часть образуют широко известные в древности области, этнические общности и города конца III – начала II тыс. до н. э., расположенные на периферии Анатолии от северного Ирана до Восточного Средиземноморья: Тукриш97, кутии, луллубеи98, амореи99, Хаххум100 и Кипр101.
Строгой географической логики в перечислении не наблюдается, однако скорее всего не случайно то, что Канеш упоминается точно посередине. С точки зрения формы список также разнороден: ряд топонимов вводится предлогом ša с топикализующим значением (амореи, киларцы, Канеш?, хатты), тогда так в других случаях для этого используется accusativus pendens102 (Худура, Кипр, кутии, луллубеи, Хаххум); чередуются простые формы в ед. ч. и нисбы во мн. ч. (амореи, киларцы, лухмийцы), в одном случае употребляется генитивная именная группа («правитель Тукриша»).
Среди старовавилонских легенд о староаккадских правителях ближайшую – и, насколько нам известно, ранее не обсуждавшуюся – параллель к этой части произведения содержит текст AO 6702103. Соответствующий пассаж сохранился, к сожалению, крайне фрагментарно, однако в нем тоже идет речь о девяти эпизодах, в которых Саргон побеждает различные области и города. Из географических названий в пассаже надежно сохранились лишь Субарту и Амурру (в староассирийской «Легенде» упоминается только Амурру). Насколько можно судить, Саргон и в этом тексте накладывает на побежденных унизительные наказания: в поврежденном контексте упоминаются šimtum «клеймо» (стк. ii 101; CAD Š/2 9)104, libšum «одежда» (стк. ii 105; CAD L 181), derretum «поводок» (стк. ii 110; CAD D 160).
В более широком смысле наш перечень топонимов перекликается со списками дальних городов и стран в литературных произведениях, посвященных Саргону и Нарам-Сину105. Если говорить о Саргоне, в общем виде мотив о его завоеваниях в Анатолии представлен в одной из старовавилонских легенд, где рассказывается о походе царя на город Пурушханда106. Однако наибольшие схождения обнаруживаются с текстом BM 79987, повествующим о восстании 17 царей против Нарам-Сина107: в начале списка враждебных земель здесь также упоминаются кутии, луллубеи, Хаххум, Канеш и амореи. Далее, однако, следует еще 11 топонимов, в «Легенде» отсутствующих, в то время как специфически анатолийские города и области, за исключением Канеша, в старовавилонском произведении не упоминаются. Очевидно, на наш взгляд, что создатель «Легенды» был знаком с похожим списком побед Нарам-Сина, однако использовал его для рассказа о Саргоне и адаптировал перечень для канешской аудитории, добавив в него несколько анатолийских топонимов108.
Окончание «Легенды»
У предложения «Адад – царь!» (акк.dIŠKUR LUGAL), которым завершается «Легенда», обнаруживается два вида параллелей. С одной стороны, схожие сочетания известны по данным ономастики. Так, хорошо засвидетельствовано староассирийское имя šarru(m)-Adad «Царь – Адад!»109, структура которого представляет собой синтаксическую инверсию по отношению к нашему предложению. Имя же Adad-šarrum «Адад – царь!» напротив, на сегодня в староассирийском ономастиконе не зафиксировано, хотя представлено, в частности, в старовавилонских и среднеассирийских текстах110. Трудно сказать, насколько это распределение случайно.
С другой стороны, структурно схожее изречение, с именем Ашшура вместо имени Адада, обладает большим символическим значением в тексте ассирийского «Коронационного ритуала»111, известного как по среднеассирийским, так и по новоассирийским манускриптам:
«Носильщик[и] ст[авят себе на шею царский трон (и) отправляют]ся в храм божества. Они входят в [храм] божества (и) жрец Ашшура перед ними бьет [царя по щеке] и говорит так: «Ашшур – царь! Ашшур – царь!» [До] врат Анзу он говорит (так)»112.
Смысл интересующего нас восклицания, сопровождаемого ритуальным оскорблением царя113, заключается в том, чтобы утвердить первенство божественной власти Ашшура над властью земного правителя, зависимое положение последнего. Это значение предложения эксплицитно прояснено, как обычно полагают, в так называемом «Коронационном гимне»114 Ашшурбанапала:
«Ашшур – царь! Воистину Ашшур – царь! Ашшурбанапал – [наместник] Ашшура, творение его рук»115.
Более того, сочетание типа «Ашшур – царь!» дважды встречается в староассирийских источниках – на печати правителя по имени Цилулу116 и в царской надписи Эришума117. В обоих случаях царский титул бога Ашшура противопоставлен менее значимому титулу правителя.
Нам представляется маловероятным, чтобы последовательность знаков dIŠKUR LUGAL в конце «Легенды» фиксировала имя автора этого текста или писца, его скопировавшего. Гораздо предпочтительнее считать, что предложение «Адад – царь!» играет в произведение приблизительно ту же роль, что и в ассирийском «Коронационном ритуале», «Коронационном гимне» Ашшурбанапала и староассирийских надписях – с помощью этого высказывания составитель подчеркивает, что, несмотря на изложенные в тексте исключительные деяния Саргона, божество сохраняет свое главенствующее положение по сравнению с «земным» правителем118. Апелляция к Ададу, а не к Ашшуру, может быть связана с неофициальным происхождением «Легенды», ориентацией на народную религию119. Наконец, в композиционном отношении обсуждаемая фраза близка к доксологии, помечает собой конец текста120.
Любопытно, что имя Адада в конце текста соположено с именем Ану, появляющимся в одном из риторических вопросов (о них см. выше). Согласно наиболее распространенной в первой половине II тысячелетия традиции Ану был отцом Адада121. Особая ассоциация двух этих божеств отобразилась в храмовом строительстве царя Шамши-Адада в Ашшуре (первая четверть XVIII в. до н. э.): на месте старого храма Адада он построил новое святилище, в котором почитались одновременно и Адад, и Ану122. Наконец, бросается в глаза то, что в тексте вообще не фигурирует Ашшур, верховное и наиболее почитаемое божество города Ашшур и его жителей123.
ПОЭТИКА «ЛЕГЕНДЫ»
Анализ поэтики «Легенды» затруднен из-за того, что, как и подавляющее большинство староассирийских текстов, она записана на табличке таким образом, что границы строк не соответствуют границам синтаксических сочетаний и предложений124. Тем не менее, с определенной долей осторожности можно говорить о том, что памятник представляет собой образец литературной прозы, а не поэзии125. Обращает на себя внимание отсутствие каких-либо форм гимно-эпического диалекта, характерного для аккадских поэтических текстов126. В целом синтаксис «Легенды» хорошо соответствует стандартному синтаксису староассирийских прозаических текстов, c глаголом в конце предложения127, тогда как для аккадской поэзии характерен свободный порядок слов и тенденция избегать постановки финитной глагольной формы на последнюю позицию128. В тексте «Легенды» не удается выделить каких-либо устойчивых метрических закономерностей, действующих на протяжении всего текста129. В частности, не соблюдается последовательно правило трохеического окончания, помечающего в аккадской поэзии и ритмизованной прозе конец стиха или периода (clausula accadica)130. Немногочисленны и примеры поэтических созвучий, используемых для объединения и украшения текста131. Сравнительно сильно задействован в тексте прием параллелизма, в первую очередь в сфере синтаксиса и морфологии. Так, из нескольких типов синтаксически параллельных предложений состоят все описания наказаний, наложенных Саргоном на завоеванные народы (стк. 50–62). Начало второго эпизода (описание царских пиров в стк. 21–28) состоит из трех синтаксически параллельных предложений, в которых называется количество приближенных Саргона и их статус, а затем следует придаточное предложение, в котором сообщается, какой вид мяса они употребляют на царской трапезе. Здесь задействован также прием градации: в каждом следующем предложении сокращается количество упоминаемых участников пира, однако, по-видимому, увеличивается значение упоминаемых титулов и ценность подаваемой им пищи132.
ЯЗЫК И ОРФОГРАФИЯ «ЛЕГЕНДЫ»
Текст написан на староассирийском диалекте аккадского языка с некоторыми особенностями133. Несмотря на очевидные содержательные параллели со старовавилонской традицией, бесспорный языковой вавилонизм в произведении всего один: префикс li- вместо ожидаемого lu- в форме li-ša-ar-bi4-ú (стк. 66). Остальные орфографические и морфонологические особенности текста в той или иной степени укладываются в рамки варьирования внутри староассирийского корпуса:
- запись mÌ-It (стк. 38, 39) для числительного meˀat «сто»134;
- чередование стяженных и нестяженных форм с *wa- в анлауте: wa-ar-ki-im (стк. 32, 35), wa-ṣa-i-a (стк. 44) vs. ur-de8-a (стк. 40)135;
- полное написание удвоенной согласной: ša-tù-uk-ki (стк. 66)136;
- plene-написание краткой /i/ в ауслауте: a-dí-i (стк. 27), aṣ-bu-tù-ni-i (стк. 65)137.
В целом текст отличается аккуратной и последовательной орфографией138: в частности, почти всегда выписывается мимация139. К писцовым ошибкам можно отнести разве что лишнюю энклитику -ma в месте смены лица рассказчика в стк. 5, пропуск союза ša в стк. 26 и нерегулярную гармонию гласной в форме um-mì-ni-a в стк. 43 (см. комментарий); не исключено также, что ошибками объясняются трудные и темные места в стк. 29, 59 и 62 (см. комментарий).
ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ
1LUGAL : LUGAL-ke-en6 : LUGAL 2A-ké-de8-e : ri-bi4-tim : LUGAL 3da-num : ša iš-tí : i-le-e 4e-ta-wu-ni : dIŠKUR : da-nu-tám 5i-dí-šu-ma : iš-tù : ṣí-it 6ša-am-ší-im : a-dí e-ra-áb 7ša-am-ší-im : ma-tám : aṣ-ba-at-ma 8i-na U4-mì-im : iš-té-en6 9a-na 70 a-lá-né : kà-kà-am : a-dí-in 10ru-ba-e-šu-nu : ú-ṣa-bi4-it : ù a-le-šu-nu 11ú-ḫa-li-iq : dIŠKUR : be-el : e-mu-qí-im 12ù iš8-tár : be-lá-at : ta-ḫa-zi-im 13at-ma : ṣa-bi4-tám : a-mu-ur-ma : li-bi4-tám 14a-na na-ri-im : a-dí-ma : i-na 15lá-sà-mì-a : mu-sà-ri : i-bi4-tí-iq-ma 16ṣa-ar-a-am : áš-ta-kà-an-ma : al-sú-ma 17ṣa-bi4-tám : aṣ-ba-at : li-bi4-tám 18i-ma-e : ú-šé-li : dIŠKUR ù iš8-tár 19a[t-ma] : 1 [l]i-im GU4.ḪI.A : 6 li-me-/e 20UDU.ḪI.A : ù-mì-ša-ma : lu ú-ṭa-ba-aḫ 217 li-me-e : qá-[r]a-du-a : ša i-ra-/tim 22ú-mì-ša-ma : ma-aḫ-ri-a : e-ku-lu-ni 233 li-me-e : lá-sí-mu-ú-a 24ša : ar-kà-tim : e-ku-lu-ni 251 li-im : ša-qí-ú-a 26<ša> U4-mì-ša-ma : mu-ḫa-am 27ša kurur-sí-na-tim : a-dí-i 28ša-ba-im : e-ku-lu-ni 29NESAG.DU-i iq-re-e-ma 307 li-me-e : qá-ra-du-a 31i-ra-tim : e-ku-lu : a-na 32wa-ar-ki-im : i-ir-tum : 33lá ik-šu-ud-ma : a-lá-áp-šu 34ku-ša-ma-ni-a-am : ša ku-sí-i-šu 35iṭ-bu-ùḫ-ma : a-na wa-ar-ki-im 36i-ir-tám : i-dí-in : nu-ḫi-tí-mì 37gu5-ur-na-am : ú-ri-ir-ma 38a-na ar-ni-šu 1 me-et GU4.ḪI.A 392 me-et UDU.ḪI.A : iṭ-bu-ùḫ-/ma 40ur-de8-a : ú-ša-ki-il5 : dIŠKUR 41ù iš8-tár : at-ma : MU.7.ŠÈ ITI.KAM 42ù ša-pá-tám : i-na i-ki-il5-tim 43qá-du : um-mì-ni-a : lu ú-ší-ib 44i-na wa-ṣa-i-a : ša NA4.GUG 45ù NA4.ZA.GÌN : qá-nu-a-am 46lu ar-ku-ús-ma : a-na ma-tim 47lu ú-za-iz : ša-du-a-am : ḫu-ma-nam 48a-ší-ni-šu : am-ḫa-sú-ma : ki-ma 49sí-ki-tim : i-ba-ri-šu-nu : ṣa-al-/mì 50ú-ša-zi-iz : ru-ba-am 51ša tù-uk-ri-iš : maš-kam : ú-lá-bi4-iš 52ḫu-du-ra : bi4-bi4-na-tim qá-qá-da-/tí-šu-nu 53áš-ku-un : a-lá-ší-am : ki-ma 54sí-ni-iš-tim : qá-qá-da-tí-šu-nu 55ak-tù-um : ša a-mu-ri-e 56ki-ma a-pì-šu-nu : ša-ma-ṭim 57i-ša-ar-šu-nu : aq-tí-i : ša ki-lá-ri-/e 58i-ma-ar-ší-im : qá-qá-da-tí-šu-nu 59ar-ku-ús ša NI-UM kà-ni-ší 60sú-tù-ḫi-šu-nu ú-ší-ir 61ša Ḫa-tim : qá-ba-al-tí : qá-qá-da-tí-šu-nu : ú-ša-ag-li-ib : lu-ùḫ-mì-e 62tù-dí-tám : ú-dí-id : qú-ti-tám : lu-lu-am : ù ḫa-ḫa-am ṣú-ba-té-šu-nu ú-ša-/ri 633 zi-qé ša-ma-e : i-qá-té-a : al-pu-ut : mì-na-am i-DUB-pì-im 64lu-ša-am-i-id : a-nu-um : lá i-de8-a-ni : ki-ma LUGAL a-na-ku-ni 65ma-tám e-li-tám ù ša-áp-li-tám aṣ-bu-tù-ni-i 66ša-tù-uk-ke li-ša-ar-bi4-ú : dIŠKUR : LUGAL
ПЕРЕВОД
1Царь Саргон, царь 2Аккаде-столицы, 3могучий 2царь, 3что 4говорит 3с богами, – 4Адад 5дал ему 4могущество. 7Я завоевал страну 5от восхода 6солнца до захода 7солнца. 8За один день 9я дал бой семидесяти городам, 10пленил их правителей, а их крепости 11разрушил.
13Клянусь 11Ададом, хозяином силы, 12и Иштар, хозяйкой битвы: 13я увидел газель, 14бросил 13кирпич 14в реку, на 15бегу у меня порвался пояс, 16я подпоясался змеей, побежал дальше и 17схватил газель, 18я вытащил 17кирпич 18из воды.
19Клянусь 18Ададом и Иштар: 20каждый день я забиваю 19тысячу быков и шесть тысяч 20баранов. 21Семь тысяч – мои витязи, что 22каждый день передо мной едят 21грудинку, 23три тысячи – мои гонцы, 24что едят вырезку, 25тысяча моих кравчих 26каждый день 28досыта едят 26мозг 27из голяшек. 29Мой первый воин устроил пир: 30семь тысяч моих витязей 31ели грудинку. 32Последнему грудинки 33не хватило: 35он забил 33своего 34кушаманского 33быка, 34что был у него под седлом, 35и последнему 36дал грудинку. Мой повар 37пересушил финики – 38за свою провинность 39он забил 38сто быков 39и двести баранов и 40накормил моих слуг.
41Клянусь 40Ададом 41и Иштар: 43я с войском оставался 42в темноте 41семь лет и месяц 42с половиной. 44Выходя, 46я обвязал 45мерило 44сердоликом 45и ляпис-лазурью и 47совершил раздел 46для страны: 47гору Хуман 48я разделил 48на две части и вместо 49межевого кола 50воздвиг 49между ними свое изображение.
50Правителя 51Тукриша я одел в шкуру. 52Худурцам на головах 53сделал 52рабские пряди. 53Киприотам 55покрыл 54головы, 53как 54женщине. 55Что до амореев, 56вместо того чтоб оторвать им носы, 57я отрезал им члены! Что до киларцев, 59я повязал 58им головы тесемкой. 59Что до … Канеша, 60я распустил им … 61Что до хаттов, я велел выбрить им макушки. Лухмийцев 62заколол булавкой. Кутиям, луллубеям и хаххийцам я богато отделал одежды.
63Трех небесных зубцов я рукой коснулся! Зачем 64мне умножать слова 63на табличке? 64Разве Ану меня не знает? Поскольку я царь 65и завоевал Верхнюю страну с Нижней, 66пусть мне увеличат жертвоприношение. Адад – царь!
КОММЕНТАРИЙ140
2. Аккаде-столицы. – Акк. a-ke-de8-e ri-bi4-tim. Это словосочетание встречается также в прологе «Законов Хаммурапи» (стк. IV 52). Слово ribītum, изначально «главная улица»(CAD R 317), приобрело также значения «центр города, город (в противоположность пригородам)» и «главный город, столица»141.
9–10. Обращает на себя внимание использование двух разных основ мн.ч. от существительного ālum «город, укрепленное поселение» (CAD A/1 379) в двух разных значениях: a-lá-né /ālānē/ «города» vs. a-le-šu-nu /ālēšunu/ «их (городов) крепости». Общее значение противопоставления форм мн.ч. с суффиксом -ān- и без него в аккадском языке, в частности в староассирийском диалекте, остается неизвестным142.
Выражение kakkam tadānum «давать бой», дословно «давать оружие», контекстуально ясно и хорошо соотносится с метонимическим значением «сражение», широко засвидетельствованным для kakkum (CAD K 55). В то же время за пределами нашего текста идиома, насколько это удалось установить, не встречается.
Следует отметить, что анатолийские правители обозначаются в тексте как rubāˀum (стк. 10 и 50): это слово считается базовым староассирийским экспонентом значения «царь»143, хотя достаточно широко употребляется в старовавилонском, как правило, в Северной Месопотамии и долине р. Дияла144. Базовое староаккадское и старовавилонское слово со значением «царь», šarrum (в этом тексте переданное шумерограммой LUGAL), используется применительно к Саргону и богу Ададу.
Примечательно употребление глагола ṣabātum в D-породе для выражения множественности объектов действия; ср. схожий узус глагола ṭabāḫum в стк. 20145.
16. Змеей. – Акк. ṣa-ar-a-am. Верная интерпретация формы независимо предложена в издании Дерксена и, с более подробным обоснованием, в вышедшей годом позже заметке В. Майера146.
17–18. Я вытащил кирпич из воды. – Акк. li-bi4-tám i-ma-e ú-šé-li. Образ кирпича, брошенного в воду и вынутого из нее, в других месопотамских текстах не встречается147. Слово libittum специфически обозначает необожженный кирпич (CAD L 176); Дерксен предполагает, что размывание кирпича в воде служило для отсчета времени148, однако, насколько мы знаем, такая практика в месопотамских источниках не упоминается. По мнению Кавиньо, речь идет о своего рода троеборье, включающего в себя бросок кирпича, бег за газелью и плавание149.
24. Вырезку. – Акк. ar-kà-tim. Ранние издания связывают форму с warkatum «задняя часть» (CAD A/2 274), однако Дерксен указывает, что в староассирийском для этого слова ожидалась бы форма /urkātim/, и идентифицирует /arkātim/ как косв.п. мн.ч. от ariktum, субстантивированного прилагательного ж. р. «длинная (часть)» (CAD A/2 283)150. В качестве обозначения мясного отруба слово, насколько нам известно, представляет собой hapax legomenon, перевод «вырезка» условный151.
26. Мозг. – Акк. mu-ḫa-am. Значение «костный мозг» для слова muḫḫum в этом контексте предложено М. Столом152 и принято в изданиях Дерксена, Кавиньо и Альстера и Осимы (в последнем – с подробным комментарием)153.
29. Мой первый воин. – Акк. NISAG.DU-i /ašarēdī/. Мы с осторожностью принимаем чтение слова, предложенное Альстером и Осимой154. Шумерограмма NISAG.DU более нигде не встречается, однако оба элемента действительно позволяют связать ее со словом ašarēdum «впереди идущий, первый (по рангу, качествам и т. п.)»: обычно оно записывается как sag.kal, однако в лексических списках встречаются также написания ne.sag и igi.du155. В пользу этого чтения также говорит возможное противопоставление между «первым» (ašarēdum) и «последним» (warkīum) воинами в стк. 29 и 32156. Персонаж, называемый ašarēdum, упоминается в двух других легендах саргоновского цикла, где, обращается к Саргону от лица войска157. Во второй из них он назван «первым воином Саргона», что перекликается с выражением «мой (т. е. Саргона) первый воин» в нашем тексте158.
Устроил пир. – Акк. iq-re-e-ma. Такое употребление глагола qerûm, обычно значащего «приглашать», более не засвидетельствовано (CAD Q 242), однако отсутствие прямого дополнения в тексте исключает базовое значение. Ср. в этом ключе «avait fait une invitation» у Кавиньо; у Дерксена и Альстера и Осимы компромиссные переводы «invited (them)» и «invited (all these)»159.
33–34. Своего кушаманского быка, что был у него под седлом. – Акк. a-lá-áp-šu KU-ša-ma-ni-a-am ša ku-sí-i-šu. Последовательность KU-ša-ma-ni-a-am мы вслед за Дерксеном понимаем как нисбу от иначе не засвидетельствованного топонима Кушаман (чтение условное, первая согласная может читаться как /g/, а вторая и/или третья могут быть удвоенными). Большинство издателей оставляет форму без перевода; Альстер и Осима предлагают чтение udu! ša-ma-ni-am «восемь овец», которое противоречит правилам синтаксиса числительных, и бессмысленный перевод «ox and eight sheep belonging to his throne»160. Слово kussûm, с базовым значением «стул», может также означать «трон» и «седло» (CAD K 587). Дерксен справедливо отказывается от перевода «трон», принятого в ранних изданиях, так как речь в этом предложении идет не о царе. В то же время его собственный перевод «ox … that belonged to his travel seat» и комментарий «The ox … serves as a draught animal for a traveling chair» не вполне проясняют связь между быком и «дорожным сиденьем»-kussûm161. По всей видимости, речь в пассаже идет именно о седле, как переводит Кавиньо («sa selle», со знаком вопроса)162. В то же время быки никогда не упоминаются в месопотамских источниках в качестве верховых животных. Возможно, автор текста использовал здесь заведомо неправдоподобный, гротескный образ, соответствующий общему духу произведения.
34. Пересушил финики. – Акк. gu5-ur-na-am ú-ri-ir-ma. Глагол erērum означает «быть сухим, высыхать» в основной породе (AHw. 238) и «высушивать» в D-породе (CAD U-W 247). В словарях приводятся только младовавилонские примеры, однако сегодня известно и старовавилонское вхождение (в основной породе)163:
wa-di ša-ad-da-aq-di-im i-na i-ir-ti-ka e-ru-úr-ma a.šà-li iḫ-ta-li-iq «В прошлом году я уже164 иссыхал напротив тебя165, и мое поле погибло»166.
Несмотря на это, издатели «Легенды», начиная с Хекера, предпочли переводы, связанные с предполагаемым значением «быть горячим» или «подгорать»167. Они, однако, основаны исключительно на гипотезе о происхождении erērum от семитского корня ḥrr «быть горячим»168. Такая этимология, со сдвигом значения «быть горячим» > «высыхать (при нагревании)», вполне возможна, однако синхронно для аккадского глагола значения «быть горячим» или «гореть» не засвидетельствованы.
Вместе с Дерксеном мы отклоняем предложенную Гюнбатты и принятую во всех остальных изданиях эмендацию ku-ur-<si>-na-am, так как несколькими строками выше это слово пишется через знак kur. Существительное gurnum «(продукт) посредственного качества» обычно употребляется в аппозитивной конструкции и характеризует медь, шерсть, финики, масло или пиво (CAD G 139). В то же время в недавно опубликованных старовавилонских текстах имеются два примера самостоятельного употребления слова:
ki-ma a-na ta-ma-ar-tim gur-nu-um i-ba-šu-ú ú-la ti-de-a «Вы не знаете, что для гостинцев имеются (только?) посредственные продукты?» (de Boer 2021, no. 18: 8–10)169;
a-na gur-ni-im še-im ù sikiḫi.a ša tu-še20-eṣ-ṣú-ú-šu-ú-ma «За? … посредственного качества, зерно и шерсть, которые ты ему выдал …» (MSCT 16 87: 78–79)170.
С синтаксической точки зрения эти вхождения представляют собой несомненную параллель к рассматриваемому пассажу: слово употребляется не как приложение, но как самостоятельное существительное. В то же время они едва ли проясняют значение термина: если в первом случае можно предположить, что речь идет о собирательном понятии «продукты посредственного качества» (не подходящие для подарков?), то во втором пассаже имеется в виду конкретный продукт, идущий в одном ряду с зерном и шерстью.
Дерксен переводит gurnum как «mediocre (meat)», вероятно, потому что выше речь идет о мясе, однако за пределами нашего текста слово gurnum никогда не характеризует мясо. Предлагаемый нами гипотетический перевод «финики» основывается на том, что из всех продуктов питания, квалифицируемых как gurnum, только финики подвергались термической обработке, при которой их можно было бы пересушить171. Возможно, слово gurnum стало обозначать определенный сорт фиников (изначально – посредственного качества?).
42–43. Я с войском оставался в темноте. – Акк. i-na i-ki-il5-tim qá-du um-mì-ni-a lu ú-ší-ib. Верный перевод «темнота» для слова ikiltum предложил уже Гюнбатты (см. также введение)172. Последовательность um-mì-ni-a начиная с первого издания, как правило, понимается как форма слова ummānum «войско» (CAD U–W 102)173.
44–47. Я обвязал мерило сердоликом и ляпис-лазурью и совершил раздел для страны. – Акк. ša na4.gug ù na4.za.gìn qá-nu-a-am lu ar-ku-ús-ma a-na ma-tim lu ú-za-iz.
По нашему мнению, ú-za-iz «совершил раздел» указывает на разделение горы Хуман на две части, о котором говорится далее (см. следующий комментарий). Насколько можно судить, Дерксен воздерживается от содержательной интерпретации этого пассажа174. В остальных изданиях «Легенды» предполагается, что предметом разделения (точнее, раздачи) являются драгоценные камни, украшавшие жезл175. Представляется логичным, однако, что жезл служит орудием, а не предметом раздела: такое значение для слова qanûm, буквально «тростник», хорошо засвидетельствовано (CAD Q 89), а в шумерской литературе встречаются упоминания мерила в сочетании с веревкой, украшенной ляпис-лазурью176.
Употребление глагола zâzum «делить’» в D-породе и без прямого дополнения необычно177, однако находит параллель в недавно опубликованном старовавилонском письме:
ma-ti-ma ú-ul a-ta-ar-ma ┌e┐-ri-iš-[tam] ú-ul a-za-az ki-ma a-na-ku ú-za-az-zu ša-nu-tum is-qé-ti-ia ú-pa-sà-sú «Я больше никогда не буду делить пахотную землю. Когда я произвожу раздел, другие люди отменяют мои решения» (ARM 33 119: 4'–6').
Под «страной», для которой совершается раздел, может теоретически иметься в виду как регион горы Хуман, так и вся империя Саргона в целом, которая в начале текста обозначается как «страна от восхода солнца до захода солнца» (стк. 5–7), а в конце – как «Верхняя и Нижняя страна». В свете приведенной во вступительной статье параллели из «Саргоновской географии» и общей логики текста «Легенды» нам кажется более вероятной вторая из этих возможностей. Примеры на схожее употребление лексемы mātum см. в CAD M/1 415–417. В любом случае упоминание «страны» в бенефактивной роли при земельном разделе остается малопонятным в содержательном отношении.
47. Гору Хуман. – Акк. ša-du-a-am ḫu-ma-nam. Гора с таким названием в других источниках не встречается, однако его трудно отделить от формы ḫa-ma-na-am в одной из старовавилонских саргоновских легенд178. Эта форма, в свою очередь, скорее всего представляет собой вариантное написание названия хребта Аманус (акк. Amanum), который упоминается в надписях Нарам-Сина как северо-западный предел его завоеваний179. О мотиве разделения горного хребта на две части см. во вступительной статье.
48. Разделил. – Акк. am-ḫa-sú-ma. В большинстве изданий форма am-ḫa-Zu не комментируется. У Хекера и Дерксена форма переводится без учета окончания на -u. Судя по переводам, Ван Де Мироп понимает форму как субъюнктивную, а Фостер и Кавиньо – как ассеверативную при клятве180. Альстер и Осима анализируют форму как amḫassu (с аккузативным суффиксом), однако не поясняют его функцию181. Подробный комментарий формы имеется у Хауля, который рассматривает все три интерпретации значения и предпочитает ассевератив, справедливо исключая субъюнктив, так как в тексте отсутствует подчинительный союз; что касается местоименного суффикса, с его точки зрения, анафора к стоящему непосредственно перед глаголом прямому дополнению ša-du-a-am ḫu-ma-nam маловероятна182.
Однако, на наш взгляд, ассеверативное значение у этой формы практически исключено, так как остается без объяснения выбор ассевератива на -u именно в этом случае: в остальном тексте либо ассевератива при клятвах нет, либо в этой функции используется проклитика lū. Наиболее простым решением нам представляется анализ формы как amḫassu (с аккузативным суффиксом, «разделил его/ее»). Источником анафоры в этом случае оказывается ša-du-a-am ḫu-ma-nam «гора Хуман»: необходимость в местоименном суффиксе можно объяснить тем, что именная группа находится в позиции accusativus pendens (ср. дискуссию выше на стр. 515).
49. Мое изображение. – Акк. ṣa-al-mì. Принятый во всех изданиях перевод «моя статуя» неточен, так как слово ṣalmum может обозначать как круглую скульптуру, так и стелу с барельефом (CAD Ṣ 78).
52. Рабские пряди. – Акк. bi4-bi4-na-tim. М. Стол первым указал на то, что слово bibinnatum также употребляется в одной из надписей Нарам-Сина, где обозначает прическу, которую носили рабы183. Эта интерпретация была в общем виде принята в изданиях Дерксена, Кавиньо и Альстера и Осимы184. Более точный перевод слова сопряжен с определенными трудностями. Традиционно оно связывается со словом bibēnum, в лексических списках, по всей видимости, означающим «висок» (AHw. 124): соответственно, предполагается метонимия «висок» > «прядь волос на виске»185. Следует, однако, отметить, что в надписи Нарам-Сина слово bibinnatum употреблено в единственном числе, а не в двойственном, что ожидалось бы для прядей на висках; формальные различия между основами bibinn- и bibēn- требуют объяснения; прочие данные о прическах рабов в Месопотамии указывают скорее на прядь волос на затылке186.
56. Вместо того чтоб оторвать им носы. – Акк. ki-ma a-pè-šu-nu ša-ma-ṭim. Большинство издателей переводят глагол как «отрезать»187, тогда как словари и собранные в них контексты однозначно указывают на значение «отрывать» (AHw. 1155, CAD Š/1 308)188. Верный перевод у Альстера и Осимы189. Изувечивание носа было распространенным наказанием в древней Передней Азии (CAD A/2 185–186).
57. Я отрезал им члены. – Акк. i-ša-ar-šu-nu aG-Dí-i. Такое понимание пассажа предложено Столом190 и принято авторами последующих изданий за исключением Кавиньо, который отнес форму i-ša-ar-šu-nu не к слову išarum «пенис» (CAD I–J 226), а к слову išrum, обозначающему разновидность пояса (CAD I–J 261)191. Это предположение поддержал Кауэнберг, указав на то, что в остальных случаях речь в этой части «Легенды» речь идет о предметах одежды или прическах192. Сильным контраргументом является, однако, бесспорное упоминание носов в этом же предложении и, соответственно, параллелизм между частями тела. Схожий параллелизм, на наш взгляд, обнаруживается в Среднеассирийских законах (§ 15):
«Если человек застал мужчину со своей женой (…) то, если муж убьет свою жену, он может убить также и мужчину, но если он отрежет своей жене нос, он может обратить мужчину в евнуха (…)»193.
Глагольная форма aG-Dí-i вызывает затруднения. На первый взгляд она соответствует аккадскому глаголу qatûm «кончаться» (CAD Q 177), который, однако, в основной породе является непереходным. Дерксен предлагает для него переходное значение ad hoc194, тогда как Стол и Кауэнберг указывают соответственно на западносемитские глагольные корни qṭˁ и gdˁ, оба со значением «отрезать»195.
58. Тесемкой. – Акк. i-mar-ší-im. Как принято в большинстве изданий, речь очевидным образом идет о тесемках-maršum, которые упоминаются в староассирийских текстах в одних контекстах с расческами и головными уборами (CAD M/1 296)196. Возможно, такие тесемки носили исключительно женщины, хотя указания на этот счет в текстах отсутствуют. Идея Альстера и Осимы о том, что здесь слово обозначает вожжи («reins»), представляется надуманной197.
59. Что до … Канеша. – Акк. ša NI UM kà-ni-ší. Если упоминание Канеша в этой строке вызывает мало сомнений (см. введение)198, то предшествующие топониму знаки ni um не поддаются надежному толкованию. Вслед за Хекером, Дерксеном и Кавиньо мы оставляем их без перевода. В других изданиях последовательность понимается как ša-ni-um с переводами со значением «кроме того»199, однако šanīum «второй» в им. п. м. р. никогда не употребляется в этом значении; кроме того, не объясняется появление этого выражения в середине перечисления.
60. Распустил их … – Акк. Zu-Du-ḫi-šu-nu ú-ší-ir. Возможно, речь снова идет о типе прически, ср. pertam wuššurum «распускать волосы» (CAD U–W 312). За пределами этого текста слово не встречается. Традиционное отождествление со староаккадским словом su-tu-uḫ-ḫa-tim (CAD Š/3 411), также гапаксом с неясным значением200, маловероятно ввиду разной природы первого согласного – *š в староаккадском слове и *s/ṣ/z в староассирийском. Наконец, не исключено, что форма родственна аккадскому слову ištuḫḫu «кнут»201. Если это слово действительно имеет индоевропейское анатолийское происхождение от основы на st-, как предполагал А. Салонен202, это объяснило бы колебания в огласовке первого слога (аккадский язык не допускает консонантные кластеры в начале слова). Однако значение «кнут» едва ли подходит к контексту; сдвиг значения «кнут» > род прически («косичка»?) теоретически возможен, но эта гипотеза требует еще одного допущения.
61. Макушки. – Акк. qá-ba-al-tí qá-qá-da-tí-šu-nu, дословно «середину их голов». Насколько нам известно, это словосочетание более не засвидетельствовано в аккадском корпусе, где в этом значении обычно используется родственное выражение qabal qaqqadim (CAD Q 8).
62. Заколол булавкой. – Акк. tù-dí-tám ú-dí-id. Кауэнберг убедительно показал, что форма ú-dí-id относится к редкому глаголу wadādum D «закалывать булавкой»203, после чего ее ранние интерпретации утратили значение.
Кутиям. – Акк. qú-tí-tám. Общая интерпретация слова практически не вызывает сомнений204, в первую очередь благодаря параллели в старовавилонской саргоновской легенде (см. Введение). В то же время женский род нисбы остается без объяснения205. Альстер и Осима возвращаются к ранней идее о том, что слово согласовано с упомянутой выше булавкой («a Gutian brooch»)206, однако это предполагает крайне необычный порядок слов, при том что в остальном тексте инверсия и схожие поэтические приемы не используются (см. также Введение).
Богато отделал одежды. – Акк. ṣú-ba-té-šu-nu ú-ša-ri. Глагол šarûm D «делать богатым» (CAD Š/2 131) по-прежнему лучше других подходит к контексту в морфологическом и семантическом отношениях207, несмотря на то что все остальные действия Саргона с одеждой и прическами разных народов носят деструктивный характер. По остроумному предположению Л.Е. Когана (устное сообщение), форма ú-ša-ri может принадлежать глаголу *šūrûm «оголять», образованному в породе Š от прилагательного erûm «голый» (CAD E 320). Однако такой глагол в аккадском более не встречается; при деривации глагола от адъективного корня ожидалась бы скорее порода D; в ассирийском нормальной была бы форма ušēri, а не ušāri; наконец, употребление такого глагола по отношению к одежде, а не частям тела предполагает дополнительный сдвиг значения («задирать»?).
63. Трех небесных вершин. – Акк. 3 zi-qí ša-ma-e. Начало строки повреждено, и большинство издателей, начиная с Гюнбатты, восстанавливают там цифру 13 (у Хекера – 4), однако, как указывает Дерксен, для этого нет ни палеографических, ни содержательных оснований208. Из целого ряда лексем, которые могут стоять за последовательностью ZI-KI209, наилучшим образом соответствует контексту редкое слово ziqqum «зубец, зазубренный край», появляющееся в описании стен храма в старовавилонском гимне и в описании зубов в младовавилонском физиогномическом тексте (CAD Z 128). Такая интерпретация принята у Гюнбатты и Альстера и Осимы210. Переводы со значением «столпы, опоры» в остальных изданиях восходят к неверному пониманию лексемы в AHw. 1531 («Pfosten»). Прямых параллелей к мотиву «трех небесных зубцов» в месопотамской космической географии не обнаруживается. Дерксен осторожно сравнивает их с тремя «небесными путями» – участками звездного неба в поздней астрономической литературе, а Альстер и Осима усматривают связь со «стеной Неба и Земли» в вавилонских легендах саргоновского цикла211.
Рукой. – Акк. i-qá-tÍ-a. Или «руками», формы ед. и дв.ч. в этой позиции омографичны.
63–64. Зачем мне умножать слова на табличке? – Акк. mì-na-am i-tup-pì-im lu-ša-am-i-id. Похожие риторические вопросы встречаются в староассирийских письмах212:
mì-nam ma-da-tim.lu-lá-pì-ta-ku-um «Зачем мне писать тебе много?» (ATHE 39: 18–19);
mì-na-am lu-ša-am-i-sí-na «Зачем мне умножать их213?» (TC 3 107: 46).
Оба примера подтверждают, что mīnam следует понимать как вопросительное наречие «зачем», а не как вопросительное местоимение «что». В пассаже «Легенды» отсутствие прямого дополнения – ср. восстановленное в переводе «слова» – несколько необычно, но два других примера также указывают на его стертый характер: в первом оно выражено прилагательным без существительного, а во втором – местоимением без антецедента.
Что касается общего смысла риторического вопроса, большинство издателей сходится во мнении, что он задается от лица Саргона и указывает на то, что судить о человеке нужно по делам, а не по словам. Другое толкование у Кавиньо: с его точки зрения, вопрос задает писец, размышляя о том, что лучше написать в последних строках таблички214. Эта остроумная гипотеза, однако, не учитывает посыл похожих высказываний в письмах.
Разве Ану меня не знает? – Акк. a-nu-um lá i-TÍ-a-ni. Глагольная форма в разных изданиях анализируется как lā iddi’anni «не оставил меня»215 или lā īde’anni «не знает меня»216. Оба прочтения опираются на параллели217, и сделать окончательный выбор нам не представляется возможным. В переводе мы отдаем предпочтение второму толкованию, так как бог неба Ану в месопотамской мифологии этого периода предстает как deus otiosus, не вмешивающийся в человеческие дела218; кроме того, эта интерпретация хорошо соответствует топосу об истинности царского высказывания, который широко представлен в произведении (см. вступительную статью). Вслед за Дерксеном мы понимаем предложение как риторический вопрос, продолжающий мысль о том, что Саргон достаточно знаменит без лишних славословий.
64–65. Поскольку я царь и завоевал Верхнюю страну с Нижней. – Акк. ki-ma lugal a-na-ku-ni ma-tám e-li-tám ù ša-áp-li-tám aṣ-bu-tu-ni-i. Придаточное предложение издатели и комментаторы относят либо направо, к ša-tu-uk-ki li-ša-ar-bi4-ú «пусть мне увеличат жертвоприношение»219, либо налево, к a-nu-um lá i-dÍ-a-ni (с разными переводами220. Если относить глагольную форму к idûm «знать», несколько более предпочтительным представляется первый вариант, так как сочетание прямого дополнения и изъяснительного придаточного при этом глаголе, насколько нам известно, более нигде не встречается221.
Адад – царь! – Акк.diškur lugal. С палеографической точки зрения эти два слова могут относиться либо к концу стк. 65, либо к концу стк. 66222. Первая точка зрения, хотя ее и придерживается большинство исследователей, создает труднопреодолимые синтаксические проблемы, поэтому мы принимаем предложение Дерксена. О смысле этого восклицания см. во вступительной статье.
Авторы выражают благодарность Л.Е. Когану за ряд ценных замечаний и предложений к работе.
1 Новейший обзор истории Канеша и Староассирийского периода в целом см. в работе Barjamovic 2022.
2 Об археологическом памятнике и истории раскопок см., например, Kulakoğlu 2011.
3 Обзор староассирийского корпуса см., например, в Kouwenberg 2017, 1–10.
4 Последнюю по времени публикацию этих текстов см. в работе Wasserman, Zomer 2022.
5 Надпись RIMA A.0.33.1, принадлежавшая царю Эришуму и посвященная храмовому строительству в Ашшуре, известна по двум копиям из Кюльтепе.
6 О них см. Hecker 1993; 1996. Обзор дискуссии о том, существовала ли в Канеше частная писцовая школа, см. в Barjamovic 2015, 65–71.
7 О социокультурном и архивном контекстах литературного корпуса из Кюльтепе см. Barjamovic 2015.
8 Dercksen 2005, 123.
9 Günbattı 1997 (= Günbattı 1998).
10 Van De Mieroop 2000; Foster 2005, 71–75; Dercksen 2005; Alster, Oshima 2007. Мы не учитываем отдельно перевод в монографии Б. Понграц-Ляйстен (Pongratz-Leisten 2015, 154–155), так как он, как отмечает сама автор, близко следует изданию Дерксена.
11 Hecker 2001, 58–60; Haul 2009, 339–354.
12 Cavigneaux 2005.
13 См. ссылки ниже в комментарии.
14 Haul 2009, ix.
15 Стандартное издание аккадоязычных произведений корпуса (за исключением староассирийской «Легенды», опубликованной позднее) – Goodnick Westenholz 1997. Ссылки на издания шумероязычной легенды о Саргоне и хеттской версии одной из легенд о Нарам-Сине см. ibid., 4–5.
16 Van De Mieroop 2000, 155–156. О пародии в месопотамской литературе в целом см. Jiménez 2017, 97–103. О типе литературной пародии, который подразумевает пародирование не одного конкретного текста, но целого жанра («general parody»), см. ibid., 99.
17 Liverani 2010, 238–244.
18 «Extraordinary parody on the Mesopotamian epic tradition of the Sargonic kings» (Foster 2005, 71). Сразу заметим, что само по себе это утверждение вряд ли может быть обосновано, поскольку подавляющее большинство произведений саргоновского цикла было письменно зафиксировано позже, чем староассирийская «Легенда».
19 Foster 2005, 71–72.
20 Foster 2005, 71–72.
21 См. Dercksen 2005, 108, n. 3; Cavigneaux 2005, 59; Alster, Oshima 2007, 1, n. 5.
22 Cavigneaux 2005, 595–596.
23 См., например, Lämmerhirt 2010, 320. Б. Кауэнберг (Kouwenberg 2015, 169–170) также полагает, что в «Легенде» преобладает комический элемент.
24 Liverani 2010, 239.
25 Liverani 2010, 239–241.
26 Кроме прочего, это связано с тем, что панегирический текст a priori допускает и даже предполагает гиперболизацию описываемых событий.
27 Goodnick Westenholz 2007, 23.
28 Goodnick Westenholz 2007, 21–22, 26.
29 Alster, Oshima 2007, 6–8.
30 Alster, Oshima 2007, 8.
31 Dercksen 2005, 121–123.
32 Строго говоря, текст «Легенды» не содержит никаких прямых свидетельств об обожествлении Саргона. Не подразумевает обязательного обожествления предков и ритуал kispum (см. литературу, указанную в следующем примечании).
33 FM 3 4: 5–6. Литература о ритуале kispum обширна, см. недавние публикации с указанием более ранних работ: Jacquet 2011, 43–46; 2012; Stol 2017; Lange-Weber 2021. В староассирийских текстах, напротив, ритуал kispum до сих пор не засвидетельствован (ср. Dercksen 2005, 121). О культе умерших предков в Староассирийский период см. Veenhof 2008; Michel 2008; 2009.
34 Почитание обожествленных Саргона и Нарам-Сина также засвидетельствовано для Ниппура в эпоху III династии Ура, см. Dercksen 2005, 116.
35 В качестве параллели к своим построениям Дерксен (Dercksen 2005, 122–125) приводит примеры почитания среднеассирийскими правителями своих царственных (но, впрочем, не обожествленных) предков.
36 RIME 2.1.4.9: 6–8, RIME 2.1.4.11: 6–8, RIME 2.1.4.12: 6–7, RIME 2.1.4.13: 6–7, см. также RIME 2.1.4.10: 13–15.
37 Franke 1995, 162–163 с указанием литературы.
38 См., например, Kogan, Markina 2014a, 239.
39 См. RIME 1.14.20.1: i 46 – ii 2, ii 12–16. Ср. также схожий пассаж в RIME 4.1.10.1001: 13–16, тексте, прославляющем, предположительно, царя I Династии Исина Энлиль-бани. В I тысячелетии фраза «от восхода солнца до захода солнца» встречается в «Саргоновской географии», описывающей пределы империи Саргона Древнего (см. Horowitz 1998, 72, стк. 43–44, ср. ibid., 88–89), а также в «Хронике Вейднера», в которой это выражение применяется к странам, восставшим против власти основателя Староаккадской державы (Grayson 1975, 149, l. 52–53).
40 Castellino 1972, 34 l. 42.
41 Attinger, Mittermayer 2020, 205, l. 32.
42 О культе Адада в Староассирийский период см. Schwemer 2001, 237–264. Зачастую Адад и Ашшур упоминаются в староассирийских документах вместе, образуя, по-видимому, пару наиболее почитаемых божеств, см. ibid., 237–238.
43 Упоминание Адада в начале и конце текста образует инклюзио, обеспечивающее композиционное единство текста.
44 Мы используем обозначение, предложенное в работе Kogan, Markina 2014b, 226. Об истории этого топоса см., в первую очередь, Liverani 2010, 229–237, а также Ludwig 1990, 54–65; Lämmerhirt 2010, 148–150, 300–303, 320. Краткие замечания появляются обычно и в изданиях «Легенды», см, например, Dercksen 2005, 117–118.
45 См. RIME 2.1.2.4: 73–78, RIME 2.1.2.6: 78–83, RIME 2.1.2.7: 37–42, RIME 2.1.2.8: 39–31. Перевод клятвы на русский язык приводится в работе Kogan, Markina 2014b, 213, стк. 72–77. О трудностях, связанных с синтаксическим толкованием аккадской клятвы, см. ibid., 225–226.
46 См. RIME 2.1.3.1: 47–52.
47 См. RIME 2.1.4.2: viii 28 – viii 1. Этот сильно поврежденный пассаж не учтен в работе М. Ливерани. Примечательно, что в надписи Нарам-Сина упоминаются не Шамаш и Илаба, как у Римуша и Маништушу, а Иштар-Аннунитум и, предположительно, Энлиль.
48 О трудностях, связанных с грамматической интерпретацией шумерской формулы, см. Haayer 1983; Ludwig 1990, 202–203. Многие исследователи полагают, что шумерское изречение представляет собой кальку клятвенной формулы, известной по надписям староаккадских правителей. Нельзя исключить и обратное направление заимствования – теоретически его источником могли быть старошумерские царские тексты, сохранившиеся до наших дней в очень неполном виде (мы благодарим Р. М. Нуруллина за это замечание; некоторые примеры ориентации староаккадских правителей на старошумерские царские надписи см. в Franke 1995, 120–122, 126–128, 145–146).
49 ETCSL 2.4.2.2: 316–319, ETCSL 2.4.2.5: 51–52. Заметим, что топос «царской искренности» появляется в гимнах Шульги и без привязки к интересующей нас здесь формуле, см. об этом Ludwig 1990, 54–65.
50 ETCSL 2.5.4.1: 378–382. У Ишме-Дагана обсуждаемая клятвенная формула, вероятнее всего, является прямым заимствованием из гимнов Шульги – литературное и идеологическое подражание Ишме-Дагана Шульги хорошо известно, см. об этом Klein 1985, 7–19; 1990, 65–79.
51 ETCSL 2.4.2.5: 51–52.
52 Речь идет о следующих текстах: Бавианская надпись Синаххериба (RINAP 3/2 223: 23b–26; не учитывается в работе М. Ливерани), Цилиндр A Набополасара (Beaulieu 2003, 4–5; ср. Al-Rawi 1985, 5, l. 14–15), Крестообразный монумент Маништушу (Sollberger 1968, 62, l. 13′–16′; Al-Rawi, George 1994, 146, l. 28–36) и, наконец, Бехистунская надпись Дария I (von Voigtlander 1978, 42, l. 98–99). Для каждого из них характерно, по той или иной причине, подражание саргоновским царским надписям. Зачастую, наряду с воспроизведением клятвы, в этих текстах появляется также топос «одного года», впервые засвидетельствованный в надписях Нарам-Сина (ср. Liverani 2010, 236).
53 Dercksen 2005, 117; Cavigneaux 2005, 598–599; Alster, Oshima 2007, 8; Liverani 2010, 239.
54 Это же утверждение применимо и к появлению в «Легенде» топоса «одного дня», восходящего к надписям Нарам-Сина. В качестве другого примера можно указать на бытовавшее в поздние эпохи истории Месопотамии представление о том, что два наиболее значимых правителя Староаккадского периода, Саргон и Нарам-Син, приходились друг другу отцом и сыном (в действительности Саргон был дедом Нарам-Сина), см. Powell 1991, 23. Примеры других типологически схожих анахронизмов см. в Alster, Oshima 2007, 7.
55 Альстер и Осима (Alster, Oshima 2007, 4) предполагают, что схожее деление присутствует в произведении «Саргон – царь битвы!», однако эта гипотеза не подтверждается текстовыми данными.
56 Этот переход коррелирует также со сменой повествователя – от третьего лица к первому.
57 Исследователи обычно разделяют события, связанные с пребыванием Саргона и его войска во тьме и с его завоеваниями в Малой Азии (см., например, Dercksen 2005, 108), однако вполне вероятно, что с точки зрения составителя «Легенды» этот сегмент текста представлял собой единое тематическое целое – на это, по крайней мере, указывает отсутствие повтора клятвенной формулы. Заметим также, что Фостер и Ван Де Мироп в своих переводах относят клятвенную формулу к предшествующему ей тексту. Вслед за Дерксеном и другими переводчиками мы, однако, считаем, что собственно содержание клятвы следует за глаголом «клясться».
58 О филологических трудностях в интерпретации этих строк см. комментарий.
59 Ср. Liverani 2010, 241.
60 Castellino 1972, 41 l. 109; ср. ETCSL 2.4.2.2: 108.
61 См. Klein 1981, 180–181.
62 Klein 1985.
63 Demsky 2005, 91.
64 Пс 17 : 33–34 (= 2 Цар 22 : 33–34); синодальный перевод.
65 2 Цар 1 : 23; синодальный перевод. Подробнее о мотиве исключительной скорости царя или героя в библейской, талмудической и греческой традициях см. Demsky 2005.
66 Goodnick Westenholz 2007, 25.
67 Biebuyck 1978, 340–341.
68 Thompson 1955–1958.
69 RIME 2.1.1.11: 41–44 (аккадская версия). Ср. в шумерской версии этой надписи: «13 отрядов (erin₂) ежедневно едят перед ним хлеб» (RIME 2.1.1.11: 34–37). О природе числового расхождения двух версий см. Sommerfeld 2008, 233–235.
70 О. Вестенхольц (Westenholz 1999, 68) с осторожностью предполагает, что под 5400 пирующими мужчинами имеются в виду «девять отрядов Аккаде», упомянутые однажды в надписи самого Саргона (RIME 2.1.1.3: 6–13) и, видимо, стоящие за упоминанием «девяти военачальников Аккаде» в надписи Нарам-Сина (Wilcke 1997, ii 24). Косвенным указанием на то, что участниками пира Саргона были именно воины, является употребление в шумерской версии надписи лексемы erin₂ «отряд», которая вряд ли могла использоваться по отношению к придворным.
71 См. об этом Kogan, Markina 2014a, 247; Kogan 2020, 380–381. Примечательно, что в двух из библейских пассажей, в которых появляется это выражение (4 Цар 25 : 27–30; Иер 52 : 31–34), речь идет об особом расположении, которое оказывал вавилонский царь Авель-Мардук плененному царю Иудеи, приглашая его, в частности, к участию в царском пиршестве.
72 О природе этой гиперболизации в связи с проблемой жанровой идентификации «Легенды» см. выше.
73 См. об этих текстах и стоящих за ними реалиях Lafont 1985; Sasson 2004; Charpin 2013.
74 ARM 1 52: 32–35. Содержательно сходные пассажи встречаются в неопубликованном письме Шамши-Адада, которое цитируется в работе Ziegler 2008, 51–52.
75 Предсказания этого типа обычно представляют собой упоминание более или менее мифологизированных событий из жизни некоторых знаменитых царей Месопотамии.
76 Goodnick Westenholz 1997, no. 6 ii 59–63. О ветхозаветной параллели к образу звезд как войска см. Kogan 2005, 735–736.
77 Омены цитируются по Haul 2009, 215. Ниже не приводится фрагментарный омен TIM 9 48 iv 9'–11', близкий по содержанию к соответствующему пассажу из старовавилонской легенды, однако в сохранившейся части не упоминающий Саргона.
78 Steinkeller 2014.
79 George 2016. Ут-напишти, Саргон и Нур-Даган, царь Пурушханды (ср. ниже), вместе упоминаются в неясном контексте на оборотной стороне «Вавилонской карты мира» (Horowitz 1998, 23, l. rev. 10').
80 Cavigneaux 2005, 599.
81 IX таблица (George 2003, 666–675).
82 Horowitz 1998, 20–25, l. obv. 18.
83 Horowitz 1997.
84 George 2003, 262, l. 30′–31′.
85 Или: «Когда кружились они, разломили Сирару и Ливан».
86 George 2003, 608, l. 133–134.
87 George 1990; 2003, 467–468.
88 George 2003, 467.
89 Horowitz 1998, 70, l. 30–31. В. Хоровитц (ibid., 86) обращает внимание на то, что роль Саргона в этом отрывке отчасти напоминает роль бога Мардука, который создает части мироздания из тела убитой Тиамат в вавилонской поэме о сотворении мира «Энума Элиш» (см. Lambert 2013, 94, l. 137–146).
90 Следует отметить, однако, что образ «дикаря в звериной шкуре» в прямом виде в месопотамской литературе не встречается. Отдаленной параллелью можно считать эпизод в «Эпосе о Гильгамеше», когда главный герой, оплакивая Энкиду, одевается в львиную шкуру и бежит в пустыню (VII 147 // VIII 91, см. George 2003, 642–643, 656–657). Не исключено также, что этот образ обыгрывается в имени царя луллубеев Иммашку – ср. акк. immaški «в шкуре» – в хурритском ритуале из Богазкея (KUB 27.38 об. IV 13'–14'), где упоминаются староаккадские правители и их противники (ср. Van De Mieroop 2000, 140–141).
91 Дерксен предполагает, что обривание макушки означает обращение в рабство (Dercksen 2005, 115), однако такой ритуал предполагал обривание половины головы или головы целиком за исключением определенных прядей волос (Reiner 2004, 479–480; Potts 2011; ср. также комментарий к стк. 52).
92 Cavigneaux 2005, 600. Ср. также упоминание о прическах иноземцев в «Саргоновской географии» (Horowitz 1998, 74–75, l. 57).
93 Или Хутура; изредка упоминается в староассирийских источниках, контексты указывают на область Пурушханды (Аджемхююка): Nashef 1982, 62; Dercksen 2005, 114.
94 Единичные упоминания в староассирийских источниках, только в форме нисбы, локализация неизвестна: Nashef 1982, 71.
95 Будущая центральная область Хеттской державы в бассейне Кызылырмака, упоминается начиная со Староассирийского периода (Nashef 1982, 57).
96 Упоминается в одном староассирийском тексте (Dercksen 2005, 115) и, изредка, в хеттских источниках в связи с центральной частью южной Анатолии (Forlanini 2017, 251–252).
97 В северо-восточном Иране; возможно, соответствует Бактрийско-Маргианскому археологическому комплексу (Steinkeller 2014, 701–704).
98 Оба народа жили в долинах северного Загроса, см. новейший обзор в Ziegler, Langlois 2022, 86–88, 114–11798.
99 В эту эпоху – западносемитское население Сирии и Восточного Средиземноморья, см. недавний обзор в Arkhipov 2022, 337–340.
100 Город на Верхнем Евфрате, в области современного Самсата (Ziegler, Langlois 2016, 108–109).
101 В древней переднеазиатской традиции Алашия; это древнейшее упоминание острова в клинописных источниках.
102 Об этом явлении в аккадском см. Kogan 2008; Kogan, Worthington 2012.
103 Goodnick Westenholz 1997, no. 6 iii 98 – iv 117.
104 [aškun?] i-na pa-ni-šu ši-im-tam «[поставил?] клеймо на его лице». Едва ли в этом контексте уместно слово šīmtum «судьба» (так во всех изданиях произведения).
105 В частности, в так называемой «Кутийской легенде» о Нарам-Сине (Goodnick Westenholz 1997, no. 22: 21–60) и в поздней «Саргоновской географии» (Horowitz 1998, 67–95).
106 Goodnick Westenholz 1997, no. 9B, 11. Поход на Пурушханду приписывался также Нарам-Сину (ibid., no. 22: 49–50). Никаких исторических подтверждений походам Саргона в Анатолию не существует. Даже Нарам-Син, насколько известно, не продвинулся в этом регионе далее долины Верхнего Тигра. См. новейший обзор завоеваний староаккадских царей: Michalowski 2020.
107 Goodnick Westenholz 1997, no. 17 i' 1'–24'.
108 Хеттская версия старовавилонской легенды о Нарам-Сине была адаптирована схожим образом: в перечень побежденных земель были включены анатолийские топонимы (Van De Mieroop 2000, 138–139). Этот список, однако, не содержит специфических параллелей со староассирийской «Легендой».
109 Hirsch 1972, 3; Schwemer 2001, 241; Dercsken 2005, 117; Kryszat 2008, 116. Имя это хорошо засвидетельствовано и в других аккадских корпусах, см. Schwemer 2001, 1002. В целом, имя Адада, наряду с именами Ашшура, Иштар и Сина, представляет собой один из самых распространенных теофорных элементов в староассирийской ономастике (Schwemer 2001, 238).
110 Hirsch 1972, 3; Schwemer 2001, 989. Как отмечает Г. Кришат (Kryszat 2008, 116), староассирийские имена типа «GN – царь! (šarrum)» могут включать в себя имена разных божеств, таких как Ану, Эа, Иштар или Син, однако никогда – имя Ашшура, за которым в ономастике закреплен титул mal(i)kum.
111 См. об этом тексте Ermidoro 2017, xvii–xviii; Pongratz-Leisten 2017, lxviii–lxxiii. Заметим, что название «Коронационный ритуал» условно, далеко не все исследователи убеждены в том, что этот памятник был связан именно с интронизацией, см., например, Radner 2002, 18 n. 196; Kryszat 2008.
112 SAA 20 7: 26′–29′.
113 Это оскорбление, как известно, обнаруживается также в тексте вавилонского ритуала akītum, см., например, Pongratz-Leisten 2015, 438.
114 См. об этом тексте Livingstone 1989, xxii–xxiv.
115 SAA 3 11: 15.
116 RIMA A.0.27.1: 1–4.
117 RIMA A.0.33.1: 35–36 (предтекст поврежден). См. об этих пассажах Kryszat 2008, 115–116.
118 По отношению к которому, тем не менее, также используется термин «царь» (стк. 1).
119 Dercksen 2005, 116–117.
120 Ср. наш комментарий.
121 Schwemer 2001, 166–168.
122 Schwemer 2001, 241, 264–265, 601–608.
123 О культе Ашшура см., например, Maul 2017.
124 См. Kouwenberg 2017, 16. Таким способом a priori может быть записан и прозаический, и поэтический текст, и основную трудность представляет собой их различение. Ср., например, об этой проблеме в изучении хеттской поэзии в работе Nurullin et al. 2019, 180. Некоторые шумерские и аккадские тексты (прежде всего из периферийных по отношению к Месопотамии областей, таких как Угарит, Хаттуса или Мегиддо) записаны схожим образом, см. Alster, Oshima 2007, 4, n. 19.
125 Так же Alster, Oshima 2007, 4, n. 19 (в остальных изданиях вопросы формальной поэтики не затрагиваются).
126 Элементы гимно-эпического диалекта присутствуют в староассирийских заклинаниях из Канеша, где они обычно рассматриваются исследователями не с точки зрения поэтики, но как результат вавилонского влияния на староассирийскую традицию. Для Дерксена отсутствие в «Легенде» таких элементов свидетельствует, в первую очередь, о ее независимости от этого влияния, см. Dercsken 2005, 119–120.
127 Cм. Kouwenberg 2017, 698.
128 См. об этом Jiménez 2017, 75; ср. Hecker 1974, 107–108.
129 Согласно традиционной точке зрения, аккадская метрика была тонической: стихи в поэтическом тексте содержали равное или близкое количество ударных групп (обычно три или четыре), см. об этом Jiménez 2017, 72–74 c указанием более ранних работ.
130 О сlausula accadica см. Jiménez 2017, 75–76 c указанием литературы.
131 Можно с осторожностью обратить внимание, например, на звуковую анафору на сочетание фонем /а/ и /ṣ/ в стк. 13–17: ṣabītam <…> ṣarˀam <…> ṣabītam aṣbat.
132 См. об этом Dercsken 2005, 112; Goodnick Westenholz 2007, 23–25.
133 См. обзоры: Dercksen 2005, 120; Kouwenberg 2017, 9, n. 25.
134 За ней может стоять стяженная форма mêt, как в некоторых старовавилонских диалектах. Такая же запись встречается, однако, в одном староассирийском письме (ср. Kouwenberg 2017, 276).
135 Нестяженные формы, совпадающие с вавилонскими, широко распространены в староассирийском корпусе наряду со стяженными (Kouwenberg 2017, 76–78).
136 Такие написания характерны для старовавилонского, однако изредка встречаются и в староассирийском (Kouwenberg 2017, 27–29).
137 Эта черта необычна как для староассирийского (ср. Kouwenberg 2017, 23), так и для старовавилонского. См. также комментарий к стк. 65 ниже.
138 Это свидетельствует против идеи Кавиньо о том, что текст был сочинен и записан в порядке импровизации (Cavigneaux 2005, 596–597).
139 О возможном исключении см. комментарий к стк. 59; также без конечного -m написан предлог qá-du в стк. 43 (ср. Kouwenberg 2017, 441).
140 Чтения и интерпретации из ранних работ (включая издание Хауля), обоснованно отклоненные в издании Дерксена, ниже специально не комментируются.
141 Durand 1991; Charpin 1991; Birot 1993, 203; Dercksen 2005, 111–112 (староассирийские вхождения). Ср. схожий семантический переход в современном южноаравийском языке мехри: rəḥbēt «город», изначально «большая улица, площадь», дословно «широкое место» (Kogan 2015, 96). Слово ribītum происходит от корня rbˀ «быть большим» (CAD R 320): распространенная ранее этимология, возводящая слово к корню (ˀ)rbˀ «четыре» (> «перекресток»: AHw. 964), не объясняет значения «главная улица».
142 Kogan, Loesov 2009, 131; Kouwenberg 2017, 169.
143 Kogan 2006, 199.
144 В форме rubûm: CAD R 395; Charpin 2004, 233.
145 Об этом грамматическом явлении см., например, Kouwenberg 2010, 274–277.
146 Dercksen 2005, 112; Mayer 2006.
147 В аккадских юридических и ритуальных текстах засвидетельствовано символическое бросание в воду комков земли (акк. kirbānum) и, реже, других предметов (см. пассажи в CAD K 402, N/2 17–18), однако эта практика вряд ли имеет прямое отношение к интересующему нас пассажу из «Легенды». В не до конца понятном отрывке из «Старовавилонского диалога между отцом и сыном» упоминается бросание кирпича (libittum) в сладкое блюдо (mersum) – возможно, как парагон бессмысленного деструктивного действия: «О Путти, кто таков, что в сладость бросил кирпич, | И что тому, кто добро совершил, отплатил злом?» (Foster, George 2020, 44, l. 32′–36′).
148 Dercksen 2005, 117.
149 Cavigneaux 2005, 599.
150 Dercksen 2005, 112.
151 Cр. «loins» (Dercksen 2005, 112), «sirloin(–steaks)» (Alster, Oshima 2007, 12).
152 Stol 2000, 628.
153 Dercksen 2005, 112; Cavigneaux 2005, 597, n. 8 (без ссылки на М. Стола); Alster, Oshima 2007, 13, 17–18. О библейских параллелях к представлению о костном мозге как о деликатесе см. Goodnick Westenholz 2007, 24.
154 Alster, Oshima 2007, 13–14. В предшествующих работах первый знак идентифицирован не был (не считая ранней гипотезы Дерксена, от которой он отказался в своем издании «Легенды»: Dercksen 2005, 113).
155 См. обзор в CAD A/2 416.
156 Alster, Oshima 2007, 13–14.
157 Goodnick Westenholz 1997, no. 6: 10 (a-ša-re-du-um); 9B: 7 (a-ša-<re>-ed lugal.gi-en). Эта параллель отмечается у Альстера и Осимы (Alster, Oshima 2007, 14) со ссылкой на устное сообщение Дж. Гудник-Вестенхольц.
158 Интерпретация графемы -i как притяжательного суффикса 1 л. ед.ч. впервые предложена Хекером (Hecker 2001, 58). Дерксен (Dercksen 2005, 109) относит знак к глагольной форме (i-iq-re-e-ma), однако такое решение в свете принятой нами гипотезы представляется менее привлекательным, несмотря на наличие других нестандартных plene-написаний в тексте (см. Введение).
159 Cavigneaux 2005, 597; Dercksen 2005, 109; Alster, Oshima 2007, 10.
160 Alster, Oshima 2007, 9–10, 14.
161 Dercksen 2005, 109, 113.
162 Cavigneaux 2005, 597.
163 Кауэнберг правильно относит форму e-ru-úr в этом тексте к глаголу erērum, однако считает ее морфологически нерегулярным стативом 3 л. ед.ч. (Kouwenberg 2010, 63). Напротив, форма iḫ-ḫa-ra-ar-ru в FM 6 16: 14 (о быках!) едва ли относится к этому глаголу, contra Kouwenberg 2010, 493.
164 О wadi «уже» см. Kouwenberg 2013, 331–338.
165 То есть поле автора письма, расположенное рядом с полем адресата, не получало воду. О выражении ina irti-, дословно «на груди», со значением «напротив», в том числе о полях, см. CAD I–J 187; дополнительное старовавилонское вхождение: AbB 9 251: 4–5.
166 Ellis 1972, no. 66: 7–9.
167 Hecker 2001, 58 («machte … (zu) heiß»); Dercksen 2005, 109 («let … burn»); Cavigneaux 2005, 597 («fit griller»); Alster–Oshima 2007, 10 («scorched»). Верный перевод у Хауля («verdörrte»: Haul 2009, 343).
168 Эта этимология для erērum была предложена В. фон Зоденом (AHw. 238); о рефлексах *ḥrr в других семитских идиомах см. DUL 364.
169 Чтение gur-nu-um (вместо pa-nu-um в издании) предложено М. Беранже (URL: www.archibab.fr/T18700; дата обращения: 10.05.2024).
170 Соседние строки повреждены, и общий смысл не вполне ясен.
171 Landsberger 1967, 53–54.
172 Günbattı 1997, 136, 139. Эта интерпретация необоснованно отклоняется в ранних переводах, однако принимается в последних изданиях: Dercksen 2005, 113; Cavigneaux 2005, 599; Alster, Oshima 2007, 14.
173 Günbattı 1997, 136. Некоторые издатели подвергают это толкование сомнению на основании того, что во втором слоге ожидался бы гласный /ā/; вместо этого форма связывается со словом ummi’ānum (CAD U–W 108) и предлагается экстравагантный перевод «мои кредиторы» (Van De Mieroop 2001, 151; Cavigneaux 2005, 599; Haul 2009, 349). Однако спорадическое уподобление долгого /ā/ следующему гласному (при регулярном уподоблении краткого /a/) отмечается и в других староассирийских текстах (Dercksen 2005, 113).
174 I did make a distribution for the land; I divided the Ḫumānum mountain in two parts» (Dercksen 2005, 109, без комментария).
175 Van De Mieroop 2000, 151; Hecker 2001, 59; Cavigneaux 2005, 597; Alster, Oshima 2007, 10, 15; Haul 2009, 343. Два альтернативных объяснения предлагает Фостер: предметом раздачи могли быть либо драгоценные камни, либо мясо, упоминавшееся выше (Foster 2005, 73).
176 Dercksen 2005, 113.
177 D-порода этого глагола не засвидетельствована в староассирийском и помимо текста, который цитируется ниже, лишь однажды встречается в старовавилонском (см. CAD Z 83).
178 Goodnick Westenholz 1997, no. 7: i 11'.
179 Ср. Dercksen 2005, 113–114.
180 Van De Mieroop 2001, 147; Foster 2005, 74; Cavigneaux 2005, 597; во всех трех случаях без комментариев.
181 Alster, Oshima 2007, 15.
182 Haul 2009, 350.
183 Stol 2000, 626. Подробнее о староаккадском вхождении см. Kogan 2011, 34, n. 4.
184 Stol 2000, 626 («a slave mark»); Dercksen 2005, 109 («a slave mark»); Alster, Oshima 2007, 10 («slave-marks»); Cavigneaux 2005, 597 («tresses»).
185 Gelb, Kienast 1990, 241; Stol 2000, 626; Foster 2005, 75; Cavigneaux 2005, 600, n. 15; EDA I 394. Слово bibēnum встречается также в младовавилонских физиогномических оменах, где обозначает часть носа – возможно, крыло носа по аналогии с виском головы (AHw. 124). На основании связи с носом Кавиньо (там же) предполагает, что слово могло обозначать усы, однако усы, насколько известно, никогда не служили рабским атрибутом.
186 Potts 2011, 191–192.
187 У Кавиньо необычный перевод «écraser» (Cavigneaux 2005, 598, без комментария).
188 Глосса «to cut off» появляется в CAD исключительно для значения «урезать земельный участок», дословно «оторвать поле».
189 Alster, Oshima 2007, 10 («tearing off»).
190 Stol 2000, 629.
191 Cavigneaux 2005, 600–601.
192 Kouwenberg 2015, 169.
193 Roth 1997, 158.
194 Dercksen 2005, 114–115.
195 Stol 2000, 629; Kouwenberg 2015, 169.
196 Начиная с Günbattı 1997, 137, 140.
197 Alster, Oshima 2007, 14–15.
198 Вопреки сомнениям Дерксена (Dercksen 2005, 109, 115). При этом запись kà-ni-ší действительно представляет определенную проблему: нисба kanišīum требовала бы падежного окончания, ср. a-mu-ri-e (стк. 55), ki-lá-ri-e (стк. 57), lu-úḫ-mì-e (стк. 61). Гюнбатты предложил эмендацию kà-ni-ší-<e> (Günbattı 1997, 135). Нельзя исключить и показатель генитива -i/e (без мимации), несмотря на то что в староассирийских текстах этот топоним никогда не имеет падежных окончаний (Nashef 1982, 65–69). Косвенной параллелью к такой записи может служить форма ka-ni-šumki с показателем номинатива в одном из старовавилонских произведений саргоновского цикла (Goodnick Westenholz 1997, no. 17: i' 7'). Однако во всех прочих случаях мимация в падежных окончаниях в тексте выписана.
199 Günbattı 1997, 137 («diğer taraftan»); Van De Mieroop 2000, 148 («again»); Alster, Oshima 2007, 11 («in addition»).
200 Начиная с Günbattı 1997, 141.
201 Л.Е. Коган, устное замечание.
202 Salonen 1950, 108–109.
203 Kouwenberg 2015, 167–168.
204 Dercksen 2005, 109, 115; Cavigneaux 2005, 598.
205 Предположение Дерксена о том, что речь идет о неизвестной по другим источникам царице кутиев (Dercksen 2005, 115), остается спекулятивным. Возможно, писец ошибся, написав знак DAM вместо ожидаемого AM под влиянием формы tù-dí-tám в той же строке.
206 Alster, Oshima 2007, 11, 16 (с предшествующей литературой).
207 Так в большинстве изданий начиная с Van De Mieroop 2000, 148. Дерксен предположил, что знак IM, читаемый в конце стк. 63, в действительности относится к стк. 62, и идентифицировал глагольную форму как ú-ša-ri-im «slit open» (Dercksen 2005, 115). Палеографически это возможно, однако, как недавно показала Н. Циглер (Ziegler 2016, 125), šarāmum в действительности означает «пилить», что едва ли применимо к одежде. Хауль предлагает эмендацию ú-ša-ri-<iṭ> «zerriss» (Haul 2009, 344–345, 353).
208 Dercksen 2005, 115 (с обзором дискуссии); аргументы Дерксена безосновательно отклоняют Альстер и Осима (Alster, Oshima 2007, 16).
209 См. обзор: Dercksen 2005, 115–116; Alster, Oshima 2007, 16.
210 Günbattı 1997, 137, 141 («zirve»); Alster, Oshima 2007, 11 («mountain tops»).
211 Dercksen 2005, 116; Alster, Oshima 2007, 16–17.
212 На первую параллель указывает Дерксен (Dercksen 2005, 116), на вторую – Кауэнберг (Kouwenberg 2017, 573).
213 В тексте нет антецедента местоименного суффикса мн. ч. ж. р. -šina, однако с большой вероятностью подразумевается awâtum «слова».
214 Cavigneaux 2005, 596.
215 Günbattı 1997, 137; Hecker 2001, 60 (с модальной интерпретацией «soll mich nicht verwerfen», которая, однако, невозможна с претеритом); Alster, Oshima 2007, 11, 17.
216 Van De Mieroop 2000, 148, 155; Foster 2005, 74; Dercksen 2005, 110, 116; Haul 2009, 345, 353; Cavigneaux 2005, 598.
217 Божество «не бросает» человека: CAD N/1 78–79 (в частности в староассирийском, о боге Ашшуре); божество «знает» человека: CAD I–J 28. Однозначно неоправданны эмендации последовательности a-nu-um, предлагаемые Кавиньо (Cavigneaux 2005, 601) и О. Вестенхольцем (cм. Alster, Oshima 2007, 17).
218 Edzard 2004, 579.
219 Günbattı 1997, 137; Hecker 2001, 60; Dercksen 2005, 110.
220 Van De Mieroop 2000, 148; Foster 2005, 74; Cavigneaux 2005, 598; Alster, Oshima 2007, 11; Haul 2009, 345, 353; Kouwenberg 2017, 725. Plene-написание aṣ-bu-tu-ni-i может передавать вопросительную интонацию, однако сам Кауэнберг отмечает, что такие написания в ауслауте в староассирийском встречаются и в утвердительных предложениях (ibid., 23, 724; см. также вступительную статью).
221 Кауэнберг приводит лишь отдаленно похожие примеры, с другими глаголами и паратаксисом (Kouwenberg 2017, 736, n. 38).
222 Так только у Дерксена (Dercksen 2005, 110).
Об авторах
Илья Сергеевич Архипов
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: arkhipoff@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2743-8876
к.и.н., доцент; сотрудник научной группы по проекту «Мотивы и сюжеты древневосточных письменных памятников в сравнительно-исторической перспективе»
Россия, Москва; Санкт-ПетербургАрсений Федорович Успенский
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики; Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук
Email: usp91@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0005-0461-0716
студент; сотрудник научной группы по проекту «Мотивы и сюжеты древневосточных письменных памятников в сравнительно-исторической перспективе»
Россия, Москва Санкт-ПетербургСписок литературы
- Alster, B., Oshima, T. 2007: Sargonic Dinner at Kaneš: The Old Assyrian Sargon Legend. Iraq 69, 1–20.
- Al-Rawi, F. 1985: Nabopalasar’s Restoration Work on the Wall Imgur-Enlil at Babylon. Iraq 47, 1–13.
- Al-Rawi, F., George, A. 1994: Tablets from the Sippar Library. III. Two Royal Counterfeits. Iraq 56, 135–148.
- Arkhipov, I. 2022: The Middle East after the Fall of Ur: From Assur to the Levant. In: K. Radner, N. Moeller, D.T. Potts (eds.), The Oxford History of the Ancient Near East. Vol. II: From the End of the Third Millennium BC to the Fall of Babylon. Oxford, 310–407.
- Attinger, P., Mittermayer, C. 2020: Enmerkara and Ensukukešdana. In: J. Baldwin, J. Matuszak (eds.), Mu-zu an-za3-še3 kur-ur2-še3 ḫe2-ĝal2: Altorientalische Studien zu Ehren von Konrad Volk. Münster, 191–261.
- Barjamovic, G. 2015: Contextualizing Tradition: Magic, Literacy and Domestic Life in Old Assyrian Kanesh. In: P. Delnero, J. Lauinger (eds.), Texts and Contexts: The Circulation and Transmission of Cuneiform Texts in Social Space. (Studies in Ancient Near Eastern Records, 9). Berlin–Boston, 48–86.
- Barjamovic, G. 2022: Before the Kingdom of the Hittites: Anatolia in the Middle Bronze Age. In: K. Radner, N. Moeller, D.T. Potts (eds.), The Oxford History of the Ancient Near East. Vol. II: From the End of the Third Millennium BC to the Fall of Babylon. Oxford, 497–565.
- Beaulieu, P. 2003: Nabopalassar and the Antiquity of Babylon. Eretz Israel 27, 1–9.
- Biebuyck, D. 1978: The African Heroic Epic. In: F. Oinas (ed.), Heroic Epic and Saga. Bloomington–London, 336–367.
- Birot, M. 1993: Correspondance des gouverneurs de Qaṭṭunân. (Archives royales de Mari, 27). Paris.
- Boer, R. de 2021: The Ikūn-pîša Letter Archive from Tell ed-Dēr. Leuven–Paris–Bristol.
- Castellino, G.R. 1972: Two Šulgi Hymns (BC). Roma.
- Cavigneaux, A. 2005: Les soirées sargoniques des marchands assyriens. In: A. Kolde, A. Lukinovich, A.-L. Rey (eds.), Κορυφαίῳ ἀνδρί. Mélanges offerts à André Hurst. Genève, 595–602.
- Charpin, D. 1991: rebîtum “centre”. Nouvelles assyriologiques brèves et utilitaires 4, 84.
- Charpin, D. 2004: Histoire politique du Proche-Orient amorrite (2002–1595). In: P. Attinger, W. Sallaberger, M. Wäfler (eds.), Mesopotamien: die altbabylonische Zeit. Fribourg–Göttingen, 25–480.
- Charpin, D. 2013: Les usages politiques des banquets d’après les archives mésopotamiennes du début du deuxième millénaire av. J.-C. In: C. Grandjean, Ch. Hugoniot, B. Lion (eds.), Le banquet du monarque dans le monde antique. Tours–Rennes, 31–52.
- Demsky, A. 2005: Shulgi the Runner: Sumerian – Talmudic Affinities. In: Y. Sefati, P. Artzi, C. Cohen, L. Eichler, V. Hurowitz (eds.), “An Experienced Scribe Who Neglects Nothing”: Ancient Near Eastern Studies in Honor of J. Klein. Bethesda, 85–97.
- Dercksen, J.G. 2005: Adad is King! The Sargon Text from Kültepe (with an Appendix on MARV 4, 138 and 140). Jaarbericht Ex Oriente Lux 39, 107–129.
- Durand, J.-M. 1991: Agade rebîtum. Nouvelles assyriologiques brèves et utilitaires 1, 24–25.
- Edzard, D.O. 2004: Altbabylonische Literatur und Religion. In: P. Attinger, W. Sallaberger, M. Wäfler (eds.), Mesopotamien: die altbabylonische Zeit. Fribourg–Göttingen, 485–640.
- Ellis, M. de J. 1972: Old Babylonian Economic Texts and Letters from Tell Harmal. Journal of Cuneiform Studies 24, 43–69.
- Ermidoro, S. 2017: The Nature and Content of the Corpus. In: S. Parpola (ed.), Assyrian Royal Rituals and Cultic Texts. (State Archives of Assyria, XX). Winona Lake, xv–xxx.
- Forlanini, M. 2017: South Central: The Lower Land and Tarḫuntašša. In: M. Weeden, L.Z. Ullmann (eds.), Hittite Landscape and Geography. Leiden–Boston, 239–252.
- Foster, B. 2005: Before the Muses: An Anthology of Akkadian Literature. 3rd ed. Bethesda.
- Foster, B., George, A. 2020: An Old Babylonian Dialogue Between a Father and His Son. Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 110, 37–61.
- Franke, S. 1995: Königsinschriften und Königsideologie: Die Könige von Akkade zwischen Tradition und Neuerung. Münster.
- Gelb, I.J., Kienast, B. 1990: Die altakkadischen Königsinschriften des dritten Jahrtausends v.Chr. Stuttgart.
- George, A. 1990: The Day the Earth Divided: A Geological Aetiology in the Babylonian Gilgameš Epic. Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 80, 214–219.
- George, A. 2003: The Babylonian Gilgamesh Epic: Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts. Vol. I. Oxford.
- George, A. 2016: Ūt(a)-napišti(m). Reallexikon der Assyriologie 14/7–8, 512–513.
- Goodnick Westenholz, J. 1997: Legends of the Kings of Akkade: The Texts. Winona Lake.
- Goodnick Westenholz, J. 2007: Notes on the Old Assyrian Sargon Legend. Iraq 69, 21–27.
- Grayson, A.K. 1975: Assyrian and Babylonian Chronicles. Locust Valley.
- Günbattı, C. 1997: Kültepe’den Akadlı Sargon’a âit bir tablet. Archivum Anatolicum 3, 131–155.
- Günbattı, C. 1998: Kültepe’den Akadlı Sargon’a âit bir tablet. In: S. Alp, A. Süel (eds.), Acts of the IIIrd International Congress of Hittitology, Çorum, September 16–22, 1996. Ankara, 261–279.
- Haayer, G. 1983: Enigmata Sumerologica. In: I. Seybold (ed.), Meqor Ḥajjim. Festschrift für Georg Molin zu seinem 75. Geburtstag. Graz, 121–125.
- Haul, M. 2009: Stele und Legende: Untersuchungen zu den keilschriftlichen Erzählwerken über die Könige von Akkade. Göttingen.
- Hecker, K. 1974: Untersuchungen zur akkadischen Epik. Kevelaer–Neukirchen-Vluyn.
- Hecker, K. 1993: Schultexte vom Kültepe. In: M.J. Mellink, E. Porada, T. Özgüç (eds.), Aspects of Art and Iconography: Anatolia and Its Neighbors. Studies in Honor of Nimet Özgüç. Ankara, 281–291.
- Hecker, K. 1996: Schultexte aus Kültepe: ein Nachtrag. Nouvelles assyriologiques brèves et utilitaires 1, 20–21.
- Hecker, K. 2001: Ein Selbstpreis Sargons. In: O. Kaiser (ed.), Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Ergänzungslieferung. Gütersloh, 58–60.
- Hirsch, H. 1972: Untersuchungen zur altassyrischen Religion. Osnabrück.
- Horowitz, W. 1997: The Great Wall of Sargon of Akkad. Nouvelles assyriologiques brèves et utilitaires 3, 98.
- Horowitz, W. 1998: Mesopotamian Cosmic Geography. Winona Lake.
- Jacquet, A. 2011: Documents relatifs aux dépenses pour le culte. (Florilegium Marianum, XII). Paris.
- Jacquet, A. 2012: Funerary Rites and Cult of Ancestors during the Amorite period: The Evidence of the Royal Archives of Mari. In: P. Pfälzner, H. Niehr, E. Pernicka, A. Wissing (eds.), (Re-)Constructing Funerary Rituals in the Ancient Near East. Proceedings of the First International Symposium of the Tübingen Post-Graduate School “Symbols of the Dead” in May 2009. Wiesbaden, 123–136.
- Jiménez, E. 2017: The Babylonian Disputation Poems. With Editions of the Series of the Poplar, Palm and Vine, the Series of the Spider, and the Story of the Poor, Forlorn Wren. Leiden–Boston.
- Klein, J. 1981: Three Shulgi Hymns. Ramat-Gan.
- Klein, J. 1985: Šulgi and Išmedagan: Runners in the Service of the Gods (Sumerian Religious Texts 13). Beer-Sheva 2, 7–38.
- Klein, J. 1990: Šulgi and Išmedagan: Originality and Dependency in Sumerian Royal Hymnology. In: J. Klein, A. Skaist (eds.), Bar-Ilan Studies in Assyriology Dedicated to Pinhas Artzi. Ramat-Gan, 65–136.
- Kogan, L. 2005: Comparative Notes in the Old Testament (I). Babel und Bibel 2, 731–737.
- Kogan, L. 2006: Old Assyrian vs. Old Babylonian: The Lexical Dimension. In: G. Deutscher, N.B.C. Kouwenberg (eds.), The Akkadian Language in Its Semitic Context. Studies in the Akkadian of the Third and Second Millennium BC. Leiden, 177–214.
- Kogan, L. 2008: Accusative as Casus Pendens? A Hitherto Unrecognized Emphatic Construction in Early Akkadian Royal Inscriptions. Revue d’assyriologie et d’archéologie proche-orientale 102, 17–26.
- Kogan, L. 2011: On Some Orthographic Oppositions in the Old Babylonian Copies of the Sargonic Royal Inscriptions (I). Bibliotheca Orientalis 68, 33–56.
- Kogan, L. 2015: Genealogical Classification of Semitic: The Lexical Isoglosses. Boston–Berlin.
- Kogan, L. 2020: Three Philological Notes on Sargonic Royal Inscriptions. In: I. Arkhipov, L. Kogan, N. Koslova (eds.), The Third Millenium: Studies in Early Mesopotamia and Syria in Honor of Walter Sommerfeld and Manfred Krebernik. Leiden–Boston.
- Kogan, L.E., Loesov, S.V. 2009: [Akkadian Language]. In: A.G. Belova, L.E. Kogan, S.V. Loesov, O.I. Romanova (eds.), Yazyki mira: Semitskie yazyki. Akkadskiy yazyk. Severozapadnosemitskie yazyki [Languages of the World: The Semitic Languages. Akkadian. Northwest Semitic]. Moscow, 113–178. Коган, Л.Е., Лезов, С.В. Аккадский язык. В сб.: А.Г. Белова, Л.Е. Коган, С.В. Лезов, О.И. Романова (ред.), Языки мира: Семитские языки. Аккадский язык. Северозападносемитские языки. М., 113–178.
- Kogan, L.E., Markina, E.V. 2014a: [Akkadian Sources of the Sargonic (Old Akkadian) Dynasty. I. Inscriptions of Sargon of Akkad]. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History] 3, 230–250. Коган, Л.Е., Маркина, Е.В. Аккадские источники Саргоновской (Староаккадской) династии. I. Надписи Саргона Аккадского. ВДИ 3, 230–250.
- Kogan, L.E., Markina, E.V. 2014b: [Akkadian Sources of the Sargonic (Old Akkadian) Dynasty. II. Inscriptions of Rimush]. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History] 4, 219–256. Коган, Л.Е., Маркина, Е.В. Аккадские источники Саргоновской (Староаккадской) династии. II. Надписи Римуша. ВДИ 4, 219–256.
- Kogan, L., Worthington, M. 2012: Accusative Casus Pendens. Some Further Examples. Babel und Bibel 6, 487–492.
- Kouwenberg, N.J.C. 2010: The Akkadian Verb and Its Semitic Background. Winona Lake.
- Kouwenberg, N.J.C. 2013: Review of: Wasserman, N. Most Probably: Epistemic Modality in Old Babylonian, 2012. Babel und Bibel 7, 321–351.
- Kouwenberg, N.J.C. 2015: Sargon’s tūdittum, or How to Make Fools of Your Enemies. In: İ. Albayrak, H. Erol, M. Çayır (eds.), Cahit Günbattı’ya Armağan. Studies in Honour of Cahit Günbattı. Ankara, 165–170.
- Kouwenberg, N.J.C. 2017: A Grammar of Old Assyrian. Leiden–Boston.
- Kryszat, G. 2008: “Aššur ist König”. Das mittelassyrische Könungsritual im Lichte assyrischer Identitätsfindung. In: D. Prechel (ed.), Fest und Eid. Instrumente der Herrschaftssicherung im Alten Orient. Würzburg, 109–119.
- Kulakoğlu, F. 2011: Kültepe-Kaneš: A Second Millennium B.C.E. Trading Center on the Central Plateau. In: S.R. Steadman, G. McMahon (eds.), The Oxford Handbook of Ancient Anatolia 10,000–323 B.C.E. Oxford, 1012–1030.
- Lafont, B. 1985: Le ṣâbum du roi de Mari au temps de Yasmah-Addu. In: J.-M. Durand, J.-R. Kupper (eds.), Miscellanea babylonica: Mélanges offerts au Maurice Birot. Paris, 161–180.
- Lambert, W.G. 2013: Babylonian Creation Myths. Winona Lake.
- Landsberger, B. 1967: The Date Palm and Its By-products According to the Cuneiform Sources. Graz.
- Lange-Weber, S. 2021: Das Totenmahl in Syrien im 2. Jahrtausend v. Chr. Eine Untersuchung zur Bedeutung, Symbolik und Tradition eines altorientalischen Konzepts in philologischer, archäologischer und religionsgeschichtlicher Perspektive am Beispiel von Mari, Qaṭna und Ugarit. Wiesbaden.
- Lämmerhirt, K. 2010: Wahrheit und Trug: Untersuchungen zur altorientalischen Begriffsgeschichte. Münster.
- Liverani, M. 2010: “Untruthful Steles”: Propaganda and Reliability in Ancient Mesopotamia. In: S. Melville, A. Slotsky (eds.), Opening the Tablet Box: Near Eastern Studies in Honor of Benjamin R. Foster. Leiden–Boston, 229–244.
- Livingstone, A. 1989: Court Poetry and Literary Miscellanea. (State Archives of Assyria, III). Helsinki.
- Ludwig, M.-Ch. 1990: Untersuchungen zu den Hymnen des Išme-Dagan von Isin. Wiesbaden.
- Maul, S.M. 2017: Assyrian Religion. In: E. Frahm (ed.), A Companion to Assyria. Hoboken, 336–358.
- Mayer, W.R. 2006: Sargons Märchen-Gürtel. Orientalia 75, 182–183.
- Michalowski, P. 2020: The Kingdom of Akkad in Contact with the World. In: K. Radner, N. Moeller, D.T. Potts (eds.), The Oxford History of the Ancient Near East. Vol. I. From the Beginnings to Old Kingdom Egypt and the Dynasty of Akkad. Oxford, 686–764.
- Michel, C. 2008: Les Assyriens et les esprits de leurs morts. In: C. Michel (ed.), Old Assyrian Studies in Memory of Paul Garelli. Leiden, 181–198.
- Michel, C. 2009: Femmes et ancêtres. Le cas des femmes d’Aššur. In: F. Briquel-Chatonnet, S. Farès, B. Lion, C. Michel (eds.), Femmes, cultures et sociétés dans les civilisations méditerranéennes et proche-orientales de l’Antiquité. Lyon, 27–39.
- Nashef, Kh. 1982: Die Orts- und Gewässernamen der mittelbabylonischen und mittelassyrischen Zeit. Wiesbaden.
- Nurullin, R., Roudik, N., Molina, M., Sideltsev, A., Skulacheva, T. 2019: The Most Ancient Verse in the World (Sumerian, Akkadian, Hittite): Quantitative Analysis. In: P. Plecháč, B.P. Scherr, T. Skulacheva, H. Bermúdez-Sabel, R. Kolár (eds.), Quantitative Approaches to Versification. Prague, 173–182.
- Pongratz-Leisten, B. 2015: Religion and Ideology in Assyria. Boston–Berlin.
- Pongratz-Leisten, B. 2017: The Assyrian State Rituals: Re-invention of Tradition. In: S. Parpola (ed.), Assyrian Royal Rituals and Cultic Texts. (State Archives of Assyria, XX). Winona Lake, xxxi–lxxv.
- Potts, D.T. 2011: The abbuttu and the Alleged Elamite ‘Slave Hairstyle’. In: L. Vacín (ed.), U4 DU11-GA-NI SÁ MU-NI-IB-DU11. Ancient Near Eastern Studies in Memory of Blahoslav Hruška. Dresden, 183–194.
- Powell, M.A. 1991: Narām-Sîn, Son of Sargon: Ancient History, Famous Names, and a Famous Babylonian Forgery. Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 81, 20–30.
- Radner, K. 2002: Die neuassyrischen Texte aus Tall Šēh Hamad. Berlin.
- Reiner, E. 2004: Runaway – Seize Him. In: J.G. Dercksen (ed.), Assyria and Beyond. Studies Presented to Mogens Trolle Larsen. Leiden, 475–482.
- Roth, M. 1997: Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor. 2nd ed. Atlanta.
- Salonen, A. 1950: Some Akkadian Etymologies. Journal of Near Eastern Studies 9, 108–110.
- Sasson, J.M. 2004: The King’s Table: Food and Fealty in Old Babylonian Mari. In: C. Grotanelli, L. Milano (eds.), Food and Identity in the Ancient World. Padova, 179–215.
- Schwemer, D. 2001: Die Wettergottgestalten Mesopotamiens und Nordsyriens im Zeitalter der Keilschriftkulturen. Wiesbaden.
- Sollberger, E. 1968: The Cruciform Monument. Jaarbericht Ex Oriente Lux 20, 50–70.
- Sommerfeld, W. 2008: Große Zahlen in den altakkadischen Königsinschriften. Archiv für Orientforschung 35, 220–237.
- Steinkeller, P. 2014: Marhaši and Beyond: The Jiroft Civilization in a Historical Perspective. In: C.C. Lamberg-Karlovsky, B. Genito (eds.), ‘My Life is like the Summer Rose’. Maurizio Tosi e l’Archeologia come modo di vivere. Papers in Honour of Maurizio Tosi for His 70th Birthday. Oxford, 691–707.
- Stol, M. 2000: Review of: J. Black et al., A Concise Dictionary of Akkadian, Wiesbaden, 1999. Bibliotheca Orientalis 57, 625–629.
- Stol, M. 2017: Ghosts at the Table. In: D. Kertai, O. Nieuwenhuyse (eds.), From the Four Corners of the Earth. Study in Iconography and Cultures of the Ancient Near East in Honor of F.A.M. Wiggermann. Münster, 259–282.
- Thompson, S. 1955–1958: Motif-index of Folk-literature: A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-books, and Local Legends. Revised and enlarged ed. Bloomington–Indianapolis.
- Van De Mieroop, M. 2000: Sargon of Agade and His Successors in Anatolia. Studi Micenei ed Egeo Anatolici 42, 133–159.
- Veenhof, K. 2008: The Death and Burial of Ishtar-lamassi in Karum Kanish. In: R.J. van der Spek (ed.), Studies in Ancient Near Eastern World View and Society Presented to Marten Stol on the Occasion of his 65th Birthday, 10 November 2005, and his Retirement from the Vrije Universiteit Amsterdam. Bethesda, 97–120.
- von Voigtlander, E.N. 1978: The Bisitun Inscription of Darius the Great. Babylonian Version. London.
- Wasserman, N., Zomer, E. 2022: Akkadian Magic Literature. Old Babylonian and Old Assyrian Incantations: Corpus – Context – Praxis. Wiesbaden.
- Westenholz, A. 1999: The Old Akkadian Period: History and Culture. In: W. Sallaberger, A. Westenholz (eds.), Mesopotamien. Akkade-Zeit und Ur III-Zeit. Freiburg– Göttingen, 17–117.
- Wilcke, C. 1997: Amargirid’s Revolte gegen Narām-Su’en. Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 87, 11–32.
- Ziegler, N. 2008: Samsî-Addu et ses soldats. In: P. Abrahami, L. Battini (eds.), Les armées du Proche-Orient ancien (IIIe – Ier mill. av. J.-C.): Actes du colloque international organisé à Lyon les Ier et 2ème décembre 2006, Maison de l’Orient et de la Méditerranée. Oxford, 49–56.
- Ziegler, N. 2016: Aqba-Hammu et le début du mythe d’Atram-hasis. Revue d’assyriologie et d’archéologie proche-orientale 110, 107–126.
- Ziegler, N., Langlois, A.-I. 2016: Les Toponymes paléo-babyloniens de la Haute-Mésopotamie. Paris.
- Ziegler, N., Langlois, A.-I. 2022: Les Toponymes paléo-babyloniens des régions à l’est du Tigre. Paris.