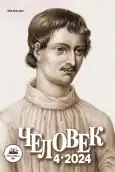Изменяющаяся утопия Ивана Ефремова: от прометеанизма к экологизму
- Авторы: Сергеев С.А.1, Сергеева З.Х.2
-
Учреждения:
- Казанский федеральный университет
- Казанский национальный исследовательский технологический университет
- Выпуск: Том 35, № 4 (2024)
- Страницы: 132-148
- Раздел: Символы. Ценности. Идеалы
- URL: https://bakhtiniada.ru/0236-2007/article/view/263538
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0236200724040082
- ID: 263538
Полный текст
Аннотация
Российский ученый-палеонтолог и писатель-фантаст Иван Антонович Ефремов (1908–1972) в своих романах «Туманность Андромеды» и «Час Быка» представил картину далекого будущего Земли. Но между изображенными в двух романах утопическими обществами есть ряд отличий (хотя в «Часе Быка» Земля будущего описана вскользь). В статье анализируется, что именно изменил Ефремов в своей второй утопии, и высказываются предположения, почему он это сделал. В романе «Туманность Андромеды» изображено эгалитарное и антиавторитарное общество физически и интеллектуально развитых людей, подобных героям и полубогам древности, которое активно преобразует природу. Отношение к природе как к объекту приложения человеком своих сил и ресурсу получило название прометеанизма (прометеанства). Последнему противопоставляется экологизм, заявляющий об исчерпаемости ресурсов и необходимости для человечества находиться в гармонии с природой. Прометеанистские черты утопического общества в «Туманности Андромеды», однако, сопровождаются важными оговорками, заставляющими усомниться в прометеанизме автора. В «Часе Быка» Ефремов твердо стоит на позициях экологизма, недвусмысленно предупреждая об опасностях прометеанизма, а его сильные и свободные герои убеждены в необходимости самоограничения, базирующегося на этической и, возможно, религиозной основе. Таким образом, романы И.А. Ефремова «Туманность Андромеды» и «Час Быка» показывают нам утопию в развитии (что обусловлено и изменением социально-политического контекста, и движением авторской мысли), стимулируя и сегодня появление новых идей в дискуссиях о постчеловечестве, прометеанизме и экофилософии.
Ключевые слова
Полный текст
Иван Антонович Ефремов (1908–1972) — один из немногих российских мыслителей, кто еще в 1950–1960-е годы осознал и отобразил противоречие между двумя типами мировоззрений, которое и сегодня находится в центре дискуссий о гуманизме, постгуманизме и постантропоцентризме [Брайдотти, 2021: 94–95]. Эти типы мировозрений — прометеанизм (в отечественной литературе также употребляется его синоним — прометеанство)1 и экологизм. Для первого типа, восходящего к идеям эпохи Просвещения, преобразование человеком окружающей среды и самого человека представляется допустимым и даже необходимым, для второго же — покорение природы есть насилие над ней.
Указанное противоречие было осознано И.А. Ефремовым не сразу. Исследование, представленное в данной статье, имеет двоякую цель: во-первых, выяснить, какие изменения вносил Ефремов в создаваемый им мир утопической Земли далекого будущего, и, во-вторых, как эти изменения и дополнения связаны с переосмыслением допустимости и необходимости покорения (или преобразования) природы и человека.
Термин «прометеанизм» получил распространение относительно недавно. На рубеже 1970–1980-х годов эколог и философ Дж. Дризек, полемизируя с Дж. Саймоном и его единомышленниками, доказывавшими, что ресурсы Земли фактически неограниченны и в случае удорожания или исчезновения какого-либо ресурса человечество неизменно находит ему замену [Simon 1981; The Resourceful Earth, 1984], назвал подобный взгляд «прометеанизмом» [Dryzek, 2013: 52]. Ранее подобный взгляд именовался «корнукопианством» (от лат. cornucopia — «рог изобилия») [ibid.; Simon, 1981]. Сам Дризек отстаивал и развивал подход, ранее заявленный в докладе Римского клуба «Пределы роста»: при существующих тенденциях потребления ресурсов, загрязнения окружающей среды и демографического роста, по утверждению авторов доклада, человечество в течение ближайших нескольких десятков лет ожидает катастрофа [Meadows, 1972].
Главные черты прометеанского дискурса можно суммировать следующим образом: это представление о природе как о некоем «диком» или «необработанном» объекте, который надлежит подчинить человеческой воле ради извлечения ресурсов; убежденность в фактической неограниченности ресурсов Земли, что обеспечивает возможность постоянного роста производства для удовлетворения растущих потребностей человечества (которое ставится безусловно выше других живых существ и природы) и извлечения прибыли; восхищение возможностями человеческой техники и технологий [Dryzek, 2013: 59–63; Кондрашов, 2022: 15–16].
Возможно, радикальные экологи 1990-х годов, придав понятию «прометеизм» негативные коннотации, отталкивались от высказанной еще в середине 1950-х годов Г. Маркузе концепции репрессивной цивилизации, ставящей во главу угла тяжкий труд, производительность и прогресс путем подавления. Культурным героем такой цивилизации Маркузе объявил Прометея, противопоставив ему архетипы нерепрессивной цивилизации — Орфея и Нарцисса [Маркузе, 1995: 165–166].
Однако прометеанизм и прометеанский дискурс стали пониматься шире — не только как представление о фактической неограниченности ресурсов эпохи позднего индустриализма, но и как убеждение в необходимости и правильности неограниченного развития человечества, человеческого прогресса. Тем самым прометеанизм стал обозначением основной интенции проекта эпохи Просвещения и даже шире — прогрессизма Нового времени. К прометеанским мыслителям относили К. Маркса (что вызывало резкие возражения со стороны ряда марксистов, доказывавших антипрометеанский и экологический характер его идей) [Burkett, 1999; Кондрашов, 2022], А. Богданова [Саймиддинов, 2019] и даже западноевропейских алхимиков Средневековья и начала Нового времени, стремившихся к созданию искусственной жизни («гомункулусов») [Newman, 2004].
Прометеанские черты нетрудно обнаружить в утопическом романе палеонтолога и писателя-фантаста И.А. Ефремова «Туманность Андромеды», написанном (1955–1956) и опубликованном (1957) в годы первой «оттепели». Но во втором своем романе о далеком будущем, «Час Быка» (1961–1968), завершенном через одиннадцать лет после публикации «Туманности Андромеды», Ефремов уже резко осудил «прометеанский комплекс» современной цивилизации, сделав это почти синхронно с уже упомянутым докладом Римского клуба «Пределы роста».
Примечательно, что еще задолго до рассмотренной выше полемики по вопросам экологии религиозные философы и мыслители осуждали «титанизм» и «прометеанизм» («прометеизм») в силу понимания ими этого мировоззрения как «безудержного самоутверждения» личности-титана, богоборческого по своей сути и самоубийственного [Лосев, 2017: 49]. Литовский католический философ А. Мацейна в конце 1930-х годов осуждал «прометеевскую идею» за стремление утвердить божественность человека «только своими силами и своею волею» [Мацейна, 2019: 258]. Впоследствии, подробно рассматривая эволюцию прометеевского мифа в искусстве, А.Ф. Лосев отмечал, что Прометей — символ прогрессирующей цивилизации [Лосев, 1995: 190], и в завершение обзора образов Прометея в разные исторические эпохи резюмировал, что Прометей А. Скрябина — это Сатана [там же: 254]. В свою очередь А. Гачева и С. Семенова видели в прометеизме опасное проявление человеческой гордыни [Гачева, 2012: 33, 40; Семенова, 2020: 322].
Современные философы-акселерационисты оценивают концепцию прометеанизма по сравнению с религиозными мыслителями диаметрально противоположным образом. Задавая вопрос о том, может ли человек по своей воле изменять что-то в окружающем его мире и в себе самом, они отвечают утвердительно: да, может и должен. Так, абстрагируясь от экологических аспектов прометеанизма, Р. Брассье указывает на его атеистический и рационалистический характер: «Прометеанизм — это попытка участвовать в сотворении мира, не подчиняясь божественному проекту» [Brassier, 2014: 485]. Также Брассье полагает, что, несмотря на опровержения левых экологов, К. Марксом все-таки был заложен именно прометеанистский проект [ibid: 487].
Таким образом, прометеанизм становится еще одним поводом для раскола левых мыслителей: одни осуждают его как проект рыночно-капиталистический и неолиберальный, стараясь отвести от Маркса обвинения в прометеанизме, другие же, в частности акселерационисты, напротив, надеются на то, что успехи технологий, автоматизация и искусственный интеллект придадут левому движению новые силы, и рисуют утопическую картину «мира без труда» или «посттрудового мира» [Срничек, 2019].
Возможен — по крайней мере, теоретически — левый утопизм при отказе от прометеанизма. Подобный путь предлагается анархо-примитивистами. Однако сама левая идея при полном отказе от технологического прогресса начинает выглядеть куцей и ущербной. А возможен ли синтез левого утопизма, антипрометеанизма и технологического прогресса? Утопия И.А. Ефремова предполагает положительный ответ. Но выработка этого ответа не была ни одномоментной, ни быстрой.
Герои «Туманности Андромеды» зажигают над Землей искусственные солнца, чтобы изменить климат и уменьшить «ледяные шапки», существующие на Северном и Южном полюсах, прорывают каналы и прорезают горные хребты «для уравновешивания циркуляции водных и воздушных масс» [Ефремов, 1959: 53]. Выпускные экзамены в школе заменены «подвигами Геркулеса» — практическими «трудными делами» (сегодня их назвали бы проектами), требующими напряжения физических и интеллектуальных сил и выполнявшимися под руководством наставников. Один из персонажей ефремовской утопии устроил водоснабжение рудника в Тибете, восстановил араукариевый лес в Южной Америке и уничтожал акул у берегов Австралии [там же: 68], другой должен был «расчистить и сделать удобным для посещения нижний ярус пещеры Кон-и-Гут», реконструировать древние танцы острова Бали, выяснить причины появления больших осьминогов у острова Тринидад и уничтожить их [там же: 193–194]. Также в «Туманности Андромеды» Ефремов делит живых существ на «полезных» и «вредных» — и уничтожение последних его не смущает (впрочем, тигров на Шри-Ланке — острове Забвения — предполагается уничтожить лишь в том случае, если они людоеды [там же: 276]). Титанической энергией и силой наделены главные герои романа: Эрг Ноор усилием воли пробуждается от анабиоза [там же: 34], а Дар Ветер, поборов депрессию, руководит сборкой спутника (как сегодня сказали бы, космической станции) «на высоте пятидесяти семи тысяч километров» над Землей [там же: 323]. И хотя слова «титан» или «Прометей» не произнесены, герои «Туманности Андромеды», цитируя «Аннабель Ли» Эдгара По, называют друг друга в шутку «ангелами неба» и «духами пучин» [там же: 317–318]. Впрочем, Веда Конг называет Дар Ветра богом, но это может быть естественным для влюбленной женщины восторженным эпитетом [там же: 128]. Светомузыкальная «космическая симфония» Зига Зора, которую слушает и смотрит Дар Ветер [там же: 200–202], явно напоминает «Поэму огня» («Прометей») А. Скрябина — такое «сближение» представляется вполне допустимым, учитывая влияние мистических и теософских идей как на Скрябина, так и на Ефремова [Лобанова, 2012: 20–27; Переписка, 2016: 699; Сергеев, 2020: 185–190].
Описываемое И.А. Ефремовым утопическое общество, где покорение природы (и космоса) заменило войну, антиавторитарно и эгалитарно. Показывая его социальную организацию, писатель использовал нейрофизиологическую аналогию, уподобив основные управляющие структуры (Советы и Академии) центрам торможения и возбуждения (сдержки и противовесы, как принято говорить применительно к демократическому государственному устройству). При этом оказывается, что «главенства нет»: в ответ на вопросы молодого человека, который «везде ищет главенство», историк Веда Конг с улыбкой замечает, что это «опасный путь» и «великие начальники» прошлого «были самыми связанными и зависимыми людьми» [Ефремов, 1959: 230–231]. Данное общество широко практикует делиберативные механизмы выработки решений: еще не успев войти в Солнечную систему, экипаж звездолета «Тантра» слышит обращенное ко всем землянам приглашение к очередной дискуссии: «Все, кто думал и работал в этом направлении, все, обладающие сходными мыслями или отрицательными заключениями, — высказывайтесь!» [там же: 168].
Однако в «прометеанскую» симфонию «Туманности Андромеды» вплетаются совсем иные нотки. Уже в первой главе И.А. Ефремов показывает трагедию Зирды — планеты, население которой погибло вследствие радиоактивного загрязнения окружающей среды: «Столетия общее количество излучения могло увеличиваться кор за кором, как мы называем биодозы облучения, а потом сразу качественный скачок! Разваливающаяся наследственность, прекращение воспроизведения потомства, лучевые эпидемии…» [там же: 15]. Подобная «прометеанская» самоуверенность погубила не одну планету — писатель мельком упоминает катастрофу, постигшую «планету лилового солнца» в системе Дельты Ворона [там же].
Стиль и методы хозяйствования, характерные для индустриальной эпохи и исходящие из прометеанистского представления о том, что природа — неисчерпаемый источник ресурсов для человека, в «Туманности Андромеды» резко осуждаются: «Тогда вырубили леса, сожгли накапливавшиеся сотнями миллионов лет запасы угля и нефти, загрязнили воздух углекислотой и смрадной гарью заводов, перебили красивых и безвредных зверей — жирафов, зебр, слонов… Земля была засорена, реки и берега морей загрязнены стоками нефти и химических отбросов» [там же: 261].
А ставший кульминацией романа «тибетский опыт» Мвена Маса и Рена Боза? Попытаться одним дерзким усилием преодолеть сотни световых лет, устроить масштабную катастрофу, уничтожить спутник и едва не погибнуть самим — что это, как не срыв и крах прометеанизма? У И.А. Ефремова читаем: «Металл конструкций опытной установки был размазан по борозде тонким слоем, отчего она сверкала, будто хромированная. В отвесный обрыв отрезанного, точно ножом, склона горы вдавился кусок бронзовой спирали. Камень расплылся стекловатым слоем, как сургуч под горячей печатью. Погруженные в него витки красноватого металла с белыми зубцами рениевых контактов сверкали в электрическом свете вделанным в эмаль цветком. От взгляда на это ювелирное изделие двухсот метров в диаметре ощущался страх перед неведомой, действовавшей здесь силой» [там же: 243].
Учитывая изложенное, говорить о прометеанистских интенциях «Туманности Андромеды» в целом, как представляется, было бы неверно. В романе есть исключительно прометеанистские утверждения, есть и утверждения противоположного, экологического характера. Эта утопия, таким образом, имеет «переходный» и противоречивый характер. Как ученый-естественник И.А. Ефремов видел риски и опасности безудержной технологической экспансии, но отбросить сразу навязчивые строки, твердившие о покорении пространства и времени «молодыми хозяевами земли»2, он, по-видимому, не мог, тем более что времена первой «оттепели» не могли не напоминать ему время его молодости — 1920-е годы с присущей им экзальтацией [см.: Батыгин, 2005: 81].
Выбор в пользу экологизма был сделан И.А. Ефремовым несколько позже, в следующем десятилетии. В «Часе Быка» писатель изобразил демографическую и экологическую катастрофу, постигшую населенную выходцами с Земли планету Торманс. Написание романа заняло у Ефремова семь лет (1961–1968), вместивших первые полеты человека в космос, расстрел в Новочеркасске, Карибский кризис, уход Н.С. Хрущева, «культурную революцию» в КНР, возникновение диссидентского движения и растущее разочарование советского общества в социализме. Почти одновременно с публикацией романа «Час Быка», в 1970 году, Дж. Форрестер по заказу Римского клуба разработал математическую модель развития человечества «World 1», результатом работы которой стал прогноз глобального коллапса в середине XXI века: рост численности населения Земли до 10–12 млрд человек и последующий катастрофический обвал до 1–3 млрд при резком снижении уровня жизни [Форрестер, 2003: 159–192]. Поскольку данный прогноз под названием «Пределы роста» был опубликован в 1972 году [см.: Meadows, 1972], он не мог повлиять на замысел «Часа Быка», но описание Ефремовым катастрофы на Тормансе совпадает с основными тенденциями прогноза, сделанного Форрестером и его командой. На замысел «Часа Быка» могла повлиять работа О. Хаксли «Возвращение в дивный новый мир» (1958), однако И.А. Ефремов, скорее всего, познакомился с ней уже после того, как у него сформировались концепция и сюжет романа [Переписка, 2016: 872].
Тема катастрофы вводится И.А. Ефремовым в роман постепенно: еще не высадившись на планете, земляне обнаруживают, что ее население уменьшилось на порядок по сравнению с оценками предыдущей экспедиции [Ефремов, 1970: 64]. Путешествуя по Тормансу, экипаж земного звездолета ретроспективно понимает масштабы катастрофы: «перебиты все звери, крупные птицы, выловлена рыба, съедобные моллюски и водоросли. Все это пошло в пищу во время катастрофического Века Голода. Погоня за количеством, за дешевизной и массовостью продуктов, без дальновидности, отравила реки, озера и моря. Реки высохли после истребления лесов и сильного испарения водохранилищ электростанций, за ними последовало обмеление и засоление озер» [там же: 209]. Рассказывая о прошлом, диктатор Торманса Чойо Чагас пафосно восклицает: «Восемьдесят лет Голода и Убийств!» — и обрушивается с обвинениями на ученых прошлого: «Они обещали, что планета может прокормить неограниченное количество людей, и совершенно не учли, что земля истощится задолго до назначенной ими предельной цифры. Не учли вреда химических удобрений, отравивших растения и почвы, не учли необходимости определенного жизненного пространства для каждого человека. Не понимая всего этого, они не постеснялись выступить с категорическими заключениями. И в результате вызвали страшную катастрофу» [там же: 281].
Но сквозь контуры мрачного глобального прогноза проступает иная катастрофа, свидетелем которой И.А. Ефремов был в детстве и отрочестве, — революция, гражданская война, голод и болезни. Текст романа «Час Быка» содержит множество намеков на российскую историю и современность — как тщательно зашифрованных, так и почти явных [там же: 174–175, 290–291]. Таким образом, Ефремов использует своего рода «двойную оптику»: оценивая вполне серьезно угрозу грядущей демографической и экологической катастрофы, он в то же время вводит в текст романа аллюзии на историю России и советскую действительность.
Тормансианская антиутопия, занимающая в романе «Час Быка» центральное место, отодвинула земную утопию на второй план. Но и тут И.А. Ефремов эпизодически показывает утопическую Землю будущего. Она изменилась, точнее, отдельные ее черты скорректированы. Это по-прежнему антиавторитарное и эгалитарное общество. Настолько антиавторитарное, что диктатор Торманса Чойо Чагас называет социальное устройство Земли «анархией» [там же: 86], а землян — «анархистами» [там же: 262].
Земляне в эпоху, описываемую в «Часе Быка», стали выглядеть еще совершеннее, а «чистота облика стала лучше выражена», чем в эпоху, что представлена в «Туманности Андромеды» [там же: 173]. «Вначале все пришельцы далекого мира казались тормансианам очень красивыми, но одинаковыми. Мужчины — высокие, с решительными крупными лицами, серьезные до суровости. Женщины — все с чеканно правильными мелкими чертами, идеально прямыми носами, твердыми подбородками, густоволосые и крепкие» [там же: 194]. Но если многие герои «Туманности Андромеды» еще помнят о своих этнических корнях (предки Дар Ветра были русскими, а Миико Эйгоро — японцами), то в «Часе Быка» члены экипажа «Темного пламени» уже не вспоминают, кто был среди их предков, — все перемешались.
В рацион астролетчиков «Туманности Андромеды» как «исключительное лакомство» входит консервированное «свежее мясо» [Ефремов, 1959: 100]3; земляне также едят мясо раптов — «птиц, заменивших домашних кур и дичь» [там же: 306]. В «Часе Быка» же подчеркивается, что на Земле «мало молочного скота… и совсем нет убойного, нет птицеферм и рыбных заводов», поскольку «нельзя достичь истинной высоты культуры», убивая животных для еды или научных экспериментов [Ефремов, 1970: 195].
К концу 1960-х годов И.А. Ефремов также пересмотрел прежние взгляды на допустимость истребления живых существ, считающихся вредными, поскольку исчезновение любого вида ведет к нарушению экологического равновесия [там же: 208].
Земляне в «Часе Быка» строго придерживаются этики ненасилия, даже если речь идет о собственных жизнях. Интерпретируя эпизод в Кин-Нан-Тэ, когда трое астролетчиков гибнут, отказывшись применить летальное оружие против банды так называемых «оскорбителей», С. Французов предполагает, что этика, которой они руководствовались, восходит к классическому буддизму [Французов, 2012: 37–38].
Мир «Туманности Андромеды» аскетичен, пожалуй, даже чересчур: все имущество Дар Ветра помещается в «алюминиевый ящик с кругами выпуклых цифр и линейных знаков на крышке» [Ефремов, 1959: 188]. Это была сознательная позиция И.А. Ефремова, подчеркивавшего «необходимость существенно упростить обиход человека» [там же: 50]. Предложение Дар Ветра временно сократить потребности ради подготовки внеочередной звездной экспедиции также вполне укладывается в эту этику самоограничения [там же: 303]. В то же время такой аскетизм оттеняется в романе описанием типичных для утопий городов с «хрустальными перекрытиями» изгибающихся улиц, «опалесцирующими стенами» и широкими лестницами «между тысячами аркад» [там же: 182], а также того, как с других планет жителям этих городов доставляются «драгоценные камни и редкие растения» [там же: 303].
В «Часе Быка» земное общество гораздо богаче — по крайней мере, такое впечатление производят на тормансиан стереофильмы о жизни Земли. «Гриф Рифт [командир звездолета] решил больше не показывать щедрости родной планеты, чтобы не ранить гостей» [Ефремов, 1970: 194]. Аскетизм в обстановке личных помещений сочетается у жителей утопии LII века со свободой пользования информацией, разграничением мест для праздников и для уединения, возможностью строить любые жилища по собственному выбору [там же: 196–197]. Впрочем, квартиры рядовых тормансиан также выглядят весьма скромно (два-три цветка в вазе, дешевая статуэтка или чашка и «видеоприбор с мощным звукопередатчиком»), напоминая обстановку квартир обычных советских граждан 1960-х годов [там же: 289–290].
Утопия в «Часе Быка» осталась все той же, что и в «Туманности Андромеды», но сместились акценты. «Туманность Андромеды» была написана в тот момент, когда сталинизм (или, как писал сам И.А. Ефремов, «сталинщина» [Ефремов, 2022: 31]), казалось бы, остался в прошлом и можно было устремиться вперед, к обществу изобилия без классовых различий в надежде, что поток прогрессивных перемен увлечет за собой всех без исключения и изменит в лучшую сторону если не нынешнее поколение, то последующие. И хотя стилистика «Туманности Андромеды» порой сближается со «сталинистской эстетикой социалистического реализма» [Jameson, 2005: 189], сталинистские практики в романе решительно отвергаются. Это проявляется и в осуждении публичных наветов (Пур Хисс), оправдании опрометчивых поступков, совершенных с благой целью (тибетский опыт Мвена Маса), отрицании централизма как принципа управления, да и в самом обращении к утопической проблематике, отодвинутой с начала 1930-х годов фантастикой «ближнего прицела».
Вместе с тем И.А. Ефремов был сначала весьма осторожен в прогнозах, полагая, что на преобразование планеты и людей потребуется около трех тысяч лет, но в ходе написания романа сократил этот срок [Ефремов, 1959: 3]. При этом на описание быта героев ефремовской утопии не могла не повлиять, пусть косвенно, бедность советского общества 1950-х годов. «Час Быка» был начат в 1961 году, а писался в основном во второй половине 1960-х годов, в ситуации разочарования в «оттепели» и начавшегося разочарования в советском социализме — отсюда и большая социальная критичность этого романа, в котором утопический образ Земли отходит на второй план, хотя по-прежнему важен.
Как отмечалось выше, главный предмет спора между прометеанистами и их оппонентами — может ли человек или человечество творить мир по собственному разумению, перешагивая границы того, что считается трансцендентно предписанным или божественно предопределенным, или какие-то ограничения все-таки существуют?
Резкие выпады И.А. Ефремова против христианской и иудейской религий в «Лезвии бритвы», казалось бы, дают основание идентифицировать его как атеиста [Ефремов, 1965: 139]. Более того, и в «Часе Быка» писатель замечает, что в Средние века христианская церковь фактически выполняла роль сатаны (организовала «охоту на ведьм») [Ефремов, 1970: 128], назвав карающего бога худшим изобретением человека [там же: 434–435]. Человек верующий, надеющийся лишь на бога, противопоставляется Ефремовым человеку с крепкой, бесстрашной психикой, служащей внутренним стержнем [там же: 75], а сама вера в бога, верховное существо, следящее за судьбами людей, характеризуется им в лучшем случае как «наивный пережиток пещерного представления о мире», а в худшем — как «пережиток религиозного изуверства» [там же: 368].
Однако понимание религии, которое предлагает И.А. Ефремов в переписке, предполагает не веру в сверхъестественное, а убежденность в существовании причинно-следственных связей в мире: «Если же признавать некую причинную связь, назовите ее кармой, мировой механикой, эволюцией, развитием процесса, с определенными законами и порядками, то такой атеизм меня устраивает, но ведь это иначе называется теизмом такими людьми, как Рерихи» [Переписка, 2016: 1136]. Соответственно резкие антирелигиозные инвективы Ефремова оказываются отрицанием представления об антропоморфных и карающих богах. Отрицая антропоморфного бога, писатель полагает, что человеческие души подобны отдельным каплям, отделившимся от океана мировой души (Атман). «Падая обратно в океан, они неминуемо сливаются с океаном Атмана и не существуют как отдельные капли» [там же: 635]. Представления же Ефремова о трансцендентном близки представлениям индуизма, хотя и не тождественны им (тем более что проблематично говорить об индуизме как о единой религии).
Длительный, устойчивый интерес И.А. Ефремова к теософским учениям, идеям Е.П. Блаватской, Г.И. Гурджиева, Р. Штейнера, А. Безант (при всем критическом отношении к ним) и особенно высоко ценимых им Е.И. и Н.К. Рерихов, личные контакты с Ю.К. Рерихом [там же: 345], другими эзотериками [там же: 701, 1407], а также участие в распространении эзотерического самиздата [там же: 1256, 1274] позволяют говорить о нем не только как о писателе и ученом, но и как о человеке, сыгравшем значительную роль в становлении и развитии оккультного движения в СССР 1960–1970-х годов (подобного движению «Нью-эйдж» в Западной Европе и США того же времени) [Menzel, 2012: 152–153; Сергеев, 2020: 189–190].
Вышеозначенное объясняет, почему звездолет в «Туманности Андромеды» назван «Тантра» (а не «Весна» и не «Юность»), отчего Вир Норин, один из героев «Часа Быка» (являющийся alter ego автора), вспоминает о святых для любого землянина храмах Эллады, Индии и Руси [Ефремов, 1970: 410], а главе экспедиции землян Фай Родис снится одна из гималайских вершин с буддийским храмом перед ней и слышится звон титановых колоколов восстановленных «древних русских храмов» [там же: 248]. О том, какие формы примет религия у землян через три тысячи лет, будут ли у нее некие ритуалы и можно ли будет применить к ней понятие «культ», И.А. Ефремов умалчивает — вероятно, не только по цензурным соображениям. Но можно без сомнений говорить о том, что взятые из восточных религий определенные виды психофизиологических тренировок, гипноз, аутотренинг героями Ефремова не просто используются, а являются неотъемлемой частью их жизни. По мысли писателя, глубоко этична и пронизана благоговением перед жизнью земная наука. «Когда мы поймем, что васильки и пшеница составляют единство, — утверждает Ефремов, — тогда мы возьмем наследие природы в добрые, понимающие ладони» [там же: 394]. Вероятно, именно этика, слитая с наукой в неразрывное целое, представлялась ему ограничением для экспансии прометеанизма.
В своих романах И.А. Ефремов затрагивает и проблему переделки человеческой сущности, создания киборгов или, как сказали бы сегодня, постлюдей. Конечно, в определенном смысле ефремовские герои, жители утопической земли, по своим физическим и интеллектуальным качествам являются по сравнению с нами постлюдьми: быстрее двигаются, быстрее думают, более уравновешены [там же: 136]. Но это результат воспитания и тренировок, а не искусственных усовершенствований. Ефремов был решительно против «соединения человека с машинами» или сохранения мозга отдельно от тела, так как считал, что это чревато дегуманизацией личности [там же: 395].
Как видим, «Туманность Андромеды» и «Час Быка» демонстрируют нам утопию в развитии, что обусловлено и изменением социально-политического контекста, и движением авторской мысли от прометеанизма к экологизму. В «Туманности Андромеды» И.А. Ефремов стремится выразить острую потребность общества в расширении границ человеческих возможностей, неизбежно возникшую после ограничений и запретов 1930–1940-х годов, и в то же время поддается господствующему тогда императиву «покорения пространства и времени». При этом он понимает, что человеческой экспансии, нередко ведомой эгоизмом, необходимо ставить пределы. В «Часе Быка» подобной двойственности уже нет. Теперь писатель стремится показать, как ничем не ограниченная человеческая экспансия оборачивается диктатурой. Человек же действительно свободный должен быть в то же время и человеком воспитанным, соизмеряющим свои желания с окружающим миром и добровольно ограничивающим их. Такой образ человека будущего дает основания утверждать, что И.А. Ефремов был мыслителем, шедшим вровень с зарубежными энвайронменталистами и даже в чем-то опережавшим их, и позволяет рассматривать утопические романы писателя как источник новых идей в дискуссиях о прометеанизме и экофилософии.
1 В англоязычной литературе имеют место два термина — Prometheism и Prometheanism. Переводить первый из них как «прометеизм» представляется не вполне корректным, поскольку «прометеизм» обозначает идеологию и основанный на ней политический проект, реализованный в межвоенные годы (1918–1939) во Второй Польской Республике и не имеющий отношение к рассматриваемой теме. В силу этого в данной статье используются термины «прометеанизм» и «прометеанство».
2 «Марш веселых ребят» А. Лебедева-Кумача.
3 «Свежее мясо» упоминается лишь в первом книжном издании «Туманности Андромеды» (1959). В более поздних изданиях «свежее мясо» было заменено «свежей кровью».
Об авторах
Сергей Алексеевич Сергеев
Казанский федеральный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: SASergeev@kpfu.ru
ORCID iD: 0000-0002-3654-8153
доктор политических наук, профессор кафедры политологии института социально-философских наук и массовых коммуникаций
Россия, КазаньЗульфия Харисовна Сергеева
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Email: zhsergeeva@rambler.ru
ORCID iD: 0000-0003-4820-5737
кандидат социологических наук, доцент кафедры государственного, муниципального управления и социологии института управления инновациями
Россия, КазаньСписок литературы
- Батыгин Г.С. «Социальные ученые» в условиях кризиса: структурные изменения в дисциплинарной организации и тематическом репертуаре социальных наук // Социальные науки в постсоветской России / под ред. Г.С. Батыгина, Л.А. Козловой, Э.М. Свидерски. М.: Академический проект, 2005. С. 52–89.
- Брайдотти Р. Постчеловек / пер. с англ. Д. Хамис; под ред. В. Данилова. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2021.
- Гачева А.И. От творчества культуры к творчеству жизни (к истории эстетических исканий в Советской России конца 1910 – начала 1920-х годов) // Вестн. Лит. ин-та им. А.М. Горького. 2012. № 2. С. 31–47.
- Ефремов И.А. Лезвие бритвы. М.: Молодая гвардия, 1965.
- Ефремов И.А. Мои женщины: Рассказы; Письма. М.: Издатель Юхневская С.А., 2022.
- Ефремов И.А. Туманность Андромеды. М.: Молодая гвардия, 1959.
- Ефремов И.А. Час Быка. М.: Молодая гвардия, 1970.
- Лобанова М.Н. Философ. Теург. Мистик. Маг: Александр Скрябин и его время. СПб.: Петроглиф, 2012.
- Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. 2-е изд. М.: Искусство, 1995.
- Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М.: Академический проект; Культура, 2017.
- Кондрашов П.Н. Миф о прометеанстве Карла Маркса: анализ и критика // Антиномии. 2022. Т. 22, вып. 1. С. 7–43. doi: 10.17506/26867206_2022_22_1_7
- Маркузе Г. Эрос и цивилизация: Философское исследование учения Фрейда / пер. с англ. А.А. Юдина; общ. ред. А.А. Жаровского. Киев: Port-Royal, 1995.
- Мацейна А. Падение буржуазии / пер. с литов. М.В. Медоварова; под ред. Т.Л. Ломакиной. СПб.: Владимир Даль, 2019.
- Переписка Ивана Антоновича Ефремова / авт.-сост. О. Еремина. М.: Вече, 2016.
- Саймиддинов А.К. Прометеанизм и философия Александра Богданова // Манускрипт. 2019. Т. 12, вып. 9. C. 85–89. doi: 10.30853/manuscript.2019.9.17
- Семенова С.Г. Созидание будущего: Философия русского космизма. М.: Ноократия, 2020.
- Сергеев С.А., Кузьмина С.В. «Мы — земля»: проект тотальной конвергенции человечества и «настоящая наука» Ивана Ефремова // Ab Imperio. 2020. № 2. С. 171–202. doi: 10.1353/imp.2020.0036
- Срничек Н., Уильямс А. Изобретая будущее: Посткапитализм и мир без труда / пер. с англ. Н. Охотина. М.: Strelka Press, 2019.
- Форрестер Дж. Мировая динамика / пер. с англ. А. Ворощука, С. Пегова; под ред. Д. Гвишиани, H. Моисеева. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2003.
- Французов С.А. О цивилизационной основе общества будущего, задуманного Иваном Ефремовым // Пятнадцатые Ефремовские чтения: Сб. материалов межрегион. науч. исслед. конф. (21.04.2012; пос. Вырица, Ленинградская обл.) / сост. Н.П. Давыдова. СПб.: Лема, 2012. С. 34–39.
- Brassier R. Prometheanism and Its Critics. Accelerate: The Accelerationist Reader, R. Mackay, A. Avanessian (eds). Padstow: Urbanomic, 2014. P. 467–487.
- Burkett P. Was Marx a Promethean? Nature, Society, and Thought. 1999. Vol.12, Iss 1. P. 7–42.
- Dryzek J.S. The Politics of the Earth: Environmental Discourses. 3rd ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 2013.
- Jameson F. Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. New York; London: Verso, 2005.
- Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.H. III. The Limits to Growth: A Report to The Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind. New York: Universe Books, 1972.
- Menzel B. Occult and Esoteric Movements in Russia from the 1960s to the 1980s. The New Age of Russia: Occult and Esoteric Dimensions, ed. by B. Menzel, M. Hagemeister, B.G. Rosenthal. Berlin: Verlag Otto Sagner, 2012. Р. 151–185.
- Newman W.R. Promethean Ambitions: Alchemy and the Quest to Perfect Nature. Chicago: Univ. of Chicago Press, 2004.
- Simon J. The Ultimate Resource. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1981.
- The Resourceful Earth: A Response to Global 2000, ed. by J. Simon, H. Kahn. New York: Basil Blackwell, 1984.