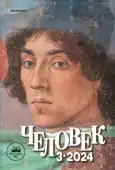Эволюция, смерть, человек
- Авторы: Рыбин В.А.
- Выпуск: Том 35, № 3 (2024)
- Страницы: 7-23
- Раздел: Философия человека
- URL: https://bakhtiniada.ru/0236-2007/article/view/259584
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0236200724030011
- ID: 259584
Полный текст
Аннотация
Неизбежность перехода человечества в новое качественное состояние становится в наши дни доминантой общественного сознания. Кризисные опасения в немалой степени подогреваются искусственно, однако для них есть весомые основания. Одно из них — снижение биологической устойчивости нынешнего человеческого вида, в частности депопуляция населения наиболее развитых регионов современного глобализированного мира. Аналогичные явления в эволюции живой природы всегда указывали, с одной стороны, на отставание вымирающих видов от темпов изменений окружающей среды, с другой — на формирование новых видов, более приспособленных к этим изменениям. В современной культуре некоторые предпосылки подобных сдвигов уже сложились. Прогресс информационно-цифровых технологий на рубеже XX–XXI веков чрезвычайно ускорил обновление искусственной среды человеческого существования, вследствие чего по темпам своих изменений она превзошла такие базисные биологические параметры жизни людей, как срок жизни индивида и период обновления поколений. Тем самым человечество вышло на «точку биологической сингулярности». Объективно создается ситуация видообразования, то есть перспектива биологической трансформации человеческого вида. Сторонники трансгуманизма предлагают ускорить этот процесс с использованием достижений науки. Альтернативный вариант исходит из понимания феномена жизни как эволюционно прогрессирующего сочетания созидательных и деструктивных изменений, где смерть выступает условием оптимизации некоторых этапов жизненного процесса. На этапе биологической эволюции смерть остается спонтанно действующим и фатально неуправляемым фактором, но на этапе эволюции культуры открывается возможность конвертировать ее деструктивный потенциал в средство регулируемого воздействия на обменные процессы в человеческом организме с целью беспредельного расширения темпоральных границ существования индивида и всего человеческого рода.
Ключевые слова
Полный текст
В 2022 году на русском языке вышла переведенная с английского книга с характерным названием «Земля после нас: Что расскажут камни о наследии человека?». Автор книги Ян Заласевич — известный палеонтолог, специалист по геологической эволюции — избрал для своего сочинения оригинальную фабулу: в будущем, через 100 миллионов лет, на нашу планету высадятся представители некоей разумной космической цивилизации, и что они увидят, каковы будут их суждения о человечестве? Выводы неутешительные: пришельцы найдут на Земле лишь следы некогда существовавшей, но погубившей себя разумной — разумной ли? — жизни. Для опасений этого рода есть серьезные основания, ибо «мы не вполне понимаем, как наше рукотворное окружение и наша деятельность взаимодействует с окружающей средой, и не знаем, каковы будут долгосрочные последствия» [Заласевич, 2022: 138–139]. Свои тревожные прогнозы автор выстраивает, используя в основном данные геологии, но ситуация требует философского осмысления с привлечением более обширного эволюционного материала, особенно биологического и медицинского.
К вопросу об эволюции: истоки проблемы
В современном теоретическом познании эволюция понимается как процесс последовательного усложнения, обусловленный сочетанием прогрессивных и регрессивных изменений в живой и неживой природе, в культуре, а также в ходе их взаимодействия [БЭС, 1995: 726; НФЭ, 2001: 408; Философский словарь, 2001: 127–128]. Сегодня это взаимодействие сосредоточилось на человеке и обрело особенно противоречивый характер: экологический кризис, экзистенциальный вакуум, «болезни цивилизации», демографические проблемы, поначалу обозначившиеся в странах «третьего мира» в виде «демографического взрыва», но затем, в форме депопуляции затронувшие передовые регионы современного глобализирующегося человечества.
Сегодня антропологическая проблематика все больше обретает медицинский характер. Бодрийяр одним из первых указал на «патологию третьего типа», связанную с «возникновением таинственных, аномальных вирусных болезней» [Бодрийяр, 2000: 91]. Увеличение их доли в структуре смертности населения подтверждается объективными медико-статистическими данными [Цинзерлинг, Цинзерлинг, 2002: 26]. Специалисты в сфере физиологии человека утверждают, что сегодня формируется «в сущности, модель полной депопуляции» [Казначеев, 1997: 154]. Человечество становится все более нездоровым, причем в ускоренном темпе [Рыбин, 2023]. Этот «медицинский факт» подтвердился в ходе пандемии COVID-19, вне зависимости от того, насколько адекватными были меры по борьбе с ней.
Само сочетание этих деструктивных тенденций с массовым исчезновением животных видов в глобальных масштабах [Вулф, 2013: 136] — это не только основание для констатации совершающегося ныне общепланетарного «шестого вымирания» [Колберт, 2019] в ряду прежних вымираний, которыми в истории биосферы принято обозначать смену геохронологических эр, это признак еще более радикального эволюционного перелома. Ибо одно дело — вымирание видов в условиях видового многообразия биосферы, и совсем другое — когда оно затрагивает единственный доминирующий в ней вид и начинается фактически сразу после того, как, согласно известному выражению Вернадского, этот вид стал «новой геологической силой».
Вымирание в природе и в культуре: методология сопоставления
В природной эволюции вымирание — обычное явление: из числа видов, живших когда-либо на Земле, вымерло 95 % [Риклефс, 1979: 316]. Вымирание — условие видообразования, необходимое звено эволюционного процесса [Валентайн, 1981: 171; Грант, 1991: 398]. По поводу его глубинных механизмов в научном мире нет единых взглядов (конкуренция, подрыв пищевой базы, изменение условий отбора и пр.), но в одном отношении согласие существует: это «изменение, а точнее его скорость. Когда мир меняется быстрее, чем биологические виды могут к нему адаптироваться, многие из них гибнут» [Колберт, 2019: 12]. Выражаясь строго, вымирание вызывается отставанием темпа эволюции конкретной таксономической группы от темпа изменений окружающей среды [Ивантер, 2019: 136, 148]. В этом отношении у человека как будто не должно быть проблем: используя искусственные орудия труда, он ускоряет протекание природных процессов, выходит из межвидовой конкуренции, обретает морфологическую неизменность в видовом отношении [Алексеев, 2007: 251; Красилов, 1986: 96; Рогинский, 1977: 193] и, казалось бы, полностью защищает себя от вымирания.
И все же здесь все не так просто. Когда указывают, что создаваемая людьми «рукотворная среда развивается со скоростью, значительно превышающей обычную скорость биологических организмов или их сообществ» [Залавевич, 2022: 21], или что с некоторого момента «человеческая история стала двигаться быстрее истории окружающей природной среды» [Поршнев, 2007: 30], из виду упускают чрезвычайно важное обстоятельство.
Верно, что с самого начала человеческой истории совершенствование орудий труда совершалось несравненно быстрее природных трансформаций, но до самого последнего времени этот процесс протекал чрезвычайно медленно по сравнению с краткостью как жизни отдельного человека (в среднем не более 40–70 лет), так и срока обновления поколений в составе человеческой популяции (20–25 лет). С учетом этих показателей совокупная среда существования человечества на протяжении почти всей его истории оставалась предельно статичной. Однако по мере совершенствования орудийно-технической сферы эта диспропорция неуклонно сокращалась, сначала медленно, затем, с возникновением науки, все более стремительно, пока на переломе XX–XXI веков скорость преобразования почти всех сфер жизни людей не возросла настолько [Капица, 2010: 23; Кузнецов, 2010: 56], что темпы обновления техносферы превысили не только темпы изменений во внешней (биосферной) среде существования человека (это стало очевидно уже с началом экологического кризиса), но и время обновления его внутренней (биологической) субстанции (что ныне легко подтверждается таким тривиальным фактом, как частота обновления гаджетов). Сейчас мы переживаем эпохальный сдвиг, когда «медленный и практически вневременный фон человеческой деятельности начинает меняться с такой скоростью, что может обещать людям лишь одно — катастрофу» [Чакрабарти, 2019: 25].
По аналогии с понятием «точка технологической сингулярности» [Бескаравайный, 2018: 138] данный исторический момент следует обозначить термином точка биологической сингулярности, которая, указывая на определившиеся в контексте технологического прогресса серьезные биологические проблемы современного человеческого вида (по крайней мере, его европейской популяции), одновременно объясняет как танатологические мотивы в гуманитарном познании последних десятилетий XX века (Ф. Арьес, Ж. Бодрийяр, С. Гроф, Э. Левинас, М. Фуко и др.), так и стремительное распространение идей трансгуманизма в первые десятилетия XXI века (Н. Бострем, К. Шваб, М. Эпштейн и др.). Но более важен эволюционный смысл совершающегося сдвига, ибо он способен сказать что-то о будущем.
Вымирание vs видообразование: эволюционный контекст
Согласно положениям эволюционного учения вымирание — результат естественного отбора в ходе межвидовой конкуренции [Риклефс, 1979: 253]. Синтетическая теория эволюции утверждает, что вид вымирает из-за генетической нехватки «достаточного запаса изменчивости, позволяющего данному виду изменяться с такой же скоростью, с какой изменяется среда» [Левонтин, 1981: 246]. Однако более конкретно связь между наследственностью и морфологией, то есть генотипом и фенотипом «пока не удается однозначно установить. Слишком сложная задача и слишком много исходных данных» [Тарантул, 2003: 268]. В итоге неоспоримыми остаются лишь очевидные результаты вымирания: с какого-то момента доля умирающих особей или «большого количества уродливых форм» [Красилов, 1986: 60] в составе вида возрастает до такой степени, что снижение численности и способности к воспроизводству делают неизбежным его исчезновение в более или менее отдаленном периоде.
В этом смысле видообразование, то есть формирование новых, морфологически измененных подвидов на биологическом материале человеческой популяции еще не началось, но некоторые его предпосылки — в виде вымирания — уже сложились. Что касается перспектив, то в обозначенных координатах «свет в конце туннеля» определенно не просматривается.
И все же есть основания не принимать эту картину как абсолютно достоверную, поскольку в ней не учтены некоторые важные аспекты, для познания которых «нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна заменить сила абстракции» [Маркс, 1960: 6]. Сегодня для познания жизни «нужно искать какой-то иной подход <…>, искать не с чашкой Петри и микробиологической петлей в руках, а с карандашом и бумагой, потому что сейчас задача состоит в том, чтобы синтезировать уже имеющиеся сведения и объединить частные закономерности» [Заварзин, 2006: 11].
Жизнь в контексте эволюции: новые аспекты
Переход биологии от начального натурфилософского этапа к полноценному научному статусу был обусловлен сочетанием двух факторов — установкой на исследование субстратного состава живых организмов (начиная с открытия клетки) и созданием учения об историческом развитии живой природы (эволюционная теория Дарвина). Последующий ее прогресс отмечен выдающимися открытиями, однако в ответах на вопросы «что такое жизнь?» и «что такое эволюция?» все еще нет необходимой ясности.
Точкой отсчета для ответа на первый вопрос до сих пор остается описательное различение живого и неживого, как это было характерно для ранних, виталистических представлений о жизни [БМЭ, Т. 8, 1978: 236], с той лишь разницей, что искомое ее начало соотносится не с «энтелехией» или «жизненной силой», а с такими атрибутами, как «информация» [Корогодин, Корогодина, 2002: 209], «обмен веществ и воспроизведение» [Бернал, 1969: 25], «энергия» [Зотин, Зотина, 1999: 186] и т.д., вплоть до «отрицательной энтропии» [Шредингер, 2023: 108], хотя, как указывают новейшие исследователи, это понятие граничит с витализмом [Нерс, 2021: 77]. От эволюционной теории требуется ответ на вопрос, что надо делать, «чтобы развитие человечества вообще продолжалось. Сегодня такой теории нет, а все существующие охватывают лишь отдельные аспекты эволюционного процесса, отражая субъективные взгляды и подходы авторов» [Козлова, 2018: 105].
Наиболее емкий образ живой природы в науке — экологическая пирамида [Риклефс, 1979: 128], каждому из этажей которой соответствует определенный, достоверно установленный уровень обменных процессов. И все же, этот образ остается неполным уже потому, что акцент здесь делается исключительно на созидательных, восходящих процессах, идет ли речь о «биогеохимической функции живого с присущим ему ярко выраженным давлением на окружающую среду» [Вернадский, 2001: 278], экспансии жизни [Шварц, 1980: 253], устойчивом неравновесии [Бауэр, 2002: 159–160], активности [Бернштейн, 1990: 421], интенсификации метаболизмов [Хайтун, 2010: 13] и т.д. Деструктивные, нисходящие процессы, отнюдь не в меньшей степени присущие живому, исключаются из рассмотрения. Если же необходимой стороной жизни все-таки признается не только синтез, но и распад (что невозможно отрицать, учитывая ее обменный характер), то соответствующие деструктивные эффекты выглядят как нечто постороннее для нее, связанное лишь «с разрушением живых организмов после их умирания, <…> с химическим превращением живого вещества после его умирания (курсив мой. — В.Р.) в косное» [Вернадский, 2001: 280]. Аналогичным образом ориентированы постулаты нелинейной термодинамики и теории диссипативных структур, акцентирующие «переход от беспорядка, теплового хаоса, к порядку» [Пригожин, Стенгерс, 1986: 54], а также базирующиеся на них концепты глобального эволюционизма [Философский словарь, 2001: 127–128; Энциклопедия эпистемологии и философии науки, 2009: 1127].
Это односторонний подход, где преобладает «формально-логическая установка, ориентирующая на отыскание абстрактно-общего» [Ильенков, 1991: 324] и, как следствие, упускается сущностное различие между живым и неживым. Согласно этой логике «кристаллы тоже обладают признаками живой материи: они сохраняют форму, растут, способны к питанию — поглощению из окружающей среды нужных компонентов и даже к размножению» [Дубнищева, 1997: 608]. Между тем живая природа специфицируется принципиально иным образом: «Способ существования живого — в отличие, например, от кристалла — предполагает обновление через размножение и смерть. Именно смерть служит отличием живого от неживого» [Заварзин, 2010: 312]. То же утверждает философ: «Смерть предполагает жизнь, начинается с жизнью и с жизнью же заканчивается» [Трубников, 1990: 445]. Так думает и ученый: «Очевидно, что без смерти жизнь невозможна» [Нерс, 2021: 216].
Возникает необходимость сдвинуть акцент в понимании жизни к феномену смерти.
Жизнь и смерть: обновленное понимание
Смерть принято определять как прекращение жизнедеятельности живого существа, как завершение его жизненного цикла и финальный переход в состояние небытия. При более пристальном рассмотрении этот итог предстает следствием более или менее длительных процессов, связанных с дезорганизацией, деструкцией, разрушением. Наиболее общим для них представляется понятие распада, синонимы дезорганизации в составе таких парных категорий, как «ассимиляция — диссимиляция», «анаболизм — катаболизм», «организация — деструкция» и пр., в равной мере приложимы и к оптимально функционирующим, и к деградирующим системам, следовательно, не создают основы для спецификации феноменов жизни и смерти.
В первую очередь это распад внешнего ресурса, за счет которого существуют и живые, и неживые системы, что было понятно еще Гераклиту: «Бессмертные смертны, смертные бессмертны, [одни] живут за счет смерти других, за счет жизни других умирают» [Фрагменты ранних греческих философов, 1989: 215]. Специфика живого в том, что в дополнение к внешнему распаду в его обмен включается внутренний распад (чем и объясняется способность живых систем к непрерывному самообновлению). Вводя звено деструкции в цепь своего внутреннего обмена, живое как бы заключает временный союз со смертью, благодаря чему безмерно повышает свою продуктивность.
С этой точки зрения создается возможность уточнить понятия. Живое — это то, что способно умирать, мертвое — то, что прежде было живым, а потом перестало им быть, неживое — то, что никогда не было живым, а смерть — безусловный атрибут жизни, реализующийся в образе внутреннего распада. В качестве нисходящего звена обмена смерть сочетается с восходящими процессами в нем, в результате в структурном отношении она воссоздает его целостность, а в темпоральном — предопределяет круговую траекторию жизненного цикла любой живой системы: «Каждая группа организмов в течение определенного промежутка времени достигает расцвета, а затем, повинуясь внутренним, скрытым в конституции организма причинам, вымирает или отступает на задний план, оставляя место другим. <…> Подобно этому каждая особь умирает своей естественной смертью тогда, когда это полагается ей, согласно ее организации» [Берг, 1977: 135].
Сочетание этих циклов, будучи спроецировано на внутренний распад, разделяет его на два этапа: распад в организме, обеспечивающий его рост и созидание, и распад организма, ведущий его к угасанию и умиранию. Именно этот переход любой живой системы (организма, вида, биоценоза, человечества) от первого этапа ко второму наиболее сложен для понимания, поскольку он происходит не только из-за нехватки внешнего ресурса, но реализуется и на фоне его оптимума или избытка, например, при старении организмов и вымирании видов.
«Природа — сфинкс» (Ф. Тютчев)
Поскольку эта фатальная тенденция не объясняется «изнутри», из генетической сферы, есть смысл подойти к ней «извне», системно, соединив обновленное понимание жизненного процесса с утвердившимся в науке общетеоретическим правилом «внешние причины действуют через внутренние условия» [Рубинштейн, 2003: 372]; более конкретно — действуют «путем постепенной замены <…> внешних факторов развития внутренними» [Шмальгаузен, 1982: 371]; еще более конкретно — «эволюция происходит наложением нового на систему прошлого <…> новое использует уже имеющиеся функциональные позиции и создает новые возможности для старого» [Заварзин, 2011: 105].
Вывод: в процессе эволюции средовые факторы существования живых систем неуклонно сдвигаются извне — вовнутрь, причем новые подсистемы не разрушают старые, а включают их в свой состав и тем самым создают системы более высокого уровня, где старые подсистемы, продолжая работать на себя, дополнительно начинают исполнять функцию внутреннего распада.
В этом однородном пространстве для смерти как самостоятельного начала просто не остается места — здесь действуют только живые системы, непрерывно смещаясь в циклах обмена снизу вверх и сверху вниз. В таком контексте смерть — это тоже жизнь, которая, будучи заблокирована на какое-то время более мощным, реализующим распад в организме обменным уровнем, только ожидает своего часа, чтобы выйти из подавленного состояния и проявить свою жизненную активность, реализуя распад организма. Тогда весь эволюционный процесс в биосфере — это глобальный симбиогенез, где метаболизмы более высокого уровня включают в себя метаболизмы более низкого уровня, вплоть до неких базисных деструкторов, на роль которых вполне могут претендовать вирусы.
Поскольку «смерть неразрывно связана с жизнью, то в процессе биологической эволюции механизмы умирания также подвергаются эволюционным изменениям» [БМЭ, Т. 23, 1984: 448], последовательность которых выстраивается в ряд: интенсификация распада в организме особи → изменение соотношения между распадом в организме и распадом организма со сдвигом последнего на более позднее сроки → увеличение видовой продолжительности жизни. По данному показателю человеческий вид обладает безусловным приоритетом [Дильман, 1987: 163].
Но если так, возможно ли целенаправленное воздействие на этот процесс?
На уровне живой природы это абсолютно невозможно, поскольку здесь особь идет за видом, проживая свой жизненный цикл с опорой на тот эволюционно сформировавшийся и лимитированный по видовым меркам запас своей генетической изменчивости, который по этой самой причине всегда будет отставать от новых средовых условий, блокируя всякую возможность противодействовать деструкции. Поэтому в пределах биологической эволюции смерть властвует как абсолютно неуправляемая, фатальная сила не только по причине пространственно-иерархического устройства живой природы («жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы…»), но и вследствие действующего в ней темпорально-асинхронного принципа обновления.
«Покоя в мире нет» (Н. Заболоцкий)
Что же человек? Несмотря на все отличающие его от животных способности (производство орудий труда, мышление, речь и т.д.), с точки зрения феномена смерти он так и не вышел за пределы животного мира, с той только разницей, что пассивное отношение к ней стало у него осознанным, принимающим во всех своих проявлениях (от мифологии и религии до философии и науки) форму стоицизма, разумного примирения с неизбежностью. Прогресс технической цивилизации не добавляет оптимизма в этом отношении, поскольку он сохраняет биологический тип эволюции: «Для чисто биологического существования техники идеалом является количественное расширение, и этот идеал в своем максимально точном воплощении обеспечивает фактически копирование борьбы видов за существование» [Бескаравайный, 2018: 199]. А достижение точки биологической сингулярности лишь обозначает переход сложившейся траектории в какое-то новое качество. Какое же?
Сторонники трансгуманизма полагают, что это будет переход к точке технологической сингулярности, где техника, живая природа и человек должны слиться в некоем субъектоподобном единстве, и уже с упоением рисуют такое будущее: «Спектр технологических потребностей в человеке будет непрерывно сужаться: навыки и умения практически мгновенно будут воспроизводиться машинами <…> Мы увидим ужасные и головокружительные перемены в социуме. Человеку достанутся экологические ниши подвальных крыс, декоративных собак и реликтовых деревьев. <…> Перед неизмененным человечеством попросту не останется перспектив» [Бескаравайный, 2018: 376–379].
Подобный вариант нельзя исключить, тем не менее просматривается и альтернатива.
Альтернатива: опыт обоснования
Для этого есть по меньшей мере два обстоятельства. Первое: в эволюционном плане выход на точку биологической сингулярности означает синхронизацию темпов обновления техносферы с продолжительностью жизни отдельного человека, а тем самым — формирование объективных предпосылок преодоления того «отставания», которое в природе и делает смерть фатальной. Второе: в антропологическом плане подход к смерти как инобытию жизни позволяет рассматривать умирание в качестве процесса, доступного некоторому регулированию, что означает формирование субъективных предпосылок преодоления смерти.
Еще Бергсон полагал, что в организме человека существуют некие механизмы, препятствующие тому деструктивному воздействию смерти на жизнь, которое ведет к ее прерыванию: «Если эти механизмы оказываются расстроенными и дверь, которую они держали закрытой, приоткрывается, то нечто приходит из “внешнего” мира, который, возможно, есть мир “потусторонний”» [Бергсон, 1994: 343]. Но если подойти к этому механизму с точки зрения взаимодействия двух форм внутреннего распада (распад в организме → распад организма), то создается потенциальная возможность конвертировать деструктивный потенциала смерти в инструмент регулируемого воздействия на жизненный процесс.
Речь идет о медицине, на плечи которой в случае практического воплощения этой идеи ляжет основная нагрузка. Нынешняя медицинская доктрина ограничена рамками парной категории «здоровье — болезнь», а совокупность ее лечебных приемов де факто сводится к «ремонту», то есть к ликвидации тех «поломок» в организменном обмене, которые идентифицируются с «болезнями» и накопление которых ведет к смерти [Бернал, 1969: 223]. Более полутора веков эта модель успешно обслуживала медицинскую практику [Фуко, 2010], но ныне в контексте XXI века ее эффективность резко снизилась.
Все это указывает на необходимость выработки новой модели медицины, призванной исполнять свое предназначение в несравненно более широких масштабах, очерченных категориями «жизнь — смерть», следовательно, ориентированной на некий вариант бессмертия. Уже на биологическом уровне «прогресс заключается в сохранении живого, сокращении смертности и, в конечном счете, достижении какой-то формы бессмертия» [Красилов, 1986: 123], тем более эта установка оправдана на уровне культуры. Это значит, что решение обостряющихся ныне антропологических проблем следует искать не на путях биотехнологических трансформаций естественной природы человека, а на линии целенаправленного, научно обоснованного управления жизненным процессом в человеческом организме при сохранении его морфологической неизменности. Разумеется, речь идет не об абсолютном бессмертии, то есть о полной ликвидации смерти, но о преодолении ее фатального характера с опорой на познание глубинных закономерностей эволюционирующей жизни, контуры которых были обозначены в данной работе.
Об авторах
Владимир Александрович Рыбин
Автор, ответственный за переписку.
Email: voldemarrybin@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-3343-1048
доктор философских наук, доцент, независимый исследователь
РоссияСписок литературы
- Алексеев В.П. Человек: эволюция и таксономия // Алексеев В.П. Избранное: в 5 т. Т. 2. М.: Наука, 2007.
- Alexeev V.P. Chelovek: evolutia i taxonomia [Man: Evolution and Taxonomy]. Alexeev V.P. Isbrannoe: v 5 t. [Favorites: in 5 vols.]. Vol. 2. Moscow: Nauka Publ., 2007.
- Бауэр Э.С. Теоретическая биология. СПб.: ООО «Росток», 2002.
- Bauer E.S. Teoreticheskaja biologia [Theoretical Biology]. St. Petersburg: Rostok Publ., 2002.
- Берг Л.С. Труды по теории эволюции. Л.: Наука, 1977.
- Berg L.S. Trudy po teorii evolyutsii [Works on the Theory of Evolution]. Leningrad: Nauka Publ., 1977.
- Бергсон А. Творческая эволюция / пер. с франц. А.Ф. Гофмана. М.: Канон-пресс, 1998.
- Bergson H. Tvorcheskaj evolutia [Creative Evolution], transl. from French by A.F. Gofman. Moscow: Canon-Press Publ., 1994.
- Бернал Дж. Возникновение жизни / пер. с англ. И.Б. Бухвалова. М.: Мир, 1969.
- Bernal J. Vosniknovenie shisni [The Emergence of Life], transl. from Engl. by I.B. Bukhvalov. Moscow: Mir Publ., 1969.
- Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. М.: Наука, 1990.
- Bernstein N.A. Fisiologia dvishenii i aktivnоst [Physiology of Movements and Activity]. Moscow: Nauka Publ., 1990.
- Бескаравайный С. Бытие техники и сингулярность. М.: Рипол классик, 2018.
- Beskaravayny S. Butie Tehniki i singularnost [The Existence of Technology and the Singularity]. Moscow: Ripol Classik Publ., 2018.
- Биологический энциклопедический словарь (БЭС). М.: Изд-во «Большая российская энциклопедия», 1995.
- Biologichesrij enciclopedicheskij slovar [The Biological Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Great Russian Encyclopedia Publ., 1995.
- Бодрийяр Ж. Профилактическая вирулентность / пер. с франц. Л. Любарской // Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000. С. 88–104.
- Baudrillard J. Pofilakticheskaja virulentnost [Preventive Virulence], transl. from French by L. Lyubarskaya. Baudrillard J. Prosrachnost zla [Transparency of Evil]. Moscow: Dobrosvet Publ., 2000. P. 88–104.
- Большая медицинская энциклопедия (БМЭ): в 30 т. М.: Советская энциклопедия, 1974–1989.
- Bolshaja medicinskaja enciklopedia: v. 30 t. [The Great Medical Encyclopedia: in 30 vols.]. Moscow: Sovetskaja Enciclopedia Publ., 1974–1989.
- Валентайн Дж.У. Эволюция многоклеточных растений и животных // Эволюция / пер. с англ. Н.О. Фоминой. М.: Мир, 1981. C. 149–172.
- Valentine J. Evolutia mnogokletochnih rastenij i shivotnih [The Evolution of Multicellular Plants and Animals]. Evolutia [Evolution], transl. from English by N.O. Fomina. Moscow: Mir Publ., 1981. P. 149–172.
- Вернадский В.И. Химическое строение Земли и ее окружения. М.: Наука, 2001.
- Vernadsky V.I. Himicheskoje stroenie Zemli i ee okrushenja [The Chemical Structure of the Earth and its Environment]. Moscow: Progress Publ., 2001.
- Вулф Н. Смертельный шторм: эпоха новых пандемий / пер. с англ. К. Тимониной. М.: АСТ, 2013.
- Wolfe N. Smertelnij storm [The Viral Storm], transl. from English by K. Timonina. Moscow: AST Publ., 2013.
- Грант В. Эволюционный процесс: Критический обзор эволюционной теории / пер. с англ. Н.О. Фоминой. М.: Мир, 1991.
- Grant V. Evolutionnij process: kriticheskij obzor evolutionnoj teorii [The Evolutionary Process: A Critical Review of Evolutionary Theory], transl. from English by N.O. Fomina. Moscow: Mir Publ., 1991.
- Дильман В.М. Четыре модели медицины. Л.: Медицина, 1987.
- Dilman V.M. Chetiri modeli mediciny [Four Models of Medicine]. Leningrad: Meditsina Publ., 1987.
- Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания. Учебное пособие. Новосибирск: изд-во ЮКЭА, 1997.
- Dubnishcheva T.Ya. Koncepcii sovremennogo estestvosnania. Uchebnoe posobie [Concepts of modern natural science. Study guide]. Novosibirsk: JEKA Publ., 1997.
- Заварзин Г.А. Логика биологии и современное мировоззрение // Науки о жизни и современная философия. М.: Канон+, 2010. C. 302–317.
- Zavarzin G.A. Logika biologii i sovremennoe mirovozrenie [Logic of Biology and Modern Worldview]. Nauki o shisni I sovremennaja filosofia [Life Sciences and Modern Philosophy]. Moscow: Canon+ Publ., 2010. P. 302–317.
- Заварзин Г.А. Ретроспектива. Избранные статьи по истории науки. М.: МГУ, 2006.
- Zavarzin G.A. Retrospectiva. Isbrannie statji po istorii nauki [A Retrospective. Selected Articles on the History of Science]. Moscow: Moscow State University Publ., 2006.
- Заварзин Г.А. Эволюция прокариотной сферы: «Микробы в круговороте жизни». М.: МАКС Пресс, 2011.
- Zavarzin G.A. Evolutia prokariotnoj sferi: “Mikrobi v krugovorote shisni” [Evolution of the Prokaryotic Sphere: “Microbes in the Cycle of Life”]. Moscow: MACS press, 2011.
- Зотин А.И., Зотин А.А. Направление, скорость и механизмы прогрессивной эволюции. М.: Наука, 1999.
- Zotin A.I., Zotin A.A. Napravlenie, skorost’ i mekhanizmy progressivnoi evolyutsii [Direction, Speed and Mechanisms of Progressive Evolution]. Moscow: Nauka Publ., 1999.
- Заласевич Я. Земля после нас: Что расскажут камни о наследии человека / пер. c англ. А.А. Рудаковой. СПб.: Изд-во Европейского университета в СПб., 2022.
- Zalasevich Ya. Zemlja posle nas. Chto rasskashut kamni o nasledii cheloveka? [The Earth after us: What Legacy Will Humans Leave in the Rocks?], transl. from English by A.A. Rudakova. St. Petersburg: European University Publ., 2022.
- Ивантер Э.В. Очерки теории эволюции. М.: КМК, 2019.
- Ivanter E.V. Ocherki po teorii evolutii [Essays on the Theory of Evolution]. Moscow: KMK Publ., 2019.
- Ильенков Э.В. О всеобщем // Ильенков Э.В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991. C. 320–339.
- Ilyenkov E.V. O vseobshem [About the Universal]. Ilyenkov E.V. Filisofia i cultura [Philosophy and Culture]. Moscow: Politizdat Publ., 1991. P. 320–339.
- Казначеев В.П. Проблемы человековедения. Москва–Новосибирск: Исследовательский центр, 1997.
- Kaznacheev V.P. Problemi chelovekovedenja [Problems of Human Studies]. Moscow–Novosibirsk: Issledovateskij centre Publ., 1997.
- Капица С. Парадоксы роста: Законы развития человечества. М.: Альпина, 2010.
- Kapitsa S. Paradoxi rosta. Zakoni rasvitija chelovechstva [Paradoxes of Growth: Laws of Human Development]. Moscow: Alpina Publ., 2010.
- Козлова М.С. Эволюция. Универсальный подход. М.: Либроком, 2018.
- Kozlova M.S. Evolutia. Universalnij podhod [Evolution. Universal Approach]. Moscow: Librocom Publ., 2018.
- Корогодин В.И., Корогодина В.Л. Информация как основа жизни и целенаправленные действия // Причинность и телеономизм в современной естественно-научной парадигме. М.: Наука, 2002. С. 189–212.
- Korogodin V.I., Korogodina V.L. Informatsiya kak osnova zhizni i tselenapravlennye deistviya [Information as the Basis of Life and Purposeful Actions]. Prichinnost’ i teleonomizm v sovremennoi estestvenno-nauchnoi paradigme [Causality and Teleonomism in the Modern Natural Science Paradigm]. Moscow: Nauka Рubl., 2002. P. 189–212.
- Колберт А. Шестое вымирание: Неестественная история / пер. с англ. А. Якименко, Э. Садыхова. М: АСТ, 2019.
- Colbert A. Shestoe vymiranie: Neestestvennaya istoriya [The Sixth Extinction: An Unnatural Story], transl. from English by A. Yakimenko, E. Sadikhova. Moscow: AST Publ., 2019.
- Красилов В.А. Нерешенные проблемы теории эволюции. Владивосток: Дальневосточный центр Академии наук СССР, 1986.
- Krasilov V.A. Nereshennye problemy teorii evolyutsii [Unsolved Problems of the Theory of Evolution]. Vladivostok: Far Eastern Center of the USSR Academy of Sciences Publ., 1986.
- Кузнецов О.Л. Система «природа–общество–человек»: философия развития через взаимодействия. М.: Изд-во РАЕН, 2010.
- Kuznetsov O.L. Sistema “priroda–obchestvo–chelovek”: filosofia rasvitia cheres vsaimodejstvia [The System “Nature–Society–Man”: Philosophy of Development Through Interaction]. Moscow: Russian Academy of Natural Sciences Publ., 2010.
- Левонтин Р.К. Адаптация // Эволюция / пер. с англ. Н.О. Фоминой. М.: Мир, 1981. C. 241–262.
- Levontin R.K. Adaptacia [Adaptation]. Evolutia [Evolution], transl. from English by N.O. Fomina. Moscow: Mir Publ., 1981. P. 241–262.
- Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1960.
- Marx K. Kapital. T. 1 [Capital. Vol. 1]. Marx K., Engels F. Soshineniya. 2 izd. [Works. 2nd ed]. Vol. 23. Moskow: Gospolitizdat Publ., 1960.
- Нерс П. Что такое жизнь? / пер. с англ. А.Б. Попова. М.: Колибри, 2021.
- Ners P. Chto takoe shisn? [What is Life?], transl. from English by A.B. Popov. Moscow: Kolibri Publ., 2021.
- Новая философская энциклопедия (НФЭ). В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 2001.
- Novaja filosofskaja encyclopedia. V 4 t. Т. 4 [The New Philosophical Encyclopedia. In 4 vols.]. Vol. 4. Moscow: Mysl' Publ., 2001.
- Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). СПб.: Алетейя, 2007.
- Porshnev B.F. O nachale chelovecheskoj istorii (problem paleopsihologii) [On the Beginning of Human History (Problems of Paleopsychology)]. St. Petersburg: Aleteya Publ., 2007.
- Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / пер. с англ. Ю.А. Данилова. М.: Прогресс, 1986.
- Prigozhin I., Stengers I. Porjadok is haosa. Novij dialog cheloveka s prirodoi [Order out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature], transl. from English by J.A. Danilov. Moscow: Progress Publ., 1986.
- Риклефс Р. Основы общей экологии / пер. с англ. Н.О. Фоминой. М.: Мир, 1979.
- Ricklefs R. Osnovi obchej ekologii [Fundamentals of General Ecology], transl. from English by N.O. Fomina. Moscow: Mir Publ., 1979.
- Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. М.: Высшая школа, 1977.
- Roginsky Ya. Problemi antropogenesa [Problems of Anthropogenesis]. Moscow: Vysshaya shkola Publ., 1977.
- Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер, 2003.
- Rubinstein S.L. Bitje i Soznanje. Chelovek i mir [Being and Consciousness. Man and the World]. St. Petersburg: Piter Publ., 2003.
- Рыбин В.А. Проблема стресса и феномен смерти в современном мире: медико-философский аспект // Человек. 2023. Т. 34, № 4. С. 11–26.
- Rybin V.A. Problema stressa i fenomen smerti v sovremennom mire: mediko-filosofskii aspekt [The Problem of Stress and the Phenomenon of Death in the Modern World: a Medical and Philosophical Aspect]. Chelovek. 2023. Vol. 34, N 4. P. 11–26.
- Тарантул В.З. Геном человека: Энциклопедия, написанная четырьмя буквами. М.: Языки славянской культуры, 2003.
- Tarantul V.Z. Genom cheloveka: Enciclopedia napisannaja chetirmja bukvami [The Human Genome: An Encyclopedia Written in Four Letters]. Moscow: Jasyki slavynskoj culturi Publ., 2003.
- Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд. М.: Республика, 2001.
- Filosofskij slovar [Philosophical dictionary], ed. by I.T. Frolov. 7th ed. Moscow: Respublika Publ., 2001.
- Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. М.: Наука, 1989.
- Fragmenti rannih grecheskih filosofov. Ch. I [Fragments of early Greek philosophers]. Part I. Moscow: Nauka Publ., 1989.
- Фуко М. Рождение клиники / пер. с франц. А.Ш. Тхостова. М.: Академический проект, 2010.
- Foucault M. Roshdinie cliniki [The Birth of the Clinic], transl. from French by A.Sh. Thostov. Moscow: Akademicheskii proekt Publ., 2010.
- Хайтун С.Д. Социум против человека: Законы социальной эволюции. М.: КомКнига, 2010.
- Haitun S.D. Socium protiv cheloveka. Sakoni socialnoj evolutii [Society Against Man: The Laws of Social Evolution]. Moscow: KomKniga Publ., 2010.
- Цинзерлинг А.В., Цинзерлинг В.А. Современные инфекции. Патологическая анатомия и вопросы патогенеза. Руководство. СПб.: СОТИС, 2002.
- Tsinserling A.V., Tsinserling V.A. Sovremennye infektsii. Patologicheskaya anatomiya i voprosy patogeneza. Rukovodstvo [Modern Infections. Pathological Anatomy and Pathogenesis Issues. Management]. St. Petersburg: SOTIS Publ., 2002.
- Чакрабарти Д. Об антропоцене / пер. с англ. Д. Кралечкина. М.: Арт Гид, 2019.
- Chakrabarti D. Ob antropocene [On the Anthropocene], transl. from English by D. Kralechkin. Moscow: Art Guide Publ., 2019.
- Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции. М.: Наука, 1980.
- Schwartz S.S. Ecologicheskje saconomernosti evolutii [Ecological Patterns of Evolution]. Moscow: Nauka Publ., 1980.
- Шмальгаузен И.И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. Избранные труды. М.: Наука, 1982.
- Schmalhausen I.I. Organizm kak tseloe v individual'nom i istoricheskom razvitii. Izbrannye trudy [The Organism as a Whole in Individual and Historical Development. Selected works]. Moscow: Nauka Publ., 1982.
- Шредингер Э. Что такое жизнь? / пер. с англ. К. Егоровой. М.: Изд-во АСТ, 2023.
- Schrodinger E. Chto takoe zishn? [What is Life?], transl. from English by K. Egorova. Moscow: AST Publ., 2023.
- Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009.
- Enciclopedia epistemologii i filosofii nauki [Encyclopedia of Epistemology and Philosophy of Science]. Moscow: Canon+ Publ., 2009.