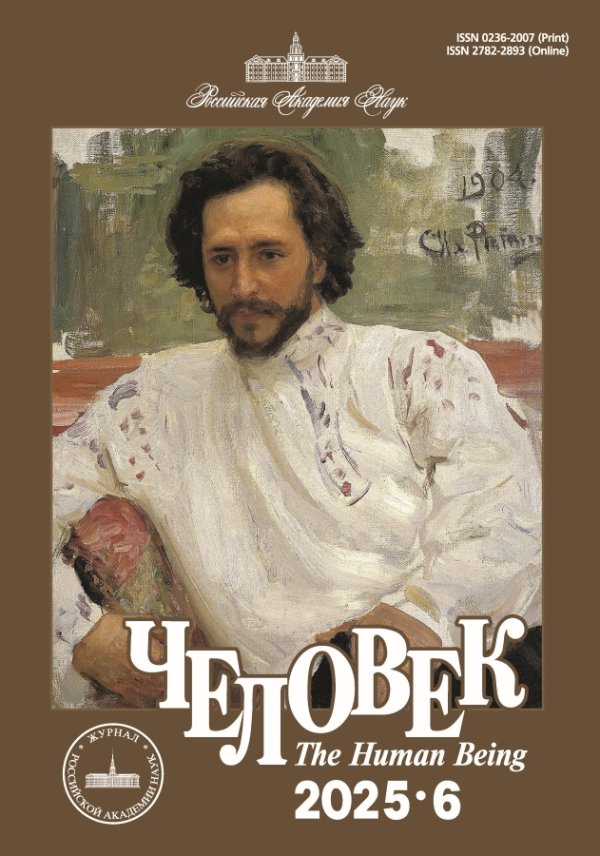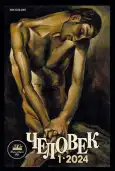Nostalgia of Sound: The Social and Cultural Phenomenon of the “Soviet Wave” Music Community
- Authors: Abramov R.N.1,2, Voinkov A.V.1,2
-
Affiliations:
- HSE University
- Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 35, No 1 (2024)
- Pages: 178-193
- Section: Symbols. Values. Ideals
- URL: https://bakhtiniada.ru/0236-2007/article/view/255799
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0236200724010127
- ID: 255799
Full Text
Abstract
Nostalgia for the late Soviet past takes various forms and is intertwined in complex ways with global trends to look to the past for inspiration in creating new examples of mass culture. New generations of those who were born and raised after the collapse of the Soviet system are being introduced to nostalgic reminiscences. The article analyzes the socio-cultural phenomenon of electronic music Soviet Wave, which combines the stylistics of the late Soviet popular culture and contemporary electronic music. This phenomenon can be understood as post-nostalgia for the late Soviet, since it involves members of the younger generation who know about the Soviet from the stories of their parents and the media. In addition, the “Soviet Wave” is also analyzed as part of the general trend of retromania described by S. Reynolds. Reynolds, where there is an endless reference to the musical styles of the past in the creation of new works. The main concept of the phenomenon of the Soviet Wave is the idea of “ersatz-nostalgia” by A. Appadurai, which suggests the contemporary experience of the past without a corresponding life experience and collective historical memory, but based on the popular patterns of mass culture, in the representations of which the past has already undergone profound transformation. Nostalgia for the late Soviet past takes various forms and is intertwined in complex ways with global trends to look to the past for inspiration in creating new examples of mass culture. The article presents a brief history of the formation and evolution of the musical culture of “Soviet Wave” in the Russian subcultural scene, shows the connection of the aesthetics of this trend with the nostalgic mood of the late Soviet period, reveals the elements of ersatz and techno nostalgia (T. Pinch, D. Reyneke), examines the relationship of this phenomenon with the broader trends in contemporary mass culture in the international context. “The Soviet Wave” is also considered as an element of cultural citizenship formation and transformational museumfication of the Soviet. The article is based on the results of the author’s empirical research, which included interviews with musicians working in the “Soviet Wave” genre.
Full Text
Абрамов Роман Николаевич
Воинков Александр Валерьевич
Жанр Soviet Wave («советская волна», далее будет обозначаться как «SW») относится к электронной музыке, исполняемой на электрических инструментах (в противовес акустическим) и близкой к «синтвейву» (англ. synthwave) — глобальному жанру электрической ретромузыки, где происходит ностальгическое воспроизведение мотивов поп-музыки и саундтреков компьютерных игр 1980-х годов. Композиции в жанре SW появились в начале прошлого десятилетия, и в названии, визуальной эстетике оформления музыкальных обложек, звучании данная музыка содержала элементы, призванные вызывать ассоциации с массовой аудиовизуальной культурой позднего советского периода, включая образы советских фильмов и мультфильмов, прежде всего «Тайны третьей планеты» (1981), и творчество таких композиторов, как Эдуард Артемьев, Александр Зацепин, Михаил Чекалин и др. [Чернова, 2019]. Направление SW исследователи описывали как проявление «ностальгического мифа», «яркого, чувственного и живого» мифообраза, обращенного в близкое прошлое [Шевченко, 2019]. К. Чернова характеризует звучание как находящееся где-то «между постпанком и ретровейвом, от мрачного до мечтательного настроения, полной реконструкции звучания таких образцов советской электронной музыки» [Чернова, 2019]. SW широко представлен в социальных сетях (например, во ВКонтакте), а на Youtube работал канал с бесконечной трансляцией музыки в этом жанре. Антропологически музыканты, работающие в жанре SW, образуют плотное и взаимосвязанное сообщество, основанное на общем понимании связи современной электронной музыкальной культуры с ностальгической стилистикой позднего советского времени.
SW делает акцент на культурные и сциентистские аспекты жизни позднесоветского времени, уходя от политических контекстов. Исполнители прибегают к использованию аутентичных аналоговых синтезаторов 1970–1980-х годов либо их эмуляторов, что позволяет достичь эффекта «вживания» слушателя в конкретный временной промежуток, когда такие инструменты были в ходу. В постобработке звука встречаются приемы: включение помех в композиции (имитация радиопомех, скрежет иглы винилового проигрывателя), аудиоотрывки из речей советских лидеров, вставки из советских фантастических или научно-популярных фильмов.
Хотя феномен SW и стал заметен на российской музыкальной и культурной сцене, однако он изучен фрагментарно [Чернова, 2019; Хохлова, Хохлов, 2020] с позиций социологии культуры, коллективной памяти и ностальгии. Наша статья отражает результаты социологического исследования SW как субкультурной сцены и включает данный феномен в более широкий круг медийных коммеморативных практик ностальгии по позднему советскому прошлому, однако не исчерпывается ими, поскольку также укладывается в глобальные тренды ретромании в массовой культуре и музыке1.
Ностальгия и ретромания в современной музыке
Ностальгическая чувствительность постмодернизма сводит историю к простому визуальному стилю, зрелищу прошлого, а историчность подменяется новой эстетикой — режимом ностальгии, когда прошлое репрезентируется через стилистическую коннотацию и происходит эстетическая колонизация прошлого с очевидным коммерческим функционалом [Джеймисон, 2019: 113]. Постмодернистскую ностальгию можно охарактеризовать как вневременную ностальгию, и она преодолевает напряжение между прошлым и настоящим, фокусируясь на недавнем прошлом [Higson, 2014: 125]. Постмодернистская ностальгия формируется через потребительские практики и стили, что формирует восстанавливающий эффект и повторно маркирует прошлое [Higson, 2014: 128].
Современный маркетинг стремится создать ностальгию, прививая потребителям чувство тоски по вещам, которых они никогда не теряли, поскольку ими не обладали, как каталоги заказов на подарки в США, производящие ностальгию по ушедшим образам жизни, пейзажам и сценам [Appadurai, 1996: 76–77]. Эта «ностальгия без жизненного опыта или коллективной исторической памяти» была обозначена как эрзац-ностальгия [ibid.: 77–78] или «ностальгия в кресле» (armchair nostalgia) и «воображаемая ностальгия» [ibid.]. Ностальгия по современности, стилизованная подача настоящего, как будто оно уже ускользнуло, характеризуют значительную часть телевизионной рекламы, особенно ориентированной на молодежный рынок: эстетика видео, в которой реклама снята таким образом, чтобы создать аллюзии с ушедшим в ностальгических тонах — то, что можно обозначить как «histoire noire» [ibid.].
Эрзац-ностальгия, получившая развитие в маркетинговых стратегиях, может рассматриваться как способ привлечения внимания к продукту, будь то товар массового производства или же культурный объект, и становится основой ностальгических переживаний по времени, относительно которого аудитория не имеет собственного опыта, но обладает размытыми коллективными представлениями. Эта искусственно созданная форма ностальгии является маркетинговым ходом. Обращение к прошлому в современной музыке является часто используемым приемом, демонстрирующим свою эффективность в качестве одного из способов привлечения внимания к творчеству [Рейнольдс, 2011].
Ретромания отличается отсутствием принципиально новых идей в современной музыкальной культуре, обращением исключительно к своему прошлому. Из-за массовой цифровизации и неограниченного доступа к музыке из предыдущих эпох современная популярная музыка почти остановилась в своем развитии [Рейнольдс, 2011]: происходит бесконечное переосмысление и переиздание стилей и идей, которые уже существуют. Согласно С. Рейнольдсу, ретромания «извращает» популярную культуру: современные музыканты предпочитают ретростилизацию своего творчества вместо инновационных творческих поисков. Для культуры характерно обращение к своему наследию, однако для ретромании объектом заимствования и вдохновения становится совсем недавнее прошлое — здесь проходит черта между «ретро» и интересом к истории: культура увлечена музыкой, модой и героями, которые живут в короткой памяти. Н.В. Самутина, комментируя книгу С. Рейнольдса, отмечает, что «ретромания является закономерным итогом нашей постмодерной современности, принявшей форму тотального ностальгического пастиша» [Самутина, 2012]. Для постмодерна характерны атемпоральность и потеря историчности, возникновение суррогатов прошлого, заключенных в ретростилях и образах, в отличие от свойственного обществу модерна напряженного чувства прошлого.
Н. Рюссо говорит, что практики «рок-возрождений», характерные для современной музыки в жанре «ретророк», выпускаемой с начала двухтысячных годов, но ориентирующейся в своей стилистике и звучании на рок-музыку из второй половины ХХ века, — пример эрзац-ностальгии, поскольку и артисты, и слушатели отделены от объекта (то есть музыки прошлого) на несколько поколений [Russo, 2014]. Авторы подобной музыки не застали периодов, когда создавалась музыка, которую они возрождают в своем творчестве, а слушатели, у которых эта музыка по разным причинам вызывает ностальгию, могут располагать не персональной, но коллективной памятью об эпохе шестидесятых годов прошлого века. Ностальгия по ретророку опирается на понимание прошлого, которое апеллирует к коллективной памяти [Wolfe et al., 1999: 271; Russo, 2014]. Эрзац-ностальгия в современной ретророк-музыке основана на опосредованных представлениях, заключенных в коллективной памяти о конкретной эпохе.
Ж. Ван Дейк обозначает наличие взаимосвязи между личными и коллективными воспоминаниями о популярной музыке, поскольку эти воспоминания строятся на основе историй о записанной музыке. Ж. Ван Дейк говорит о том, что поп-песни часто считаются средством воспоминаний — они привязывают определенные личные переживания к памяти [Van Dijck, 2007]. Записанная поп-музыка может создать когнитивную основу, с помощью которой коллективно сконструированные значения переносятся в индивидуальную память, в результате чего возникает сложная смесь воспоминаний и воображения, воспоминаний, перемежающихся с экстраполяциями и мифами.
Музыка и песни могут становиться «нашими песнями», поскольку они связаны с опытом различных коллективов, будь то семья или группа сверстников. Вербальные рассказы, по-видимому, важны для передачи как музыкальных предпочтений, так и связанных с ними чувств до такой степени, что становится трудно отличить «живые» воспоминания от историй, рассказанных родителями или братьями и сестрами [Misztal, 2003: 84]. Личный музыкальный репертуар — это живая память, которая стимулирует участие в повествовании, начиная с первого раза, когда мы слышим песню, и до каждого раза, когда мы проигрываем ее на более поздних этапах жизни.
Т. Пинч и Д. Райнек рассматривают особенности использования винтажного и ретрооборудования при написании музыки и песен, используя понятие «техноностальгии» — особое отношение между прошлым и настоящим, воплощенное в музыкальном оборудовании [Pinch, Reinecke, 2009]. В случае же «техностальгии» — это скорее попытка посредничества между прошлым и настоящим для достижения определенного звука и ощущений [Hennion, 1997]. Техноностальгия служит материальным выражением антропологической связности сообщества SW, участники которого с большим вниманием относятся к реставрации и поддержанию в рабочем состоянии электронной музыкальной аппаратуры 1970–1980-х годов.
Д. Хохлова и Н. Хохлов описывают то, как ретромания и ностальгия представлены в поп-музыке, выпущенной в России, когда значения символов советской эпохи размываются и обретают новые смыслы в реалиях настоящего. Молодому поколению, родившемуся после распада СССР, практически невозможно уловить аутентичную семантику той эпохи, однако общее изобилие подобных символов в текстах песен формирует репрезентацию советского в современной поп-музыке [Хохлова, Хохлов, 2020]. Отсылки к советскому прошлому так или иначе присутствуют в современной российской поп-музыке, однако в рамках нашего исследования мы обращаемся именно к SW как к одному из ответвлений электронной музыки, которая своей стилистикой обращается к советскому прошлому России — об этом свидетельствует не только название, но и особенная манера звучания, и то, как и на каких платформах распространяется такая музыка.
Российское сообщество “Soviet Wave”
Большинство авторов музыки в жанре SW не застали СССР при жизни, или же на этот период пришлись детские годы музыкантов, что не позволило сформировать отчетливых воспоминаний о Советском Союзе. Свои представления о прошлом СССР они черпают из медиа и рассказов старших родственников и знакомых.
«Мы, родившиеся (в 1980-е, 90-е, 00-е), особо и не видели то время, мы, конечно же, все это воспринимаем через призму всяких мультиков, то есть мы видели, как люди живут в СССР только через кино, мультфильмы “Ну погоди!”, “Тайна третьей планеты”, всякие фильмы про пионеров и т.д.».
«Всё что нашло отражение в хороших фильмах Гайдая и Рязанова, все эти атрибуты складывают такой СССР из рекламного проспекта “Приезжайте в Советский Союз!”».
Одним из нередко встречающихся мотивов СССР в музыке SW является романтизированный образ советской космической программы. Авторы говорят о том, что это служит источником вдохновения для них и находит отражение в песнях.
«Я понял, что мне нравится космическая тематика, ретрофутуризм, вот эти картинки из журналов старых, фотографии, хроники, ну и начал, вдохновляемый вот этим всем, работать в этом направлении…».
В SW-композициях применяется прием сэмплирования (использование аудиофрагментов из других источников) речей космонавтов, а ретрофутуристические изображения космических ракет и орбитальных станций часто фигурируют на обложках музыкальных релизов исполнителей, в названиях песен присутствуют отсылки к космической тематике: «Новая планета», «К звездам», «Энергия», «Буран», «Быстрая стыковка», «Тау Кита», «Sputnik-2» и др. Это характерно и для зарубежной современной экспериментальной электроники, что свидетельствует о глокализованной сути феномена SW. Примером ностальгической космической линии в SW является творчество группы Kirov Reporting. Они стремятся воссоздать несуществующие воспоминания о Советском Союзе в особой форме: путем развития фантастической истории, сюжетно дополняющей содержание песен, выраженной в форме вымышленных архивных документов, созданных авторами при помощи графических редакторов. По заявлению самих авторов, «изначально был упор — рассказ таинственной истории с вкраплениями реальных фраз из радио, речей, кинофильмов, мне все это всегда нравилось…». Они отмечают, что стараются таким образом выделиться на фоне других исполнителей жанра, создавая вокруг своего творчества фантастическую реальность, действия которой якобы разворачиваются во времена советской программы по освоению космоса:
«Архивные документы — это довольно кропотливая история… Хочется мокьюментари, жанра псевдодокументалистики».
Уровень аутентичности документов, по утверждениям создателей Kirov Reporing, иногда доходит до применения средств полиграфии, аналогичных воссоздаваемой эпохе:
«Мы специально купили матричный принтер тех лет, бумагу тех лет… Есть документы, которые печатают на машинке. Соответственно, есть печатная машинка, на которой мы все тексты набираем… То, что так или иначе видно на картинках — это реальные вещи, реально напечатанные, реально отсканированные».
Авторы связали свой первый альбом с идеей разных вех истории советского космического проекта — «Луна-3», «Восток-1», а второй альбом выстроен вокруг сюжета с засекреченными переговорами, ведущимися в космосе, и включает контекст военной космонавтики. Музыка в жанре SW выступает в качестве дополнения, еще одного источника погружения слушателей в воображаемую действительность СССР [Абрамов, 2013], причем, в случае Kirov Reporting, эта действительность кропотливо воссоздается при помощи взаимодействия с архивными документами той эпохи и построения альтернативной истории.
Cвязь современной музыки с музыкой из прошедших эпох способствует формированию эрзац-ностальгии. Авторы могут прибегать к воссозданию характерного «звучания» прошлого — использовать инструменты, которые применялись музыкантами в прошлом, пытаться воссоздавать звук, который можно было соотнести со звуком композиций, записанных в предыдущие эпохи, с учетом ограничений, которые накладывала звукозаписывающая аппаратура того времени, добиваться «состаренного звучания», что отмечалось Т. Пинчем и Д. Райнеке в их изучении ретропрактик в электронной музыке с опорой на STS [Pinch, Reinecke, 2009]. Для слушателя открывается возможность построения ассоциаций с музыкой прошедших лет, он начинает узнавать в современных композициях мотивы прошлого. Речь идет не о копировании или подражании (хотя, безусловно, создание музыки с ориентиром на композиции определенного временного периода подразумевает мимикрию), но о том, что современные композиции способны вызывать ностальгические чувства, отсылая слушателя к музыке из другого времени, напоминая о ней, но оставаясь в актуальном звуковом контексте.
SW может являться источником для личных и коллективных воспоминаний в двух аспектах [Van Dijck, 2007]. Во-первых, с точки зрения написания подобной музыки: по отзывам авторов музыки в жанре SW, для них в детстве представляла интерес эстрадная песня позднесоветской эпохи, мотивы которой нередко выступают в качестве источника вдохновения.
«С самого детства слушал то, что родители слушали еще на кассетах. А там разброс по жанрам и по музыке был очень большой. Начиная от “Любэ” и российской попсы того времени и конца восьмидесятых — “Модерн токинг”, “Сиси кэтч” или “Бэд бойз блю”».
Популярная музыка внесла свой вклад в формирование музыкальных предпочтений авторов SW, возможно, не на осознанном уровне, но оказала влияние на то, какой станет впоследствии их музыка, на что они будут ориентироваться при создании своих собственных композиций. Процесс сочинения, при котором автор ориентируется на музыку прошлого, также является актом воспоминания, который накладывает определенный отпечаток на SW-музыку.
«Мне всегда хочется какой-то аутентичности. Например, я вырезал звуки барабанов из какой-то (90 % по крайней мере) советской попсы. Где-то, может быть, на каком-то уровне, в глубине души кто-то где-то услышал, но точно знаю, что это советский звук».
Советская музыка 1970–1980-х годов, как и «попса» первой половины 1990-х годов (хотя значительно реже), не только выступает в качестве источника вдохновения, но и непосредственно используется для создания композиций — авторы заимствуют какие-то части композиций из прошлого, чтобы добиваться «эффекта подлинности» в звучании своих песен: авторы используют те же инструменты для написания музыки, что и в то время, кроме того, они стремятся передать атмосферу эпохи, ориентируясь на музыку, которую делали в Советском Союзе.
«Это прикольно, для самого меня такой своеобразный вызов — что получится, если работать на тех инструментах, которыми были ограничены музыканты в то время — Зацепин, Артемьев, Курехин?».
Эрзац-ностальгия, создаваемая такими композициями, опирается на узнаваемое звучание 1970–1980-х годов: активное использование аутентичных синтезаторов, драм-машин, что в конечном итоге рождает некоторое сходство между советскими песнями и песнями жанра SW, а также выступает в качестве основы, с помощью которой коллективно сконструированные значения переносятся в индивидуальную память — опыт прослушивания старых композиций сочетается с опытом прослушивания SW.
Поскольку опыт прослушивания музыки — это прежде всего аудиальный опыт, обратимся к техническим особенностям звучания SW, чтобы выявить, каким образом этой музыке удается создавать основу для ностальгических переживаний слушателей. Для жанра SW характерно обращение к использованию винтажного оборудования: во многих интервью авторы ссылаются на применение аналоговых синтезаторов для аутентичного звучания, хотя музыканты признают взаимозаменяемость аналоговых синтезаторов их цифровыми эмуляторами, поскольку зачастую это более удобно для написания музыки.
Пинч и Райнек в исследовании феномена «техноностальгии» обнаружили, что музыканты вполне готовы использовать современный программный синтезатор, когда возникает потребность в живом исполнении или записи. Для большинства аналоговых синтезаторов существуют цифровые эмуляции, которые позволяют добиться аутентичного звучания при помощи одного лишь компьютера, без необходимости приобретать отдельный аналоговый синтезатор [Pinch, Reinecke, 2009]. Эти программные синтезаторы имитируют звук более старых аналоговых синтезаторов, таким образом предоставляя звучание из прошлого в более удобном для музыканта формате.
Музыканты говорят об удобстве в использовании плагинов — цифровых элементов программ для написания музыки, но также отмечают существование «двух лагерей» среди культуры SW: приверженцев отказа от использования цифровых устройств и тех, кто работает с современными программными плагинами. Музыканты, которые работают с аналоговыми синтезаторами, указывают на сложности их использования:
«Использование аналогового оборудования усложняет процесс записи. Конечно, сказываются возраст техники и ее технические несовершенства. У синтезаторов плывет строй. На всех синтезаторах все партии приходится играть руками. Два ключевых момента приходят в голову: сложность исполнения и сложность работы с техникой, поддержание ее в нужном состоянии. С железом работать сложнее, чем с виртуальными или более современными инструментами, но в этом и есть прикол».
Несмотря на сложность обращения с такой техникой, она дает музыкантам особые ощущения материальности — наличие физических регуляторов и проводов, используемых для подключения различных звуков [ibid.]. Взаимодействие исполнителя и инструмента, раскрывающееся в тактильности, привносит новые грани в так называемую техноностальгию — музыкант буквально прикасается к артефакту из прошлой эпохи [ibid.]. Авторы описывают очень специфические виды звуков, часто свойственные одному инструменту (или, точнее, одной части инструмента, называемой «sweet spot», формирующей узнаваемое звучание), поиском которого занимаются музыканты. Синтезаторы, спроектированные и выпускаемые в Советском Союзе, тоже имеют узнаваемые тембры, что отмечают участники этих музыкальных коллективов:
«Я работаю на советских аналоговых синтезаторах, и я думаю, что их технические возможности определяют создание этой атмосферы, и те звуки, те тембры, которые могут выдать эти синтезаторы у многих, вероятно, ассоциируются с той эпохой — с научной фантастикой, с “Тайной третьей планеты”. И, я думаю, во многом звучание самих инструментов определяет настроение».
Обращение к этим инструментам при написании музыки сегодня позволяет как возвращать слушателя к звучанию советских композиций, так и формировать узнаваемый образ советского наследия, которое отражается в SW. В интервью музыканты указывали на ассоциативную связь между звучанием инструментов и советской эпохой — в качестве примера приводятся саундтреки научно-фантастических фильмов и советская популярная музыка, что и порождает ностальгический аффект у воспринимающей стороны.
«Техноностальгия» в отношении винтажного оборудования не обязательно означает возвращение в конкретное прошлое — напротив, для музыкантов, с которыми мы общались, «техноностальгия» — это движение как к новым звукам, так и к новым ощущениям: слуховым, социальным или физическим, воплощенным с помощью комбинаций прошлого и настоящего.
Также стоит обратить внимание на целостный подход ко всем сторонам работы с материалом: названия групп («Протон-4», «Маяк», «Импульс-80», «Артек Электроника», «Проект Заря», «Луч» и др.) и визуальное оформление релизов являются одним из способов конструирования сцены музыкальной ностальгии, позволяя еще до прослушивания композиции вызвать у аудитории ассоциации с культурой советской эпохи.
Если попытаться описать образы, реконструирующие советскую эстетику на обложках музыкальных релизов исполнителей SW, то это будет ассоциативный пастиш из различных элементов того, что можно назвать стилем позднесоветской поп-культуры: заимствование советской стилистики оформления плакатов, шрифтов, обращение к символике советского государства, активное использование пленочной фотографии, зачастую со снимками советской действительности, визуальные образы, объединенные космической тематикой, — все это можно назвать «прекрасным далеким», семиотическими реминисценциями позднесоветского ностальгического мифа. Имитация временных изменений, которые отражаются на физических носителях, но воссоздаются авторами обложек: потертости, искажения, «выгорание» изображений. К. Чернова так описывает визуальные образы, используемые SW-исполнителями: «панельные дома и микрорайоны, дворы и старые детские площадки, черно-белые фотографии в овальных рамках, залитые солнцем набережные, заброшенные беседки, а названия групп выполнены леттерингом, напоминающим советские вывески» [Чернова, 2019].
Кроме того, сами названия, выбранные SW-исполнителями, содержат множество отсылок к технологическим артефактам из советского прошлого: «Юность-212», «Электроника-302», «УРАН-08», «Индустар», «СКМ-90», «RITM-2», «Протон-4», «Импульс-80». Аудитория как будто бы переносится к витрине винтажного магазина или же на блошиный рынок, на котором можно встретить артефакты радиотехники времен Советского Союза. Это своеобразная отличительная черта жанра SW, позволяющая почти наверняка отнести незнакомого исполнителя к направлению «советской волны».
Обращаясь к классификации сцен, предложенной Р. Петерсоном и А. Беннеттом [Bennett, Peterson, 2004], выделяющих локальные, транслокальные и виртуальные типы сцен, на наш взгляд, сцену музыкальной ностальгии сообщества «#sovietwave» (более 22 тысяч участников) во ВКонтакте можно относить к виртуальным сценам: ее участники разделены географически, кроме того, можно считать, что сцена конструируется через взаимодействие участников в сети Интернет. В интервью музыканты упоминали о сложности проведения концертов со своими проектами: они ссылались на ограничения, которые накладывает их способ сочинять и исполнять музыку, — как правило, у проекта один автор, в некоторых исключениях можно встретить музыкальную группу: это рождает особенности для воспроизведения композиций в формате «живого» выступления.
«У меня ряд причин, почему я не выступаю. Банально — я не хочу таскать 70-ю “Юность” за собой, она килограмм 30–40 весит».
Причины отказа от концертной деятельности могут быть разные: трудности в транспортировке инструментов, отсутствие навыков «живого» исполнения своих песен. Стоит отметить, что часть авторов музыки в жанре SW все же организует свои выступления, кроме того, сами администраторы сообщества «#sovietwave» организовали несколько музыкальных фестивалей, в рамках которых на одной площадке собирались представители этого музыкального направления. Речь идет о фестивалях «Волна-1», «Волна-2», а также «Полет-1», которые были проведены в 2018 и 2019 годах, где участвовали основные группы этого жанра. Если оценивать посещаемость фестивалей, исходя из данных соответствующих сообществ ВКонтакте, то можно говорить, что их посещало до 300 человек.
«Большинство SW артистов не выступают. Вообще. Элементарно, один человек, когда с компом выходит — это больше диджей сет, а не концерт».
В таком случае, при наличии событий, соединяющих участников сообщества не только в формате интернет-общения, мы можем утверждать, что данная музыкальная сцена также демонстрирует элементы транслокальности, соединяя поклонников определенного музыкального жанра в одном месте. Беннетт и Петерсон, описывая характерные черты транслокальных сцен, упоминают взаимодействие аналогичных локальных сцен друг с другом в разных местах, а также трансрегионализм как предпосылку глобализации сцены SW [Bennet, Peterson, 2004].
* * *
Прошлое является значимым источником вдохновения для современной культуры, пускающей в творческую переработку находки былого. Это происходит в кинематографе, где выпускаются бесконечные реплики старых блокбастеров, это можно наблюдать в моде, дизайне, музыке. Однако пример SW несколько иной. Она является примером эрзац-ностальгии — поверхностной рецепции элементов позднесоветской популярной культуры с позитивными эмоциональными обертонами в отношении «светлого прошлого». Это включает ориентации на звучание композиций прошлого, использование аутентичных инструментов, искусственное «состаривание» звука, воссоздание эстетики прошлого в аудио- и визуальных формах. С этой позиции сцена SW укладывается в глобальный тренд ностальгизации массовой культуры, увлеченно работающей с артефактами прошлых десятилетий. Близко к этому находится и техноностальгия, в которую вовлечены участники SW, активно использующие винтажное музыкальное оборудование в своей работе, сплавляя, таким образом, материальность прошлого с современностью. Важным проявлением феномена SW как сообщества и субкультуры является стремление соединить вместе элементы игровой музеефикации эстетики позднесоветской массовой культуры с творческим переосмыслением этого наследия уже с использованием продвинутых приемов современной электронной музыки.
Отдельно нужно отметить высокую плотность связей и коммуникаций внутри сообщества музыкантов и поклонников SW, которые, по сути, создают своего рода культурное гражданство [Delanty, 2002] — целостное сообщество, основанное на общем понимании отдельных элементов культуры, включающих историю, способы обращения с артефактами прошлого и выработку приемов по их включению в актуальный оборот в культурной сфере.
1 Статья опирается на материалы эмпирического исследования — интервью с музыкантами, работающими в жанре SW (всего в течение 2021–2023 годов собрано 15 интервью).
About the authors
Roman N. Abramov
HSE University; Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: rabramov@hse.ru
ORCID iD: 0000-0002-4967-1169
DSc in Sociology, Professor at the School of Sociology of the Faculty of Social Sciences, Leading Research Fellow at the International Laboratory for Social Integration Research; Leading Research Fellow at the Department of Theory and History of Sociology
Russian Federation, 20, Myasnitskaya Str., Moscow 101000; 5/1, Bolshaya Andronevskaya Str., Moscow 109544Alexander V. Voinkov
Email: voinkovsasha@gmail.com
Master of Sociology, independent researcher
Russian FederationReferences
- Абрамов Р.Н. Музеефикация советского. Историческая травма или ностальгия? // Человек. 2013. № 5. С. 99–111.
- Abramov R.N. Muzeefikaciya sovetskogo. Istoricheskaya travma ili nostal’giya? [Museumification of the Soviet. Historical Trauma or Nostalgia]. Chelovek. 2013. N 5. P. 99–111.
- Джеймисон Ф. Постмодернизм или Культурная логика позднего капитализма. М.: Издательство Института Гайдара, 2019.
- Dzheymison F. Postmodernizm ili Kul’turnaya logika pozdnego kapitalizma. [Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism] Moscow: Izdatel’stvo Instituta Gaydara Publ., 2019.
- Рейнольдс С. Ретромания. Поп-культура в плену собственного прошлого. М.: Белое Яблоко, 2015.
- Reynol'ds S. Retromaniya. Pop-kul'tura v plenu sobstvennogo proshlogo. [Retromania. Pop Culture is Trapped in its Own Past]. Moscow: Beloye Yabloko Publ., 2015.
- Самутина Н. Пластиковый остров Утопия: Мультимедийный проект Gorillaz и современная музыкальная культура // Неприкосновенный запас. 2012. № 81(1). С. 171–191.
- Samutina N. Plastikovyy ostrov Utopiya: Mul’timediynyy proyekt Gorillaz i sovremennaya muzykal’naya kul’tura [Plastic Island Utopia: Gorillaz Multimedia Project and Contemporary Musical Culture]. Neprikosnovennyy zapas. 2012. N 81(1). P. 171–191.
- Хохлова Д., Хохлов Н. «Советский Союз не развалился»: ретромания, постирония и ностальгия в российской популярной музыке // Новая критика. Контексты и смыслы российской поп-музыки: сборник статей. М.: ИМИ, 2020. C. 15–25.
- Khokhlova D., Khokhlov N. “Sovetskiy Soyuz ne razvalilsya”: retromaniya, postironiya i nostal’giya v rossiyskoy populyarnoy muzyke [“The Soviet Union Did Not Fall Apart”: Retromania, Postirony and Nostalgia in Russian Popular Music]. Novaya kritika. Konteksty i smysly rossiyskoy pop-muzyki: sbornik statey [Contexts and Meanings of Russian Pop Music: a Collection of Articles]. Moscow: IMI Publ., 2020. P. 26–45.
- Чернова К. Советская волна: ностальгия и практики конструирования утопии // Новая критика. Контексты и смыслы российской поп-музыки: сборник статей. М.: ИМИ, 2020. С. 15–25.
- Chernova K. Sovetskaya volna: nostal’giya i praktiki konstruirovaniya utopii [Soviet Wave: Nostalgia and Practices of Constructing Utopia]. Novaya kritika. Konteksty i smysly rossiyskoy pop-muzyki: sbornik statey. [Contexts and Meanings of Russian Pop Music: Digest of Articles]. Moscow: IMI Publ., 2020. P. 15–25.
- Шевченко Л. Ностальгия в системе базовых оппозиций «добро» и «зло» в автодокументальных произведениях Людмилы Улицкой «Детство 45–53: а завтра будет счастье» и Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд» // Studia Rossica Posnaniensia. 2019. № 1(44). С. 53–62.
- Shevchenko L. Nostal’giya v sisteme bazovykh oppozitsiy “dobro” i “zlo” v avtodokumental’nykh proizvedeniyakh Lyudmily Ulitskoy “Detstvo 45–53: a zavtra budet schast’ye” i Svetlany Aleksiyevich “Vremya sekond khend” [Nostalgia in the System of Basic Oppositions “Good” and “Evil” in the Self-Documentary Works of Lyudmila Ulitskaya “Childhood 45–53: and Tomorrow there Will be Happiness” and Svetlana Aleksievich “Second Hand Time”]. Studia Rossica Posnaniensia. 2019. N 1(44). P. 53–62.
- Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota, 1996.
- Bennett A., Peterson R. Introducing Music Scenes. Music Scenes: Local, Translocal and Virtual. A. Bennett, R.A. Peterson (eds.). Nashville: Vanderbilt University Press, 2004. P. 1–16.
- Delanty G. Two Conceptions of Cultural Citizenship: A Review of Recent Literature on Culture and Citizenship. The Global Review of Ethnopolitics. 2002. N 1. P. 60–66.
- Hennion A. Baroque and rock: Music, mediators and musical taste. Poetics. 1997. Vol. 24, N 6. P. 415–435.
- Higson A. Nostalgia is Not What It Used to Be: Heritage Films, Nostalgia Websites and Contemporary Consumers. Consumption Market and Culture. 2014. Vol. 17, N 2. P. 120–142.
- Misztal B.A. Theories of Social Remembering. Maidenhead, Philadelphia: Open University Press, 2003.
- Pinch T., Reinecke D. Technostalgia: How Old Gear Lives on in New Music. Sound Souvenirs. Audio Technologies, Memory and Cultural Practices. K. Bijsterveld, J. van Dijck (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007. P. 152–169.
- Russo N. Psycherelic Rock. Ersatz Nostalgia for the Sixties and the Evocative Power of Sound in the Retro Rock Music of Tame Impala. Volume! 2014. Vol. 11. P. 162–173.
- van Dijck J. Mediated Memories in the Digital Age. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2007.
- Wolfe A.S., Miller C., O’Donnell H. On the Enduring Popularity of Cream’s “Sunshine of Your Love”: Sonic Synecdoche of the “Psychedelic 60s”. Popular Music. 1999. Vol. 18, N 2. P. 259–276.