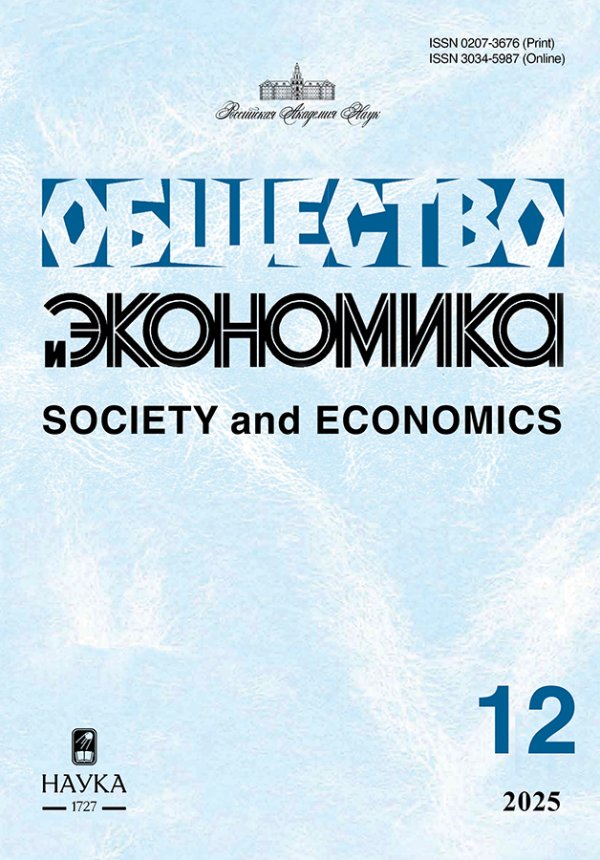Задачи стабилизации действующих пенсионных систем и основные векторы реформ в практике зарубежных стран
- Авторы: Шестакова Е.1
-
Учреждения:
- ФГБУН Институт экономики РАН
- Выпуск: № 5 (2024)
- Страницы: 45-57
- Раздел: ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0207-3676/article/view/260793
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207367624050045
- ID: 260793
Полный текст
Аннотация
В статье анализируются некоторые общие для разных государств подходы к реформированию пенсионных систем, ориентированные главным образом на повышение их финансовой и социальной устойчивости в среднесрочной перспективе. Основной акцент сделан на вопросах увеличения продолжительности трудовой жизни работающей части населения за счет повышения пенсионного возраста и ограничений возможности раннего выхода на пенсию для определенных категорий занятых и внедрения частных накопительных программ разных типов для решения задачи снижения финансовой нагрузки на государство и повышения ответственности граждан за свое материальное благополучие на пенсии. Рассматриваются различные формы и модели организации частных пенсионных планов, зависящие в значительной степени от структуры рынка труда и национальных традиций, их преимущества и недостатки.
Полный текст
Второе десятилетие ХХI в. возродило дискуссию о приоритетах и инструментах социальной политики. В условиях ускорения автоматизации и цифровизации, декорпортивизации трудовых отношений, изменений демографической структуры занятого населения на первый план стали выдвигаться задачи трансформации модели социально-экономического развития, определения сбалансированного сочетания адресных программ помощи наиболее уязвимым слоям и создания эффективных социальных лифтов, формирования самостоятельных жизненных стратегий, учета интересов «среднего класса» [12]. В такой сложной сфере социальной политики, как материальное обеспечение пожилой части общества после пандемии, фокус научных и общественных обсуждений вновь сконцентрировался на вопросах финансовой и социальной стабильности пенсионного обеспечения.
Общие критерии и индикаторы стабильности пенсионных систем. Существуют различные подходы к определению стабильности и надежности пенсионных систем. Помимо чисто экономико-математических методов, актуарных оценок текущей и прогнозной стоимости систем пенсионного обеспечения, в экономической литературе анализируется большое число различных внутренних и внешних факторов, в разной мере влияющих на развитие и устойчивость пенсионных систем: преимущественно распределительные или накопительные методы финансирования, индивидуальный или коллективный порядок учета пенсионных прав, роль государства в регулировании и обеспечении функционирования пенсионных структур. Так, ряд экспертов в данной области рассматривают проблему устойчивости в большей степени как политическую, а не экономическую задачу, прежде всего в отношении составляющих большую часть систем государственного пенсионного обеспечения распределительных схем [14]. С этих позиций в распределительных системах, основанных главным образом на страховых взносах с фонда заработной платы работающих, стабильность должна быть по определению гарантирована государством за счет бюджетных субсидий или использования ранее сформированных пенсионных резервов. Кроме того, в пенсионных системах распределительного типа профицит или дефицит фондов зависит от установленных размеров страховых взносов, пенсионных выплат и их индексации, которые регулируются государством, а также соотношения плательщиков взносов и получателей пенсий.
Широкое распространение в литературе, посвященной пенсионной теме, получили оценки устойчивости действующих пенсионных систем в соответствии с их текущими и будущими обязательствами, в том числе на основе сохранения доли пенсионных расходов в ВВП стран [6], соотношения схем с установленными взносами, выплатами и гибридных планов [2], величины «скрытого» долга, т. е. объема уже накопленных обязательств перед будущими пенсионерами [8]. Каждая из этих оценок характеризует какой-то аспект пенсионной системы, в том числе и с позиций ее устойчивости.
Доля общественных расходов на пенсии (государственных средств и взносов по обязательному социальному страхованию) в среднем в странах ОЭСР составляет 7,7% ВВП, колеблясь в пределах от 13,4—15,7% ВВП (соответственно Франция и Греция) до 2,9—3,3% (Корея, Мексика, Чили, Исландия и Ирландия) [10. Р. 211]. В других группах стран соответствующие показатели в основном фиксируются в более узком диапазоне, от 4—5% ВВП (КНР, Малайзия, Египет, Вьетнам) до 1—1,5% (Таиланд, Индонезия, Индия). Средний уровень годового дефицита действующих государственных пенсионных систем в европейских странах, по которым есть обширная статистическая информация, составляет около 2,5% ВВП, достигая максимальных значений 5—8% ВВП в «щедрых» распределительных системах Греции, Франции и Италии, а средний размер накопленного за 2000—2020 гг. дефицита систем обязательного пенсионного страхования, по оценкам, фиксируется на уровне около 50% ВВП, увеличиваясь в отдельных случаях до 80—100% ВВП [5. Р. 52—53].
У государств со средним и ниже среднего уровнями развития, пенсионные системы которых находятся на начальных этапах жизненного цикла, размеры накопленных обязательств, как правило. небольшие, в то же время на величину текущих государственных расходов на пенсии пожилым влияет принятая модель пенсионного обеспечения. Так, в Бразилии при относительно молодом населении расходы на пенсионное обеспечение достигают 11% ВВП страны, а годовой дефицит системы колеблется в пределах 3% ВВП [3. Р. 75], что принципиально отличается от показателей размеров общественных расходов большинства других латиноамериканских стран (близкие показатели дефицита пенсионной системы по отношению к ВВП отмечались только в Чили на фоне системного перехода к накопительной пенсионной системе). Такие высокие показатели расходов в самой большой латиноамериканской стране объясняются действием, наряду с традиционной распределительной системой пенсионного страхования, широкой по охвату схемы выплаты нестраховых пенсий в размере минимальной заработной платы для пожилых граждан с низкими доходами.
Среди дополнительных параметров оценки стабильности фигурируют и такие небесспорные для этих целей показатели, как размеры страховых взносов социальных партнеров в обязательные страховые системы и коэффициенты замещения пенсией трудовых доходов работников (брутто, нетто, средний, агрегированный). В наиболее щедрых пенсионных системах уровень замещения (брутто) составляет 75—80% от заработной платы работника со средними трудовыми доходами и необходимым страховым стажем, в более ограниченных — 30—35%. Высокий уровень замещения в большей степени характеризует адекватность пенсионных систем с точки зрения обеспечения уровня жизни пенсионеров (сохранения привычного уровня потребления), и то не во всех случаях (например, в Индии коэффициент замещения составляет 55% заработной платы, но получают какой-либо вид пенсии около 43% лиц пенсионного возраста), при оценке стабильности данный высокий параметр рассматривается скорее как негативный фактор.
Определенные сомнения возникают и в отношении оценки размеров страховых взносов социальных партнеров как показателя устойчивости системы. Размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в большой группе стран с разными уровнями экономического развития составляет 20—25% фонда оплаты труда работников и более (включая ряд европейских и латиноамериканских стран), на другом конце государства, где размеры взносов не превышают 5—10%, но могут дополняться добровольными профессиональными и индивидуальными схемами. Высокий размер страховых взносов теоретически должен способствовать увеличению доходов пенсионной системы, но одновременно повышает нагрузку на социальных партнеров, особенно работодателей, и способствует уходу части бизнеса в тень.
Вопрос стабильности пенсионных систем в современной интерпретации не ограничивается только чисто финансовыми аспектами и включает в себя широкий комплекс инструментов и социально-экономических показателей, которые не заменяют, а дополняют различные модели количественных оценок. Среди косвенных индикаторов устойчивости пенсионных систем, особенно относящихся к категории распределительных, широко используются показатели соотношения лиц в возрасте 65 лет и старше по отношению к трудоспособному населению или неработающих пенсионеров к занятому и участвующему в страховании населению; доли занятых в экономике лиц разных возрастных групп, показатели соотношения для условного среднего работника времени занятости и нахождения на пенсии.
В международных интегральных показателях оценки пенсионных систем, например в Глобальном пенсионном индексе группы Альянс (Allianz Global Pension Index), рассматриваются две основные группы параметров устойчивости: 1) базовые условия (официальный и эффективный пенсионный возраст и необходимый минимальный период страхования) и 2) финансовые показатели (используемые в странах методы финансирования, размеры страховых взносов, а также пенсионная формула, в том числе величина штрафов при раннем выходе на пенсию и наличие факторов стабилизации при расчете пенсий). Согласно расчетам данного субиндекса для 48 государств с разным уровнем экономического развития, наиболее высокие показатели получили ряд государств Северной Европы (Дания, Нидерланды, Норвегия), Новая Зеландия, из развивающихся государств — Индонезия (в которой пенсионный возраст повышается до 65 лет и намечено постепенное увеличение пенсионных взносов, которые в настоящее время находятся ниже 10% заработной платы) [13]. Представителей данной группы отличает относительно невысокий уровень общественных расходов на пенсии, высокий официальный и эффективный пенсионный возраст и существование, наряду с государственными схемами, обширного сектора частного, как правило, накопительного страхования.
Основные векторы пенсионных реформ. Одними из общих направлений реформ, нацеленных на стабилизацию пенсионных систем в среднесрочной перспективе, особенно в государствах, которые уже столкнулись с проблемой старения населения, являются увеличение как административными, так и экономическими методами периода занятости и унификация условий пенсионных схем для разных секторов экономики. В группе экономически развитых стран есть примеры как автоматической корректировки официального пенсионного возраста, в зависимости от увеличения продолжительности жизни лиц старших возрастов, так и постепенного повышения до 70 и более лет так называемого нормального пенсионного возраста, т.е. возраста, при достижении которого обеспечивается получение причитающихся пенсионных выплат в полном объеме, без каких-либо вычетов.
В других — пенсионный возраст сохраняется на уровне 65 лет, но повышаются требования к длительности страхового стажа и ограничиваются возможности раннего выхода на пенсию с целью поднятия так называемого эффективного пенсионного возраста (среднего возраста ухода с рынка труда). Например, во Франции необходимый период для получения полной пенсии повышается с 42 до 43 лет, запланирована постепенная ликвидация специальных пенсионных программ (режимов) для предприятий энергетического сектора страны, транспорта, нотариусов, которые предусматривали возможность раннего выхода на пенсию, по сравнению с общим режимом. Предполагается, что определенный косвенный эффект на повышение пенсионного возраста оказывает и введение в странах условно накопительных счетов и балльных схем расчета пенсий.
Увеличивается официальный пенсионный возраст и параметры необходимого страхового стажа и в государствах со средним уровнем развития, что несет в себе определенные риски замедления процессов развития страхования, особенно для развивающихся рынков, где доминирует неформальный сектор. Сложность здесь состоит в том, что многие пожилые не смогут отвечать необходимым условиям для получения нормальной страховой пенсии и смогут рассчитывать только на благотворительность государства или родственные связи.
В ОЭСР в возрастной группе 55—64 года в среднем занято около 65%, 65—69 лет — около 25%, но в государствах с менее щедрыми системами государственного пенсионного обеспечения, например в Японии, Корее, Новой Зеландии, Исландии, эти показатели составляют соответственно 3/4 и 1/2 от данных возрастных категорий [10. Р. 27]. Пожилые работники практически повсеместно сталкиваются с целым комплексом проблем: сложностью сохранить хорошее рабочее место, риском не заработать нормальную пенсию в силу нестабильности трудовой карьеры, распространенностью возрастной дискриминации. Кроме того, каждый пятый работник в возрасте от 50 до 64 лет в европейских странах уходит с рынка труда по причине значительного ухудшения состояния здоровья. С другой стороны, с высокой долей вероятности можно предполагать, что профилактические меры, улучшение системы здравоохранения, включение возрастных работников в программы переподготовки могут увеличить длительность здоровой жизни населения и позволят работникам дольше оставаться на рынке труда. Кроме того, пересматриваются параметры пожилого возраста, есть точка зрения, что современные 60-летние работники в большей степени соответствуют 50-летним несколько десятилетий назад [15], внедряется понятие многостадийной трудовой жизни (вместо традиционных 3 стадий) [16].
Меняется подход и в отношении пенсионного обеспечения лиц, занятых на вредных и опасных работах. Традиционным способом привлечения и закрепления работников в данных сферах было предоставление им права досрочного выхода на пенсию или на основе особых схем, или через специальные правила в рамках общих систем. В настоящее время стандартный аргумент для раннего выхода на пенсию, связанный с невозможностью продолжать карьеру на определенном рабочем месте, теряет свою актуальность. В теории работа в опасных и вредных условиях должна лучше оплачиваться, но на практике неблагоприятные условия работы не обязательно компенсируются более высокими заработками и для многих работников ограничена возможность выбора рабочих мест.
На современном этапе сформировался ряд принципиально разных подходов к вопросам пенсионного обеспечения лиц, занятых на вредных и опасных производствах или видах деятельности, как и к самой трактовке этих понятий. В целом ряде стран, например в государствах Южной Европы и Австрии, в группу опасных и неблагоприятных видов деятельности, дающих право на досрочный уход на пенсию, включается их широкая номенклатура. Тем не менее во многих случаях прослеживается переход от рассмотрения в качестве опасных для здоровья не секторов и профессий, а определенных рабочих мест. В другой группе государств (например, Корее, Японии, Германии) к этой категории относится ограниченное число рабочих мест, в Канаде и США право на ранний уход на пенсию получают только отдельные категории госслужащих, прежде всего полиция, пожарные, военнослужащие. И, наконец, в значительном числе стран, в том числе, например, в Швеции и Великобритании, такая практика вообще отсутствует. Поэтому доля работников, включенных в данные схемы, варьирует от менее чем 1% занятых до 10% и более, во Франции и Италии, входящих в первую группу, она составляет 4—5% [10. Р. 109]. А возраст выхода на пенсию может сокращаться от 1 года до 5—10 лет.
По мнению ряда западных экспертов, хотя нельзя отрицать существование различий в продолжительности жизни и особенно здоровой жизни между разными профессиональными группами работников, но большая их часть связана с образованием, доходами, образом жизни и привычками, влияние фактора профессии на смертность и заболеваемость достаточно ограниченно [19]. Поскольку отсутствие возможности работать на определенных рабочих местах, согласно современным представлениям, не должно ассоциироваться с ранними пенсиями, то ставятся задачи предупреждения профессиональных заболеваний, увеличения объема межпрофессиональной мобильности и облегчения условий перевода пенсионных прав между видами деятельности, включая и госслужащих. Одним из возможных способов раннего выхода на пенсию может быть и использование схем дополнительного пенсионного страхования.
Возможности и препятствия использования накопительных схем. Кроме реформ, направленных на корректировку, в том числе и автоматическую, отдельных параметров действующих государственных распределительных систем, прежде всего возраста и стажа страхования, дающих право на пенсионное обеспечение, сохраняется и курс на поддержку диверсификации источников пенсионных выплат, расширение использования коллективного и индивидуального накопления. Идеи необходимости расширения накопительных пенсионных схем (как реальных, так и условных) основываются на представлениях, что дизайн систем с установленными выплатами и значительными объемами перераспределения предусматривает несправедливые трансферты между поколениями и отсутствие прозрачности в их работе. А механизм определения пенсий, в зависимости от размеров взносов и ожидаемой отдачи от них, более нейтрален с актуарной точки зрения, чем определение пенсий в процентах от заработной платы, и в принципе не предполагает перераспределения между разными поколениями работников [4]. Хотя практика подтверждает это далеко не во всех случаях. Например, использование условно накопительных счетов (NDC), на которые возлагались большие надежды как на инструменты стимулирования более активного участия в пенсионном страховании работников в таких странах, как Польша, Латвия и Казахстан, не привели к существенному повышению уровня пенсионного обеспечения и стабильности систем. В Польше коэффициент замещения пенсией трудовых доходов работника с 45-летнем стажем составил 39%, для женщин при 40-летнем стаже — 34% [18].
Основные различия между распределительными и накопительными системами и схемами с установленными выплатами, которые в основном характерны для распределительных систем, и установленными взносами, относящимися к накопительным1, вытекают из типа характерных для данных систем рисков и их распределения между работодателями, работниками, спонсорами планов, правительствами. Любое изменение пенсионной системы затрагивает структуру перераспределения рисков, меняет баланс рисков между участниками и поколениями работающих. В силу фискальных ограничений и существования большого числа различных необходимых направлений расходов государство заинтересовано в снижении пенсионных расходов и минимизации рисков, связанных с функционированием пенсионных систем, получении возможности перенаправить налоги на финансирование других общественных нужд. Государство не обязательно заинтересовано исключительно в накопительных схемах, это могут быть и традиционные распределительные системы со значительными резервными фондами и хорошо отлаженными системами сбора страховых взносов. Доля страховых взносов социальных партнеров в финансировании пенсионного обеспечения среди экономически развитых государств превышает 90% в ряде стран Восточной Европы, высокие показатели до 75—80% в Скандинавских государствах, Испании и Италии, существенно ниже средних показателей эта доля в государствах со значительным уровнем базовых пенсий, финансируемых за счет налогов, и странах с наиболее высокими государственными расходами на пенсионное обеспечение (Греция) [5. Р. 47].
Работники, в свою очередь, заинтересованы в сохранении стандартов жизни в пожилом возрасте при действующих пенсионных схемах и снижении вероятности попадания в категорию бедных. С этих позиций риск перехода на накопительные схемы преобразуется в группу рисков для семьи, таких как карьерные и рыночные риски, асимметрия информации, риск долгой жизни. В такой ситуации работники вправе рассчитывать на определенные льготы от государства при изменении пенсионной системы: минимальные гарантии, государственное субсидирование индивидуальных накоплений, систему социальной помощи. При этом ожидания в отношении снижения размеров данных рисков могут быть неодинаковыми у разных групп населения. Высокодоходные слои обычно располагают разными источниками активов и накоплений, кроме пенсионных схем, а для низко- и среднедоходных групп основным источником средств после ухода с рынка труда становится пенсия.
Для успешного функционирования накопительных пенсионных систем требуется не только наличие четко отлаженного правового поля, но и определенный уровень развития финансовой инфраструктуры, активная информационная поддержка и разъяснительная работа по вопросам инвестирования пенсионных накоплений. Не менее важно сохранение в определенных масштабах элементов перераспределения и нестрахового финансирования части материального обеспечения пожилых граждан. Н. Барр и П. Даймонд, в частности, доказывают, что даже в экономически развитых государствах, с хорошо функционирующими финансовыми рынками для формирования социально приемлемого пенсионного обеспечения необходим значительный по объему сегмент пенсионного обеспечения, не относящийся к категории накопительных (капитализированных) [1]. В свою очередь, И. Вулф отмечает, что переход к пенсионным системам со значительными накопительными компонентами более выгоден для работников с высокими доходами, чем для менее обеспеченных категорий занятого населения. При переходе к накопительным системам в ряде латиноамериканских государств, например, отмечалось существенное снижение охвата работающих пенсионными программами, несоблюдение сроков уплаты и рост задолженности по взносам, низкая конкуренция между управляющими компаниями пенсионных фондов и др. [9].
В отношении такой характеристики пенсионной системы, как разделение на государственное и частное пенсионное страхование, также возникает ряд непростых моментов. Государственные пенсионные программы управляются государственными структурами (центральными, региональными или местными правительствами или институтами социального обеспечения) на основании законодательных актов и действуют в основном на принципах распределения, хотя есть и примеры частичного фондирования данных пенсионных средств.
Термин «частный план» включает по меньшей мере несколько различных аспектов, которые, как правило, рассматриваются в комплексе: охватывает работников частного сектора (но в ряде стран они включают и работников государственного); управляется частными организациями; потоки пенсионных взносов и выплачиваемых пенсий непосредственно не контролируются правительством; пользуется возможностями более широкого инвестирования в объекты частного сектора; обязательства по выполнению условий лежат на институтах и субъектах частного сектора: работодателях, финансовых компаниях, трастах и др. Частные пенсионные планы могут как дополнять, так и заменять государственные планы. В ряде стран бухгалтерский учет пенсионных средств осуществляет специальное государственное агентство, а управление активами — частная финансовая компания или фонд, и участники могут выбирать между разными пенсионными структурами. Есть примеры, когда планы управляются частными структурами, но государство предоставляет участникам гарантии минимальной доходности вложений. В этих случаях жесткие границы между государственными и частными системами размываются.
Наиболее значительные потоки частных пенсионных средств, составляющие 5,3—5,5% ВВП, характерны для государств англо-саксонской группы, в том числе, например, Канады, а также для Нидерландов и Швейцарии, а средний уровень выплат из частных схем находится в пределах 1,5% ВВП. Частное пенсионное обеспечение является обязательным или достигает почти универсального охвата на основе договоров социальных партнеров (является квазиобязательным) в менее чем 1/3 стран ОЭСР. В других действуют добровольные программы как с высоким (до 40% взрослого населения, например, в Японии, Германии, ряде государств Восточной Европы), так и относительно небольшим участием (5—10% населения). В качестве меры стимулирования работников присоединяться к профессиональным схемам в ряде государств с разной степенью успеха применяются меры «мягкого принуждения», автоподключения работников к профессиональным планам работодателей с возможностью выхода из данных планов. Пока такие схемы действуют в 6 государствах, последней стала в 2023 г. Словакия. В одних случаях фиксируется высокий уровень участия в таких общенациональных программах, до 75—80% работающих (Новая Зеландия и Литва), в других более чем скромные результаты — 13—15% и высокий процент выхода из схем (Италия, Турция). Автоматическое подключение к программам на уровне фирм действует в Канаде и США, в Германии такого рода программы предусмотрены при формировании относительно новых для страны профессиональных программ с установленными взносами.
Частные пенсии в структуре общих расходов на пенсионное обеспечение в экономически развитых государствах в среднем составляют около 21%, а максимальные показатели могут достигать 50—60% (Исландия, Канада, Нидерланды, Великобритания). Ответственность за уплату страховых взносов возлагается на работников (Чили, Перу, Казахстан, Румыния), работодателей (Австралия, Корея, Норвегия) или одновременно на обоих социальных партнеров (Швейцария), а сам размер взносов фиксируется на разных уровнях от 10—15%, в том числе в ряде развивающихся государств, где страхованием охвачена незначительная часть работающего населения, до 2% (Норвегия). Кроме того, взносы в частные схемы могут варьировать в зависимости от возраста участника, дохода или сектора, в котором он занят (государственный или частный сектор в Мексике).
Международная практика выработала различные формы и модели организации частных накопительных планов. Дополнительное пенсионное обеспечение может проводиться как непосредственно действующими финансовыми организациями (банками, обществами взаимного страхования, страховыми компаниями), так и специализированными пенсионными структурами: пенсионными и отраслевыми фондами (как в случае голландских некоммерческих пенсионных фондов или независимых отраслевых фондов Австрии) или специальными управляющими компаниями по управлению сегрегированными пулами активов, не обладающих правосубъектностью и дееспособностью (Чили, Мексика, Чехия).
Основные тенденции развития профессиональных и индивидуальных пенсионных планов. Важным направлением анализа дополнительного пенсионного обеспечения является разделение пенсионных планов на профессиональные и индивидуальные. Профессиональные пенсионные планы формируются отдельными работодателями или их группами, а также ассоциациями работников (вместе или отдельно с работодателями). План может управляться непосредственно спонсором или независимой структурой (пенсионным фондом, другой финансовой организацией, действующей как пенсионный провайдер). В одних странах профессиональные планы являются обязательными, в других — добровольными для работодателей и работников. Есть примеры добровольного формирования работодателями пенсионных планов, взносы в которые могут замещать по крайней мере часть взносов в планы по системе обязательного страхования. Эти схемы рассматриваются как добровольные, но работодатели должны спонсировать их существование, чтобы снять часть ответственности по обязательным взносам.
В отличие от профессиональных, доступ к персональным пенсионным планам не связан с отношениями занятости, эти планы формируются и управляются пенсионными фондами и другими финансовыми структурами. Сами граждане выбирают организации, к которым обязаны присоединиться, и выплачивают определенные взносы (если это обязательный план, как в Мексике или Чили), или выбирают провайдера пенсионных услуг и участвуют в определении условий договоров. Тем не менее работодатели могут также добровольно (например, при наличии определенных налоговых льгот) делать взносы в данный пенсионный план.
В абсолютном большинстве стран ОЭСР одновременно действуют и профессиональные, и индивидуальные планы в разных модификациях, есть они, хотя, как правило, не в таких масштабах, в государствах с формирующимися рынками и в развивающихся, например в Индии, Индонезии, Бразилии, ЮАР. Работники могут быть участниками разных профессиональных планов в течение трудовой карьеры и одновременно иметь индивидуальные счета у пенсионных провайдеров. В Финляндии и Швейцарии активы профессиональных планов превышают 90% всех активов пенсионных планов, а в Чили, Колумбии, Прибалтийских странах действуют практически только индивидуальные планы. Охват работающего населения добровольными профессиональными пенсионными планами в Германии составляет около 54%, а персональными — около 30%. Во Франции эти показатели достигают соответственно 23 и 12% [11. Р. 15]. Особенностью профессиональных пенсионных схем является наличие периода вестинга (необходимого периода участия в схеме), который в большинстве случаев составляет от года до трех лет (хотя есть и исключения, например, в Дании, Италии, Бельгии), что сильно ограничивает возможности участия в данном виде страхования для работников со срочными и временными контактами.
Степень участия работодателя в накопительных пенсионных планах и их модель в определенной степени зависят от структуры рынка труда. В странах с высоким уровнем неформальной занятости, где большая часть рабочей силы относится к категории самозанятых, не имеющих тесных связей с какими-либо работодателями, формирование профессиональных пенсионных систем не считается рациональным. Наиболее успешно профессиональные пенсионные планы действуют в условиях, когда большая часть занятого населения состоит в формальных трудовых отношениях на условиях полной занятости. Персональные пенсионные планы лучше адаптированы к современным тенденциям на рынке труда, связанным с ростом мобильности и частой сменой работающими статуса наемного работника и самозанятого. Серьезным препятствием для развития частного пенсионного страхования в среднеразвитых государствах выступают нехватка финансовых инструментов, в которые можно инвестировать, недостаток навыков и опыта инвесторов, в целом высокая стоимость функционирования данных систем. Согласно оценкам Д. Валеро, в действующих латиноамериканских планах обязательного индивидуального накопительного пенсионного страхования до четверти взносов не капитализируется, а используется на покрытие административных расходов управляющих пенсионными фондами [17]. Возможные меры противодействия росту административных расходов включают установку верхних лимитов для расходов, введение правил прикрепления новых неопределившихся участников к управляющим компаниям с наиболее низкими комиссионными платежами, создание расчетных центров для снижения расходов работодателей на организацию доставки взносов в разные пенсионные фонды, выбранные работником (налоговые органы в Новой Зеландии, Центральный банк в Мексике, Расчетная палата для мелких работодателей в Австралии, Государственная некоммерческая корпорации (NEST) в Великобритании).
Пока частное пенсионное обеспечение и накопительные схемы играют существенную роль только в ограниченном числе, как правило, относительно богатых стран. Активы накопительных и частных пенсионных планов, по данным на 2022 г., составляли в государствах ОЭСР в среднем 87% их ВВП, а в странах, не входящих в эту группу, в среднем 8,2% ВВП (в том числе, например, в КНР — 2,3%, Индонезии — 1,7%). Самые высокие показатели, превышающие 150% ВВП, фиксируются в государствах с давно действующими обязательными или квазиобязательными профессиональными планами (Дания, Канада, Исландия, Нидерланды, Швейцария).
Несмотря на длительную историю развития различных форм пенсионных накоплений и значительно более высокие доходы населения экономически развитых стран, в сравнении с другими регионами мира, основную долю доходов пенсионеров этих государств составляют трансферты из общественных пенсионных фондов, в среднем по ОЭСР — 80%, на индивидуальные пенсионные счета приходится 15%, на профессиональные пенсии — 5%. Впрочем, пенсионные системы — консервативные структуры и современные реформы, стимулирующие развитие частного страхования, впоследствии могут привести к изменению данного соотношения. В странах с высоким уровнем развития негосударственного пенсионного страхования, например Нидерландах и Великобритании, на профессиональные пенсии приходится соответственно 45 и 36% доходов пенсионеров [7. Р. 10].
С точки зрения коэффициента замещения в государствах, входящих в группу ОЭСР, в которых в основном действуют государственные страховые программы и незначительна роль частного страхования (18 стран), коэффициент замещения пенсией заработной платы составляет в среднем 59%. Там, где одновременно существуют государственное и обязательное частное пенсионное страхование (10 стран), общий коэффициент замещения (государственных и частных программ) снижается до 50%. А в государствах, в которых значительную роль играют программы добровольного страхования, (10 стран), система обязательного страхования обеспечивает работнику со средней заработной платой и полным страховым стажем 37% замещения пенсией трудовых доходов [10. Р. 152].
Кроме различных форм накопительного негосударственного пенсионного обеспечения, 2/3 стран ОЭСР формируют суверенные фонды и резервы государственных пенсионных систем. Активы данных резервных фондов в среднем достигают 12% от суммы их ВВП. Наиболее высокие показатели пенсионных резервов относительно размеров экономик, превышающие 30% ВВП стран, в Корее, Японии, Финляндии и Швеции. Средства резервных фондов могут служить буфером для покрытия текущего временного снижения ликвидности (Германия, Швейцария), смягчения вероятных будущих шоков, связанных с изменением демографической ситуации (Австралия, Корея), или служить инструментом средне- и долгосрочного сглаживания входящих и исходящих потоков денежных средств и обеспечения долгосрочной стабильности (Канада). Реальная доходность инвестиций накопительных пенсионных планов на 20-летнем отрезке времени по странам колебалась от отрицательных значений –1,9 и –1% в Латвии и Чехии до 4,8 и 4% — в Колумбии и Канаде. Реальная доходность вложения средств действующих резервных фондов за тот же промежуток времени была выше и составляла от 0,3% до 6,5—7,2% [10. Р. 227].
***
Процессы реформирования пенсионных систем затрагивают ряд вопросов, связанных с изменением роли государства в сфере пенсионного обеспечения, переносом части рисков с общенационального на коллективный и индивидуальный уровни. Среди этих трансформаций — изменение параметров пенсионного возраста, введение понятий нормального, эффективного, целевого пенсионного возрастов. В группе высокоразвитых государств усиливается тенденция к снижению возможности раннего выхода на пенсию, пересматривается отношение к предоставлению льгот для отдельных категорий работников, в том числе занятых на опасных и вредных работах. Фокус перемещается на вопросы контроля за состоянием здоровья работников на протяжении трудовой жизни, снижения риска возникновения профессиональных заболеваний, проведение политики управления возрастом, в том числе перевода на другие, менее опасные виды работ на более поздних стадиях карьеры, формирование понятия многостадийной занятости. Тенденции повышения формального пенсионного возраста прослеживаются и в других группах государств.
Другим важным направлением повышения устойчивости пенсионных систем, кроме увеличения административными и экономическими методами продолжительности трудовой жизни, является развитие различных форм частного накопительного страхования в дополнение (реже замены) к государственным пенсионным схемам. Для государства преимущества развития накопительного страхования заключаются в более высоком объеме мобилизации инвестиционных ресурсов в экономику и перераспределении части рисков по пенсионному обеспечению с государственного на уровень организаций и индивидов. Но одновременно существуют значительные риски, особенно в государствах со средним и ниже среднего уровнями развития, недостаточного уровня накопления участниками. Страны, которые вводят системы, основанные на частном пенсионном страховании, должны иметь хорошо функционирующие финансовые рынки и взаимное доверие общества и государства. Кроме того, для стимулирования расширения участия используются меры государственной поддержки в форме государственных субсидий, налоговых льгот, государственных гарантий. Значимых размеров выплаты по линии пенсионного накопления для большой части населения достигают только в государствах с высоким уровнем и долей оплаты труда в ВВП и длительными традициями и историей действия пенсионных институтов.
1 В этом плане существует и ряд исключений, например условно накопительные системы, в которых взносы не инвестируются, а накапливаются номинально на индивидуальных счетах, или профессиональные накопительные схемы, в которых размер пенсий определяется в соответствии с принятой общей формулой расчета и напрямую не зависит от уплаченных взносов (используется схема DB).
Об авторах
Елена Шестакова
ФГБУН Институт экономики РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: eeshestakowa@gmail.com
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Россия, г. МоскваСписок литературы
- Barr N., Diamond P. Reforming pensions // International Social Security Review. 2009. V. 62. № 2. P. 5–29.
- Devesa J.E., Devesa M. The cost and actuarial imbalance of pay-as-you go systems: the case of Spain. // Journal of Economic Policy Reform. 2010. V. 13. № 3. P. 259–276.
- Figliony L., Lissovolik B., Galdamez M. Growing pains: Is Latin America prepared for population ageing? // IMF 2018. № 18/05. P. 75.
- Financial incentives and retirement savings. Paris: OECD publishing. 2018. URL: https://doi.org/10.1787/9789264306929-en
- Fouejien A., Kangus A., Martinez S.R., Soto M. Pension reforms in Europa: How far have we come and gone? // IMF. 2021/016. P. 47.
- Gil J., Patxot C. Reformas de la financiacion del sistemas de pensiones // Journal of Applied Economics. 2002. V. X. № 28. P. 63–85.
- Harker R. Pensions: International comparisons // Parliament UK Commons library research. 2022. N CBP0290.
- Holzmann R., Palacios R., Zviniene A. Implicit pension debt: Measurement and scope in international perspective // Social Protection Discussion Paper Series. 2004. № 403. Washington: The World Bank.
- Mesa-Lago C., Valero D. The new wave of pension reforms in Latin America. In Peres-Ortiz M., Alvarez-Garcia, Dominguez-Fabian I., Devolder P.(ed.) Economic challenges of pension systems. A sustainability and international management perspective. 2020. Springer. P. 255–274. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37912-p
- Pension at a glance 2023. OECD and G20 indicators. Paris: OECD Publishing. URL: https://doi.org/10.1787/678055dd-en
- Pension markets in focus. OECD 2023. URL: www.oecd.org/finance/pensionmarketsinfocus.htm
- Raitano M., Ludicone F., Mitchell B. Study on intergenerational fairness. Final Report. VC-2019-0509 Luxembourg: Publication office of the European Union 2021.
- Reforming against the demographic clock. Allianz Global Pension Report 2023. Munich: Allianz. URL: https://www.allianz.com/en/economic research
- Robalino D.A., Bodor A. On the financial sustainability of earning-related pension schemes with “pay-as-you- go” financing and role of government-indexed bonds // Journal of Pension Economics and Finance. 2009. V. 2. № 2. P. 153–187.
- Sanderson W.C., Scherbov S. Prospective longevity. A new vision of population ageing. Harvard University Press. 2019.
- Scott A. Working life-labour supply, ageing and longevity. In Bloom D., Sousa-Ponza A, Sunde U. (ed.) Routledge Handbook on Economics of Ageing. 2021. P. 1–36.
- Valero D. Tendencias en materia de pensiones privadas. El papel de las rentas vitalicias. In Hence J.A. (ed.) Pensiones:una reforma medular. Madrid: Fundacion de Estudios Financieros y Circulo de Empresarios. 2013. P. 175–189.
- Wolf I., Caridad L., DelRio L. Pension reforms and risk sharing cycle: a theory and global experience. // International journal of economics and business administration. 2021. V. IX. Issue I. P. 225–243.
- Zaninotto P., Bulty G.D., Stenholm S., Kawachi L., Hide M. Socioeconomic inequalities in disability-free life expectancy in older people from England and United States: a cross-national population-based study // The Journals of gerontology; series A. 2020. V. 75. Issue 5. P. 906–913. https://doi.org/10.1093/gerona/glz266