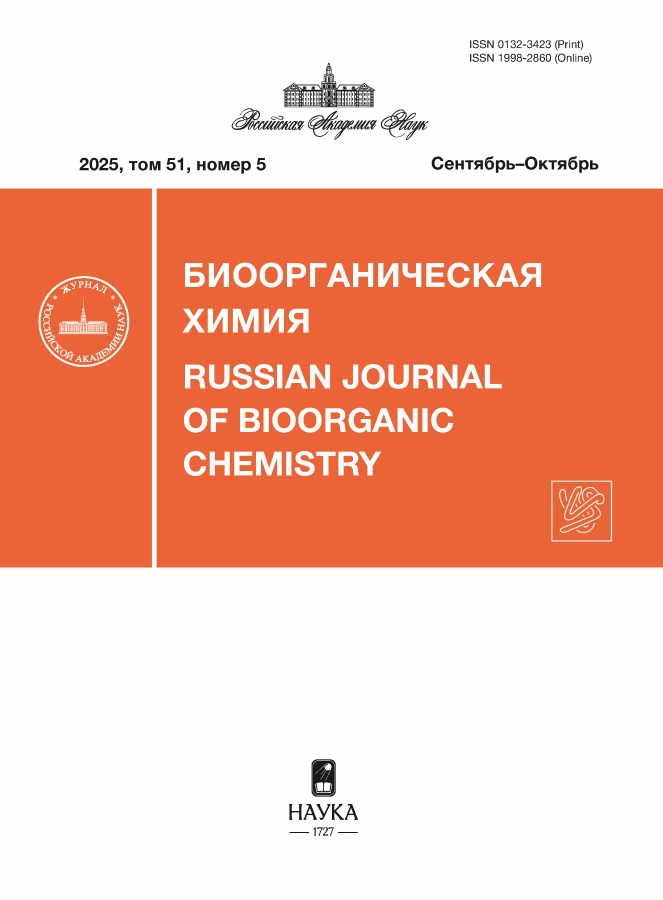Производное нейротоксина BeM9 раскрывает особенности взаимодействия с изоформой натриевых каналов Naᵥ 1.5
- Авторы: Черных М.А.1, Дюжева М.А.1,2, Кульдюшев Н.А.1, Пеньёр С.3, Беркут А.А.1, Титгат Я.3, Василевский А.А.1, Чугунов А.О.1
-
Учреждения:
- ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
- Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
- Лёвенский университет, ON II
- Выпуск: Том 50, № 4 (2024)
- Страницы: 498-507
- Раздел: Статьи
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-3423/article/view/267321
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132342324040095
- EDN: https://elibrary.ru/MWRFGB
- ID: 267321
Цитировать
Полный текст
Аннотация
α-Нейротоксины скорпионов – классические лиганды потенциал-чувствительных натриевых каналов, ингибирующие их инактивацию. Сила этого эффекта зависит от организма и изоформы каналов, а точные механизмы, объясняющие различия в активности, пока еще не известны. Ранее мы показали, что α-токсинам скорпионов свойственно модульное строение. Они состоят из консервативного, структурно устойчивого сердцевинного модуля и лабильного модуля специфичности, который обладает высокой вариабельностью и определяет селективность в отношении разных каналов. При этом у токсинов, предпочтительно воздействующих на каналы млекопитающих (“млекотоксинов”), мы отметили более высокую подвижность модуля специфичности по сравнению с инсектотоксинами, высокоактивными в отношении насекомых. Мы предположили, что эта подвижность у млекотоксинов увеличена благодаря двум консервативным остаткам глицина, ограничивающим N-концевую петлю модуля специфичности. Для проверки этого предположения мы получили производное нейротоксина BeM9 из яда скорпиона Mesobuthus eupeus с двумя заменами аминокислотных остатков в соответствующих позициях на глицин (A4G и Y17G). Неожиданно оказалось, что полученный нами полипептид BeM9GG утратил активность в отношении изоформы каналов Nav1.5, характерной для сердечной мускулатуры млекопитающих. Сравнение двух известных структур комплексов потенциал-чувствительных натриевых каналов с токсинами скорпионов позволило объяснить наблюдаемый эффект. Мы предполагаем существенную роль мембраны во взаимодействии токсинов с изоформой Nav1.5.
Ключевые слова
Полный текст
Сокращения: МД – молекулярная динамика; ПД – поровый домен; ПЧД – потенциал-чувствительный домен; ВеМ9 – α-подобный нейротоксин М9 из яда скорпиона Mesobuthus eupeus; BeM9GG – производное нейротоксина с двумя заменами аминокислотных остатков в соответствующих позициях на глицин (A4G и Y17G); Naᵥ – потенциал-чувствительные натриевые каналы; BgNaᵥ1 – Naᵥ таракана; α-NaTx – α-нейротоксины скорпионов; Trx – тиоредоксин.
ВВЕДЕНИЕ
Изучение потенциал-чувствительных натриевых каналов (Naᵥ) важно как для фундаментальной биологии, так и для фармакологии, поскольку они отвечают за формирование потенциала действия и тем самым обеспечивают работу электровозбудимых клеток: нейронов и миоцитов. Главная α-субъединица Naᵥ – это трансмембранный псевдотетрамер из четырех гомологичных, но различающихся повторов (D I–IV) в составе единой полипептидной цепи длиной ~2000 а.о. В каждом повторе можно выделить потенциал-чувствительный домен (ПЧД, трансмембранные спирали S1–S4), запускающий конформационные перестройки в ответ на сдвиг мембранного потенциала. При этом непосредственным сенсором потенциала служит сегмент S4, содержащий регулярно расположенные положительно заряженные остатки и переходящий при деполяризации мембраны из положения “вниз”, соответствующего неактивированному каналу, в положение “вверх” при активации. Спирали S5 и S6 из всех четырех повторов формируют единый пóровый домен (ПД), способный селективно пропускать ионы натрия. Активация ПЧД I–III приводит к открытию ПД, а ПЧД IV отвечает за быструю инактивацию канала, во время которой ПД снова перестает пропускать Na+ [1, 2].
В то время как у большинства насекомых имеется лишь один ген, кодирующий Naᵥ, у млекопитающих их несколько, а соответствующие изоформы белка называются Naᵥ1.1–1.9. Поскольку Naᵥ крайне важны для работы нервной системы и мышц, они служат мишенью для множества нейротоксинов, связывающихся с Naᵥ и имеющими изоформ-зависимую активность. Так, один из важнейших компонентов яда скорпионов – так называемые “α-токсины” (α-NaTx) – селективно связываются с ПЧД IV и ингибируют инактивацию канала. Это небольшие белки, состоящие из ~65 а.о., их укладка представлена β-листом из трех β-тяжей, короткой α-спиралью и стабилизирована четырьмя S–S-мостиками. Некоторые α-NaTx действуют преимущественно на каналы насекомых (инсектотоксины), другие активны на разных изоформах каналов млекопитающих (млекотоксины), а третьи характеризуются широким профилем активности (α-подобные токсины). На рис. 1 приведены аминокислотные последовательности нескольких α-NaTx, относящихся к трем группам (а), и общая укладка этих токсинов (б). Некоторые млекотоксины селективны в отношении отдельных изоформ Naᵥ: к примеру, MeuNaTxα-2 селективен к Naᵥ1.4 [3], а OD1 – к Naᵥ1.7 [4].
Несмотря на большой массив данных, до сих пор не ясно, как управлять селективностью α-NaTx, получая с помощью рационального дизайна производные токсинов с заданными свойствами – молекулярные зонды для исследований нервной системы и прототипы лекарств. Ранее мы показали наличие у α-NaTx модульной структуры, в которой к жесткой основе – так называемому “сердцевинному” модулю – прикрепляется “модуль специфичности”, отвечающий за селективное узнавание конкретной изоформы Naᵥ и состоящий из N-концевой RT-петли, β₂–β₃-петли и C-концевой области, соединенной с RT-петлей дисульфидной связью (рис. 1б) [5]. Последовавшее определение структуры комплексов Naᵥ с α-NaTx (рис. 1в) подтвердило, что взаимодействует с каналом именно модуль специфичности [6, 7].
Рис. 1. Структурные особенности α-NaTx. (а) – Сравнение аминокислотных последовательностей представителей разных групп α-NaTx. Розовым обозначена α-спираль, голубым – β-тяжи, оттенками зеленого – различные участки модуля специфичности: светлый – RT-петля, темнее – β₂–β₃-петля, темный – C-концевая область. Малиновым выделены “шарнирные” глицины (остатки 4 и 17 по нумерации Aah2); (б) – пространственная организация α-NaTx на примере млекотоксина Aah2. Цветовые обозначения аналогичны панели (а). Желтым показаны дисульфидные мостики; (в) – общий вид взаимодействия α-NaTx с натриевыми каналами на примере комплекса Lqh3–hNaᵥ1.5 [7]. Naᵥ изображен цветной поверхностью с индивидуально раскрашенными гомологичными повторами D I–IV (ПД более блеклый, ПЧД – яркий). Бордовым показан Lqh3.
Расчеты молекулярной динамики (МД) и анализ гидрофобных свойств выявили, что модуль специфичности млекотоксинов более подвижный и гидрофильный в сравнении с токсинами, активными в отношении Naᵥ насекомых. В той же работе мы указали, что более высокая подвижность всего модуля может быть обусловлена парой консервативных для млекотоксинов остатков глицина (G4 и G17, нумерация по Aah2, отмечены малиновым цветом на рис. 1), выступающих для RT-петли подобно шарниру. In silico мутагенез этой пары остатков показал снижение подвижности, а встречная замена на глицин в структуре инсектотоксина, напротив, ее повышала, позволив предложить направление дизайна специфических вариантов α-NaTx.
На основе представления о модульном строении α-NaTx мы продолжаем серию работ по мутагенезу одного из наиболее изученных α-подобных токсинов M9 (BeM9) из яда скорпиона Mesobuthus eupeus [8]. Ранее специфичность BeM9 удалось изменить, получив селективный инсектотоксин [9]. С целью получения селективных млекотоксинов мы синтезировали производное BeM9 с введением указанных выше “шарнирных” глицинов: A4G и Y17G (BeM9GG) и изучили его активность. Неожиданная специфическая утрата активности BeM9GG в отношении Naᵥ1.5 и нюансы строения комплекса α-NaTx с этой изоформой позволили нам предположить особую роль мембраны.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Дизайн и получение BeM9GG. Анализ аминокислотных последовательностей α-NaTx (рис. 1) показывает, что у млекотоксинов RT-петля чаще всего ограничена двумя консервативными остатками глицина, предположительно придающими ей более высокую подвижность. Это G4 в β1-тяже и G17 сразу после второго остатка цистеина и перед α-спиралью. У α-подобного токсина BeM9 в аналогичных позициях расположены остатки A4 и Y17. Мы предположили, что замена обоих этих остатков на глицин увеличит подвижность RT-петли и всего модуля специфичности, уменьшив сродство к Naᵥ насекомых и сдвинув профиль специфичности в сторону млекотоксинов [5].
ДНК, кодирующую BeM9 с заменами A4G и Y17G (BeM9GG), синтезировали с помощью ПЦР из перекрывающихся олигонуклеотидов, после чего клонировали в составе бактериального экспрессионного вектора с целью получения рекомбинантного продукта. Мы использовали традиционный подход к получению дисульфид-богатых полипептидов: BeM9GG был наработан в составе гибридного белка с тиоредоксином (Trx), необходимым для корректного формирования дисульфидных связей. Trx-BeM9GG получили в бактериальной системе и выделили с помощью аффинной хроматографии, после чего целевой продукт отделили от Trx с использованием бромциана. Хроматографической чистоты > 95% достигали с помощью обращенно-фазовой ВЭЖХ. Выход составил 2 мг с 1 л среды LB. Очищенный образец характеризовали с помощью MALDI масс-спектрометрии: измеренная средняя молекулярная масса BeM9GG составила 7215.2 Да (расчетное значение 7215.1 Да).
Активность BeM9GG в отношении Naᵥ. Эффекты BeM9GG были изучены в сравнении с исходным токсином в концентрации 1 мкМ в отношении ряда Naᵥ. Мы применили стандартный подход, подразумевающий экспрессию генов каналов (α-субъединиц и соответствующих вспомогательных β-субъединиц) в ооцитах Xenopus laevis. Мы оценили активность BeM9GG на четырех изоформах Naᵥ млекопитающих (rNaᵥ1.2, rNaᵥ1.4, hNaᵥ1.5 и mNaᵥ1.6) и в отношении канала таракана BgNaᵥ1 (табл. 1). Активность BeM9GG оказалась снижена по сравнению с исходным токсином, при этом в отношении Naᵥ1.5 в концентрации 1 мкМ активность не наблюдалась вовсе.
Таблица 1. Активность BeM9 и BeM9GG в отношении Naᵥ
Токсин | rNaᵥ1.2 | rNaᵥ1.4 | hNaᵥ1.5 | mNaᵥ1.6 | BgNaᵥ1 |
BeM9 | Н/а (3) | 0.23 ± 0.03 (4) | 0.46 ± 0.03 (3) | 0.60 ± 0.04 (8) | 1.93 ± 0.05 (7) |
BeM9GG | Н/а (4) | 0.07 ± 0.01 (3) | Н/а (2) | 0.17 ± 0.04 (4) | 0.52 ± 0.01 (2) |
Модель комплекса α-NaTx–Naᵥ подсказывает причину утраты активности BeM9GG на Naᵥ1.5. Для того чтобы объяснить наблюдаемый эффект, мы обратились к известным структурам комплексов Naᵥ с токсинами, построили модели комплексов с BeM9 и провели МД. В 2019 г. методом криоэлектронной микроскопии была получена первая структура комплекса химерного Naᵥ (ПЧД IV от hNaᵥ1.7, каркас от канала таракана NaᵥPas) с млекотоксином Aah2 (PDB ID: 6NT4) [6]. Эта структура наглядно подтвердила нашу гипотезу модульного строения α-NaTx: модуль специфичности токсина и оказался той частью, которая связывается с Naᵥ: RT-петля направлена в сторону ПД I, β₂–β₃-петля – в сторону спиралей S2 и S3 ПЧД IV, а С-конец – в сторону ПД I и петли S3–S4 ПЧД IV; остальная часть токсина (сердцевинный модуль) с каналом не взаимодействует (рис. 1в, 2а).
В 2021 г. была получена еще одна структура – комплекса α-подобного токсина Lqh3 с Naᵥ1.5 человека (PDB ID: 7K18; рис. 2б) [7]. В общем похожая, в деталях она заметно отличается от комплекса Aah2–Naᵥ1.7: в ней модуль специфичности не дотягивается до ПД I и S4 ПЧД IV, а сам токсин глубже погружается в “ложбину” между спиралями S2 и S3 ПЧД IV, вероятно активно взаимодействуя при этом с мембраной сердцевинным модулем (а именно N-концевой частью α-спирали). Возможно, это связано с тем, что в спирали S2 ПЧД IV у Naᵥ1.5 остаток, формирующий “опору” для петли β₂–β₃, намного меньше (аланин), чем в ряде других каналов (обычно тирозин; рис. 2в). В результате токсин садится глубже между S2 и S3 (рис. 2г, д), предположительно более интенсивно при этом взаимодействуя с мембраной. Мы предполагаем, что различия в структуре комплексов Aah2–Naᵥ1.7 и Lqh3–Naᵥ1.5 смогут указать причину потери активности BeM9GG в отношении hNaᵥ1.5.
Рис. 2. Различие структуры комплексов Naᵥ с α-NaTx. (a, б) – Сайт связывания α-NaTx с Naᵥ в мембране. Голубым выделен ПЧД IV канала, зеленым – ПД I (виден гликан), розовым и малиновым показаны токсины; (в) – сравнение фрагментов аминокислотных последовательностей S2 и S3 ПЧД IV. Желтым выделены так называемые “опорные” остатки, определяющие характер посадки β₂–β₃-петли α-NaTx; (г, д) – посадка β₂–β₃-петли α-NaTx на “опорные” остатки S2–S3 ПЧД IV. Цветовые обозначения аналогичны панелям (а, б), желтым показаны “опорные” остатки.
Lqh3, активный в отношении Naᵥ1.5, имеет G4, как и BeM9GG, однако при этом в 17-м положении у него расположен ароматический остаток, как у нативного BeМ9 (рис. 1а). Согласно структуре комплекса Lqh3–Naᵥ1.5 (PDB ID: 7K18), F17 у Lqh3 глубоко погружен в мембрану (рис. 2б). Сродство этого остатка к мембране может быть важно именно в случае hNaᵥ1.5 ввиду особой посадки токсина в ложбине между S2 и S3. В этом случае потеря гидрофобного остатка (замена Y17G) снижает сродство к мембране и не позволяет сформировать высокоаффинный комплекс (рис. 3).
Рис. 3. Влияние мутации Y17G на связывание BeM9 с Naᵥ. Голубым выделен ПЧД IV канала, зеленым – ПД I, розовым – токсин BeM9, темно-красным показан остаток Y17, направленный в сторону мембраны у BeM9 и замещенный на глицин у BeM9GG. (a) – Модель комплекса BeM9–hNaᵥ1.5, полученная пространственным совмещением с Lqh3 из комплекса 7K18. Видно, что остаток Y17 у BeM9 заглублен в мембрану; (б) – модель комплекса BeM9–mNaᵥ1.6 (построение модели см. в “Эксперим. части”).
Мы собрали данные по активности различных токсинов в отношении Naᵥ1.5, чтобы проиллюстрировать нашу гипотезу о важности их взаимодействия с мембраной (табл. 2). В большинстве случаев выраженная активность в отношении Naᵥ1.5 у α-NaTx коррелирует с наличием в 17-й позиции гидрофобного остатка.
Таблица 2. Активность α-NaTx в отношении Naᵥ1.5
Токсин | Активность | Остаток 17 | Комментарии |
BeM9 | Активен при 1 мкМ [5] | Y | – |
BeM9GG | Не активен при 1 мкМ | G | – |
BeM9E | Активен при 1 мкМ [9] | Y | Активность слабая, но в отношении других каналов млекопитающих упала сильнее |
BeM9EG | Не активен при 1 мкМ [9] | G | – |
msBeM9 | Не активен при 1 мкМ [10] | G | – |
Lqh2 | EC50 = 11.5 нМ [11] | G | На порядок более активен в отношении других каналов [12] |
Lqh3 | EC50 = 2.5 нМ [11] | F | – |
Lqh6 | Активен при 1 мкМ [13] | I | – |
Lqh7 | Активен при 1 мкМ [13] | F | – |
LqhαIT | EC50 = 32.9 нМ [11] | F | Инсектотоксин |
MeuNaTxα-1 | Не активен при 1 мкМ [3] | G | – |
MeuNaTxα-2 | Не активен при 1 мкМ [3] | A | – |
MeuNaTxα-4 | Не активен при 2 мкМ [3] | F | Инсектотоксин |
MeuNaTxα-5 | Активен при 2 мкМ [3] | F | – |
MeuNaTxα-12 | Не активен при 10 мкМ [14] | A | – |
MeuNaTxα-13 | Не активен при 10 мкМ [14] | F | Отличается последовательность β₂–β₃ |
BmK M1 | EC50 = 195 нМ [15] | A | – |
OD1 | Активен при 4 мкМ [4] | A | – |
Ts2 | Активен при 1 мкМ [16] | F | Короткая β₂–β₃-петля, вероятно, другой паттерн связывания |
Ts3 | Не активен при 500 нМ [17] | F | |
Ts4 | Не активен при 500 нМ [18] | F | |
Ts5 | Активен при 1 мкМ [19] | F |
Примечание: EC50 – полумаксимальная эффективная концентрация, означает концентрацию лиганда, которая вызывает эффект, равный половине максимального возможного для этого лиганда. В данном случае подразумевается ингибирование инактивации.
Примечание: для каналов млекопитающих первая буква означает организм: r – крыса, h – человек, m – мышь. Н/а – нет активности. Указаны значения I30 мс/Ipeak или I5 мс/Ipeak (для Naᵥ1.5; см. пояснения в “Эксперим. части”). Приведены средние значения ± стандартные отклонения, в скобках указано число независимых экспериментов (n).
К наиболее важным контрпримерам отнесем Lqh2, MeuNaTxα-4 и токсины из рода скорпионов Tityus. Lqh2, несмотря на сравнительно высокую активность, все же более активен на каналах Naᵥ1.2 и 1.4 [12]. MeuNaTxα-4 вообще не активен на каналах млекопитающих, что, вероятно, связано с другими отличиями его структуры. Токсины Ts2–5 сильно отличаются от классических α-NaTx из-за короткой β₂–β₃-петли, поэтому к ним общая модель связывания не применима.
Для более основательной проверки гипотезы роли взаимодействия α-NaTx с мембраной (посредством остатков в позициях 17, 41 и, возможно, других) в связывании с Naᵥ1.5 потребуются дополнительные эксперименты. Среди таких экспериментов можно назвать получение следующих производных: 1) BeM9Y17G с единичной заменой (должен потерять аффинность к Naᵥ1.5); 2) Lqh2G17F/Y (взаимодействие должно усилиться); 3) Lqh3F17G (взаимодействие должно ослабнуть). Кроме того, необходимо проведение МД моделей комплексов α-NaTx–Naᵥ1.5 в явно заданной липидной мембране для детальной характеристики взаимодействий токсина с каналом и мембраной.
Помимо этого выявленное отличие в строении “ложбины” между S2 и S3 в ПЧД IV различных Naᵥ (рис. 2в–д) позволяет предсказать различный способ взаимодействия токсинов с каналами млекопитающих: с Naᵥ1.7, а также Naᵥ1.2, 1.4 и 1.6 (тирозин в “ложбине”) токсин будет располагаться “выше” (как на рис. 2б), слабее взаимодействуя – с мембраной; а с Naᵥ1.5, а также Naᵥ1.1, 1.3, 1.8 и 1.9 (“ложбина” образована остатками S, A, G или D) токсин получает возможность опуститься “ниже” в ПЧД, одновременно слабее взаимодействуя с ним и сильнее – с мембраной. Наличие заряженного остатка аспарагиновой кислоты у Naᵥ1.9 открывает дополнительные перспективы по созданию действующих на эту изоформу полипептидов, несущих положительный заряд.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Получение рекомбинантных производных BeM9. Синтез нуклеотидной последовательности, кодирующей BeM9GG, проведен с помощью лигирования олигонуклеотидных фрагментов (табл. 3) и ПЦР аналогично описанной ранее процедуре [5, 20]. Полученную полноразмерную последовательность клонировали в составе экспрессионного вектора pET-32b (Novagen, США; вставка по сайтам рестрикции KpnI и BamHI). В результате в составе вектора pET-32b-BeM9GG имеется химерный ген гибридного белка Trx-BeM9GG.
Таблица 3. Олигонуклеотиды для синтеза гена BeM9GG
Название | Последовательность |
M9GGf1 | ATATGGTACCATGGCTCGTGACGGTTACATCGCA |
M9GGf2 | AACCGCACAACTGCGTTTACGAATGCGGCAACCCGAAAGGTTCTT |
M9f3 | ACTGCAACGACCTGTGCACCGAAAACGGTGCTGAATCTGGTTACT |
M9f4 | GCCAGATCCTGGGTAAATACGGTAACGCTTGCTGGTGCATCCA |
M9f5 | GCTGCCGGACAACGTTCCGATCCGTATCCCGGGTAAATGCC |
M9GGr1/2 | AAACGCAGTTGTGCGGTTTAGCGATGTAACCGTCAC |
M9GGr2/3 | TGCACAGGTCGTTGCAGTAAGAACCTTTCGGGTTGC |
M9r3/4 | ATTTACCCAGGATCTGGCAGTAACCAGATTCAGCAC |
M9r4/5 | GAACGTTGTCCGGCAGCTGGATGCACCAGCAAGC |
M9r | GCATGGATCCCTAGTGGCATTTACCCGGGATAС |
Примечание: полужирным шрифтом выделены старт- и стоп-кодоны, подчеркнуты сайты рестрикции для последующей вставки в плазмиду.
Экспрессию химерных генов проводили в штамме Escherichia coli BL21(DE3) [21]. Культуру бактерий, трансформированных с использованием экспрессионного вектора, выращивали на среде LB с добавлением ампициллина (100 мкг/мл) при 37°C и интенсивном перемешивании до достижения средней логарифмической фазы. Индукцию экспрессии целевого гена осуществляли добавлением в среду 0.2 мМ изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозида, после чего культуру инкубировали еще 4 ч. По истечении этого времени бактерии осаждали, ресуспендировали в стартовом буфере для аффинной хроматографии (300 мМ NaCl, 20 мМ Tris-HCl, pH 7.5) и лизировали с помощью ультразвука.
Слитные белки имели в своем составе гексагистидиновую последовательность, которая позволяла проводить их очистку с помощью металл-хелатной хроматографии [22] на сорбенте TALON Superflow Metal Affinity Resin (Clontech, США). Элюцию сорбированных белков проводили буфером, содержащим имидазол (150 мМ имидазол, 300 мМ NaCl, 20 мМ Tris-HCl, pH 7.5). BeM9GG не содержит остатков метионина, поэтому целевой полипептид отщепляли от Trx с помощью бромциана по описанной методике [23]. Для этого в последовательность химерного гена был специально введен метиониновый кодон непосредственно перед геном токсина. Очистку от нецелевых продуктов реакции проводили с помощью обращенно-фазовой ВЭЖХ, как описано для BeM9 [5].
Масс-спектрометрия. Полипептиды анализировали с помощью времяпролетной MALDI масс-спектрометрии. Использовали спектрометр Ultraflex TOF-TOF (Bruker Daltonik, Германия), анализ проводили как описано ранее [24]. В качестве матрицы использовали 2,5-дигидроксибензойную кислоту (Sigma-Aldrich, США). Измерения проводили в линейном режиме. Масс-спектры анализировали с помощью программного обеспечения Data Analysis 4.3 (Bruker, Германия).
Электрофизиология. Активность полученного производного сравнивали с исходным токсином BeM9 по эффекту в отношении Naᵥ, экспрессированных в ооцитах лягушки X. laevis. Выделение ооцитов, получение РНК, а также сбор и анализ данных проводили, как описано ранее [5, 10]. Использовали гены ряда изоформ Naᵥ млекопитающих (Naᵥ1.2 и 1.4 крысы (r), Naᵥ1.5 человека (h), Naᵥ1.6 мыши (m), вспомогательных субъединиц rβ1 и hβ1), а также α-субъединицы BgNaᵥ1 и вспомогательной субъединицы TipE таракана Blattella germanica и дрозофилы соответственно. Для оценки эффективности токсинов мы использовали величину, равную отношению регистрируемого тока через мембрану ооцита спустя 30 мс после подачи тестового импульса к пиковому току (I30 мс/Ipeak). В случае канала Naᵥ1.5 из-за особой кинетики его работы использовали отношение тока через 5 мс после тестового импульса к пиковому току (I5 мс/Ipeak). Все данные анализировали с помощью программного обеспечения pClamp Clampfit версии 10.4 (Molecular Devices, CША) и Origin Pro версии 8.0 (OriginLab, США).
Молекулярное моделирование. Внутримолекулярные эффекты от замен в структуре BeM9 оценивали с помощью сравнительного моделирования токсина дикого типа (PDB ID: 5MOU) и его производного. Модель BeM9GG была получена с помощью моделирования по гомологии в программе MODELLER v. 9.19 [25]. Три лучшие модели из 20, по внутренней оценке программы, использовали как стартовые конформации для проведения трех реплик МД, а для нативного BeM9 – первую из ЯМР-ансамбля конформаций также в трех независимых запусках МД.
Для МД использовали программу GROMACS 5.1.2 [26] и силовое поле Amber99sb-ildn.ff [27]. Радиус отсечки ван-дер-ваальсовых и электростатических взаимодействий составил 10 и 12 Å соответственно. Для МД построили кубические ячейки (55 × 55 × 55 Å3 для токсинов и 120 × 120 × × 120 Å3 для комплексов) c моделью воды SPC [28], содержащие противоионы для электронейтральности и уравновешенные по энергии путем нагревания до 300 К в течение 100 пс. МД проводили в периодических граничных условиях при Т = 300 К, P = 1 бар, поддерживаемых при помощи термостата V-rescale [29] и баростата Берендсена [30] соответственно. Длина и шаг траектории составили 100 нс и 2 фс соответственно. Для каждой изучаемой молекулы было проведено по три расчета для накопления статистических данных. Для сравнения объектов между собой использовали t-критерий Стьюдента.
Для объяснения эффекта мутации Y17G в BeM9 строили модели комплексов токсина с Naᵥ, использованными для измерения токов – hNaᵥ1.5 и mNaᵥ1.6. Комплекс BeM9–hNaᵥ1.5 получали прямой заменой токсина Lqh3 на BeM9 после пространственного совмещения в структуре 7K18. Модель BeM9–mNaᵥ1.6 строили следующим образом: сначала с использованием метода гомологии и программы MODELLER строили полную модель mNaᵥ1.6 по структуре канала hNaᵥ1.6 (PDB ID: 8FHD). Однако, поскольку для Naᵥ1.6 пока не была определена структура комплекса ни с одним α-NaTx, его ПЧД IV находится в активированном состоянии ввиду отсутствия потенциала (положение S4-сенсора “вверх”). Далее неактивированное состояние ПЧД IV mNaᵥ1.6 было смоделировано отдельно по гомологии со структурой комплекса Aah2 с химерой hNaᵥ1.7– NaᵥPas, S4-сенсор которой в связи с ингибированием токсином Aah2 находится в нужном нам положении “вниз”. На последнем шаге активированный ПЧД IV из первой модели заменяли на неактивированный из второй, после чего структуру релаксировали. Полученная таким образом модель mNaᵥ1.6 имеет неактивированный S4-сенсор в ПЧД IV, пригодный для моделирования комплексов с α-NaTx. BeM9 в этот комплекс помещали путем пространственного совмещения с Aah2 в оригинальной структуре 6NT4, оставляя вместо структуры “химерного” канала полученную модель mNaᵥ1.6 с неактивированным ПЧД IV.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для проверки гипотезы о важности “шарнирных” глицинов в воздействии α-NaTx на Naᵥ млекопитающих мы получили производное α-подобного токсина BeM9 с заменами A4G и Y17G. Для этого мы использовали бактериальную систему экспрессии и белок-помощник Trx. Мы оценили активность BeM9GG в отношении каналов млекопитающих и насекомого по сравнению с исходным токсином. Вопреки нашим ожиданиям, BeM9GG оказался менее активным на каналах млекопитающих и вовсе утратил активность по отношению к изоформе Naᵥ1.5. Для объяснения такого эффекта мы обратились к компьютерному моделированию. Анализ структуры комплексов Naᵥ с токсинами позволил предположить вероятный механизм, учитывающий роль мембранного окружения каналов. Наша работа открывает дополнительные возможности рационального дизайна селективных лигандов Naᵥ, которые могут быть использованы для разработки фармацевтических препаратов и инструментов для изучения нейронов на молекулярном уровне.
ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 22-14-00395).
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Все манипуляции с лягушками проводили в соответствии с принципами ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments) и Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых в экспериментальных и других научных целях (ETS123, Страсбург, 18.III.1986).
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
М. А. Черных
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: avas@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
М. А. Дюжева
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН; Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Email: avas@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10; 125047 Москва, Миусская площадь, 9
Н. А. Кульдюшев
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: avas@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
С. Пеньёр
Лёвенский университет, ON II
Email: avas@ibch.ru
Бельгия, Herestraat 49, box 922, 3000, Лёвен
А. А. Беркут
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: avas@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Я. Титгат
Лёвенский университет, ON II
Email: avas@ibch.ru
Бельгия, Herestraat 49, box 922, 3000, Лёвен
А. А. Василевский
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: avas@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
А. О. Чугунов
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: avas@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Список литературы
- Jiang D., Zhang J., Xia Z. // Front Pharmacol. 2022. V. 13. P. 908867. https://doi.org/10.3389/fphar.2022.908867
- Catterall W.A. // Channels (Austin). 2023. V. 17. P. 2281714. https://doi.org/10.1080/19336950.2023.2281714
- Zhu S., Peigneur S., Gao B., Lu X., Cao C., Tytgat J. // Mol. Cell Proteomics. 2012. V. 11. P. M111.012054. https://doi.org/10.1074/mcp.m111.012054
- Durek T., Vetter I., Wang C.-I.A., Motin L., Knapp O., Adams D.J., Lewis R.J., Alewood P.F. // ACS Chem. Biol. 2013. V. 8. P. 1215–1222. https://doi.org/10.1021/cb400012k
- Chugunov A.O., Koromyslova A.D., Berkut A.A., Peigneur S., Tytgat J., Polyansky A.A., Pentkovsky V.V., Vassilevski A.A., Grishin E.V., Efremov R.G. // J. Biol. Chem. 2013. V. 288. P. 19014–19027. https://doi.org/10.1074/jbc.m112.431650
- Clairfeuille T., Cloake A., Infield D.T., Llongueras J.P., Arthur C.P., Li Z.R., Jian Y., Martin-Eauclaire M.-F., Bougis P.E., Ciferri C., Ahern C.A., Bosmans F., Hackos D.H., Rohou A., Payandeh J. // Science. 2019. V. 363. P. eaav8573. https://doi.org/10.1126/science.aav8573
- Jiang D., Tonggu L., Gamal El-Din T.M., Banh R., Pomès R., Zheng N., Catterall W.A. // Nat. Commun. 2021. V. 12. P. 128. https://doi.org/10.1038/s41467-020-20078-3
- Волкова Т.М., Гарсия А.Ф.., Тележинская И.Н., Потапенко Н.А., Гришин Е.В. // Биоорг. химия. 1984. T. 10. C. 979–982.
- Chernykh M.A., Kuldyushev N.A., Berkut A.A., Efremov R.G., Vassilevski A.A., Chugunov A.O., Peigneur S., Tytgat J. // Russ. J. Bioorg. Chem. 2021. V. 47. P. 854–863. https://doi.org/10.1134/S1068162021040063
- Kuldyushev N.A., Berkut A.A., Peigneur S., Tytgat J., Grishin E.V., Vassilevski A.A. // FEBS Lett. 2017. V. 591. P. 3414–3420. https://doi.org/10.1002/1873-3468.12839
- Chen H., Heinemann S.H. // J. Gen. Physiol. 2001. V. 117. P. 505–518. https://doi.org/10.1085/jgp.117.6.505
- Chen H., Lu S., Leipold E., Gordon D., Hansel A., Heinemann S.H. // Eur. J. Neurosci. 2002. V. 16. P. 767–770. https://doi.org/10.1046/j.1460-9568.2002.02142.x
- Hamon A., Gilles N., Sautière P., Martinage A., Kopeyan C., Ulens C., Tytgat J., Lancelin J.-M., Gordon D. // Eur. J. Biochem. 2002. V. 269. P. 3920–3933. https://doi.org/10.1046/j.1432-1033.2002.03065.x
- Zhu L., Peigneur S., Gao B., Tytgat J., Zhu S. // Biochimie. 2013. V. 95. P. 1732–1740. https://doi.org/10.1016/j.biochi.2013.05.009
- Goudet C., Huys I., Clynen E., Schoofs L., Wang D.C., Waelkens E., Tytgat J. // FEBS Lett. 2001. V. 495. P. 61–65. https://doi.org/10.1016/s0014-5793(01)02365-1
- Cologna C.T., Peigneur S., Rustiguel J.K., Nonato M.C., Tytgat J., Arantes E.C. // FEBS J. 2012. V. 279. P. 1495–1504. https://doi.org/10.1111/j.1742-4658.2012.08545.x
- Kirsch G.E., Skattebøl A., Possani L.D., Brown A.M. // J. Gen. Physiol. 1989. V. 93. P. 67–83. https://doi.org/10.1085/jgp.93.1.67
- Pucca M.B., Cerni F.A., Peigneur S., Bordon K.C.F., Tytgat J., Arantes E.C. // Toxins (Basel). 2015. V. 7. P. 2534–2550. https://doi.org/10.3390/toxins7072534
- Pucca M.B., Peigneur S., Cologna C.T., Cerni F.A., Zoccal K.F., Bordon K. de C.F., Faccioli L.H., Tytgat J., Arantes E.C. // Biochimie. 2015. V. 115. P. 8–16. https://doi.org/10.1016/j.biochi.2015.04.010
- Shlyapnikov Y.M., Andreev Y.A., Kozlov S.A., Vassilevski A.A., Grishin E.V. // Protein Expr. Purif. 2008. V. 60. P. 89–95. https://doi.org/10.1016/j.pep.2008.03.011
- Studier F.W., Moffatt B.A. // J. Mol. Biol. 1986. V. 189. P. 113–130. https://doi.org/10.1016/0022-2836(86)90385-2
- Hochuli E., Bannwarth W., Döbeli H., Gentz R., Stüber D. // Nat. Biotechnol. 1988. V. 6. P. 1321–1325. https://doi.org/10.1038/nbt1188-1321
- Andreev Y.A., Kozlov S.A., Vassilevski A.A., Grishin E.V. // Anal. Biochem. 2010. V. 407. P. 144–146. https://doi.org/10.1016/j.ab.2010.07.023
- Kuzmenkov A.I., Sachkova M.Y., Kovalchuk S.I., Grishin E.V., Vassilevski A.A. // Biochem. J. 2016. V. 473. P. 2495–2506. https://doi.org/10.1042/bcj20160436
- Webb B., Sali A. // Curr. Protoc. Bioinformatics. 2016. V. 54. P. 5.6.1–5.6.37. https://doi.org/10.1002/cpbi.3
- Abraham M.J., Murtola T., Schulz R., Páll S., Smith J.C., Hess B., Lindahl E. // SoftwareX. 2015. V. 1. P. 19–25. https://doi.org/10.1016/j.softx.2015.06.001
- Lindorff-Larsen K., Piana S., Palmo K., Maragakis P., Klepeis J.L., Dror R.O., Shaw D.E. // Proteins. 2010. V. 78. P. 1950–1958. https://doi.org/10.1002/prot.22711
- Jorgensen W.L., Chandrasekhar J., Madura J.D., Impey R.W., Klein M.L. // J. Chem. Phys. 1983. V. 79. P. 926–935.
- Bussi G., Donadio D., Parrinello M. // J. Chem. Phys. 2007. V. 126. P. 014101. https://doi.org/10.1063/1.2408420
- Berendsen H.J.C., Postma J.P.M., van Gunsteren W.F., DiNola A., Haak J.R. // J. Chem. Phys. 1984. V. 81. P. 3684–3690. https://doi.org/10.1063/1.448118
Дополнительные файлы