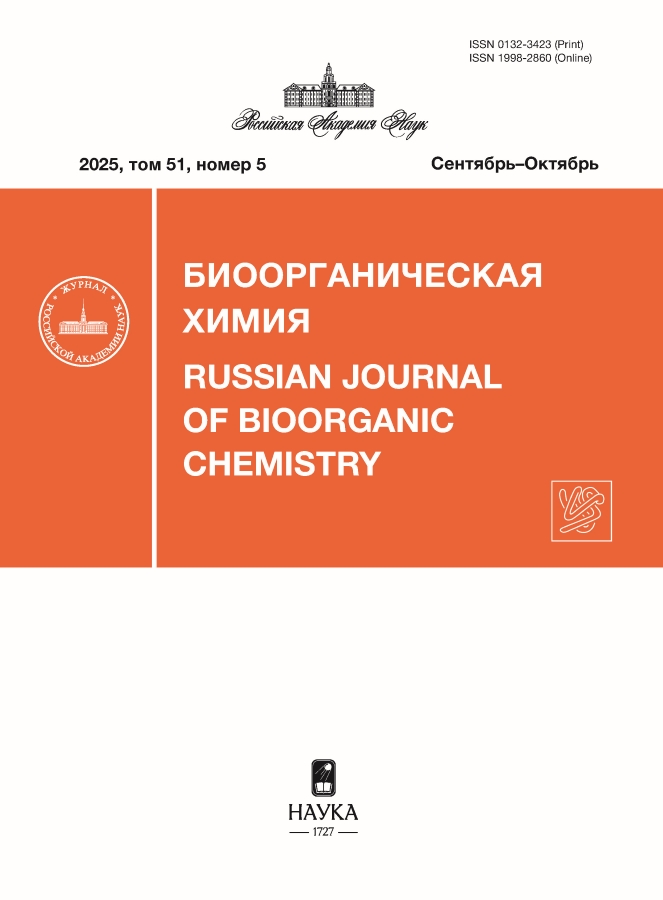Nanoparticles based on polyferylic and polygentisic acids as new carriers of anticancer drugs
- Authors: Smirnov I.V.1, Lisov A.V.2, Kazakov A.S.3, Zvonarev A.N.2, Suzina N.E.2, Zemskova M.Y.2
-
Affiliations:
- Skolkovo Institute of Science and Technology
- G.K. Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms, Russian Academy of Sciences
- Institute of Biological Instrumentation, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 50, No 2 (2024)
- Pages: 111-129
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-3423/article/view/258827
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132342324020024
- EDN: https://elibrary.ru/ONQXQT
- ID: 258827
Cite item
Full Text
Abstract
Lignin polymers and their derivatives are actively used in various fields of biomedicine to create biocompatible materials, as medications, and to form nanoparticles. However, natural polymeric compounds derived from plant materials or monomers are defined as a mixture of compounds having a high heterogeneity in chemical structure, which greatly complicates the determination of their biological activity. This paper describes a new method of controlled synthesis using the enzyme laccase, which can be applied to obtain polymers with a specific structure. Based on enzymatically synthesized lignin-like polymers from ferulic and gentisiс phenolic monomers, nanoparticles with stable properties under physiological conditions were formed. The nanoparticles can differ in morphology from globular to fibrillar structures, depending on monomers used in the enzymatic reaction and the method of their formation. Nanoparticles obtained from lignin-like polymers of ferulic and gentisic acids can be loaded with low molecular weight hydrophobic compounds, including the anticancer drug doxorubicin. It has been shown that polyferulic nanoparticles are actively penetrate in tumor cells growing both in a monolayer culture and as part of spheroids, and, compared with a free compound, doxorubicin in the composition of nanoparticles has a greater cytotoxic effect on breast cancer cells. These data indicate the possibility of effective use of these carriers as passive targeted drug delivery in the treatment of tumors.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Традиционные варианты лечения рака фармакологическими препаратами имеют определенные ограничения, включая низкую селективность действия, недостаточную концентрацию лекарственного средства при достижении опухолевых тканей, цитотоксичность для здоровых тканей, а также развитие множественной лекарственной устойчивости. Создание новых средств доставки лекарств в клетки опухоли целевым образом в настоящее время рассматривается как один из важнейших вариантов решения этих проблем. Использование наночастиц (НЧ) – одна из наиболее активно развивающихся областей фундаментальной онкологии [1]. Для создания НЧ используются различные материалы: органические молекулы (липиды, альбумин, полилактиды на основе молочной или гликолевой кислот и их сополимеры) [2]; неорганические материалы (частицы золота, SiO2, графеновые нанотрубки) [3], а также вирусные частицы [4, 5]. Материалы, используемые в качестве носителей для адресной доставки, должны обладать рядом свойств: способностью переносить соединения различной природы (как гидрофильные, так и гидрофобные); сохраняться в организме достаточное для проявления лечебного эффекта время; целевым образом воздействовать на клетки опухоли; не обладать побочными эффектами. Не все материалы, используемые для получения НЧ, могут соответствовать этим требованиям. Например, наночастицы на основе полилактидов/гликолидов при биоразложении сильно закисляют микроокружение клеток [6]. Наночастицы на основе неорганических материалов, таких как серебро, золото, SiO2, в свою очередь, слишком долго не выводятся из организма, что приводит к накоплению наночастиц в печени, почках, легких и может приводить к нежелательным побочным эффектам – усилению окислительного стресса и выработке воспалительных цитокинов. Также НЧ из всех материалов могут поглощаться макрофагами, что снижает эффективную концентрацию НЧ в целевых клетках и органах. Поэтому в мире постоянно проводится разработка новых НЧ на основе материалов, обеспечивающих оптимальные фармакологические свойства.
В последние годы активно разрабатываются способы получения НЧ на основе биополимера лигнина. Лигнин – ароматическое полифенольное соединение, содержащееся в растениях. Лигнин нерастворим в воде, нетоксичен, дешев в получении, что определило его использование в разработке наночастиц. Недавно были получены и охарактеризованы биоразлагаемые НЧ на основе лигнина [7]. Опубликована работа, в которой НЧ на основе лигнина использовали для успешной доставки лекарственных препаратов в опухолевые клетки [8]. Это говорит о высоком потенциале использования новых НЧ на основе лигнина и его производных для терапии новообразований.
Лигнин-подобные полимеры схожи по строению с лигнином. Такие полимеры могут быть получены с использованием ферментативного синтеза из фенольных мономеров в результате действия оксидоредуктазы – лакказы, выделенной из разлагающих древесину грибов – базидиомицетов [9]. Также возможен химический синтез лигнин-подобных полимеров посредством окисления фенольной части мономера [10, 11]. Эти полимеры обладают рядом преимуществ по сравнению с натуральным лигнином: предсказуемостью и определенностью химической структуры, дешевизной синтеза и возможностью внесения модификаций в химический состав соединений в ходе синтеза. Все это позволяет улучшить такие характеристики наносистем, как заряд, стабильность, эффективность проникновения в опухолевые клетки и возможность их использования для пассивной [12] и адресной [13] доставки лекарственных соединений.
Цель данной работы – получение стабильных наночастиц на основе лигнин-подобных полимеров, синтезированных с использованием фермента лакказы, анализ их физико-химических свойств, цитотоксичности и эффективности проникновения в культивируемые клетки человека Bj-5ta, MDA-MB-231 и MCF-7.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ферментативный синтез лигнин-подобных полимеров. В работе использовали 12 фенольных мономеров (пирокатехин, 2,6-диметоксифенол, 3,5-диметоксифенол, 2-аминофенол, сиреневый альдегид, сиреневая, галловая, ванилиновая, орто-кумаровая, кофейная, феруловая и гентизиновая кислоты) для ферментативного синтеза водонерастворимых полимеров с использованием лакказы гриба Cerrena unicolor. Показано, что этот фермент способен генерировать водонерастворимые полимеры только из мономеров 2,6-диметоксифенола, феруловой и гентизиновой кислот. Хотя остальные мономеры имеют способность к окислению лакказой [14, 15], они не образовали полимеров в достаточном для визуализации количестве. Выход полимеров в пересчете на количество используемых в реакции фенольных мономеров (wt%) составил 66.3 ± 6.5% для 2,6-диметоксифенола, 48.09 ± 9.81% для феруловой кислоты и 13.78 ± 1.78% для гентизиновой кислоты.
Следовательно, можно предположить, что лакказа C. unicolor обладает селективностью относительно разных фенольных мономеров при формировании радикалов, способных к полимеризации. Данная активность, скорее всего, определяется структурой функциональных групп мономеров.
Анализ структуры полимеров полимеров феруловой и гентизиновой кислот. Для определения структуры водонерастворимых полимеров феруловой и гентизиновой кислот мы использовали методы ИК-Фурье и ЯМР-спектроскопии.
При анализе ИК-Фурье-спектров полученных полимеров были определены пики поглощения в области 1770–1750 см–1, которые отсутствовали в спектрах соответствующих мономеров (рис. 1). Эти результаты указывают на успешную полимеризацию обоих мономеров феруловых и гентизиновых кислот. Показано, что в процессе полимеризации участвуют карбоксигруппы мономеров, и образуется сложноэфирная связь по механизму поликонденсации. В остальном спектры мономера и полимера феруловой кислоты сходны (рис. 1а). Однако следует отметить, что у полимера гентизиновой кислоты обнаруживается добавочный пик поглощения в области 1207 см–1, который предполагает существование колебаний связей С–O–C, которые отсутствуют в мономере гентизиновой кислоты и возникают в процессе полимеризации (рис. 1б). Также для данного полимера характерен широкий пик в области 3700 см–1, скорее всего, являющийся результатом колебаний водородных связей полимера с водой. В совокупности анализ ИК-спектров подтверждает процесс полимеризации мономеров с использованием лакказы гриба Cerrena unicolor и косвенно указывает на более сложную структуру полимера гентизиновой кислоты по сравнению с полимером феруловой кислоты.
Рис. 1. ИК-Фурье-спектры полимеров (нижние графики) и мономеров (верхние графики): (а) – спектры полиферуловых полимеров и мономеров феруловой кислоты; (б) – спектры полигентизиновых полимеров и мономеров гентизиновой кислоты.
На полученных спектрах 1H-ЯМР в образцах феруловых полимеров наблюдается “остаток” димерных соединений ~10% (характеристические пики 5.73 и 4.20). Согласно спектру 1H-ЯМР, широкие пики 7.33–7.24, 6.86–6.82 и 6.82–6.76 получены от трех протонов водорода на бензольном кольце в структурной единице полимера (С2', C6', C5' соответственно) (рис. 2а). Эти пики указывают на успешную полимеризацию феруловой кислоты и подтверждают результаты, полученные методом ИК-Фурье-спектроскопии. Уширенные пики в области 7.58–7.43 относятся к атому С3 при двойной связи, пики 6.47–6.42 – к атому С2 при двойной связи. Пик метильной группы находится в области 3.8 (рис. 2б, 2в). Следует отметить, что такая структура полимера описана и охарактеризована ранее при использовании химического синтеза [16]. Следовательно, окислительная реакция, катализируемая лакказой гриба Cerrena unicolor, происходит по тому же пути, который наблюдается при химическом окислении мономеров в присутствии SOCl2.
Рис. 2. Спектры 1H-ЯМР полимеров: (а) – спектры полиферуловых полимеров; (б) – реакция конденсации мономеров с получением доминирующего димера; (в) – реакция полимеризации феруловой кислоты; (г) – спектры полигентизиновых полимеров; (д) – предполагаемая реакция полимеризации гентизиновой кислоты.
В настоящем исследовании впервые проведен ЯМР-анализ полимеров гентизиновой кислоты. Полученный спектр 1Н-ЯМР характеризуется уширенными пиками (возможно, это связано с малыми скоростями протонного обмена) (рис. 2г). Сдвиги в области 7.18 и 6.92 характерны для протонов при бензольном кольце гентизиновой кислоты. Пик 8.92 не характерен для данного мономера, поскольку появляется только при полимеризации соединения. Сдвиги 11.15 и 13.61 относятся к протонам гидроксигрупп (или карбоксигрупп), при этом их наличие в пробе указывает на присутствие двух разных соединений с пиками протонов при одном и том же атоме углерода, но в разных областях. Таким образом, данные 1Н-ЯМР-спектроскопии указывают на наличие двух соединений в составе полимера гентизиновой кислоты (рис. 2г). Также эти данные позволяют предположить, что полимер гентизиновой кислоты имеет разветвленную, нелинейную форму, и процесс полимеризации происходит в результате взаимодействия двух разных гидроксигрупп, поскольку протоны бензольного кольца показывают одинаковые ЯМР-спектры, однако пики гидроксигрупп (или карбоксигрупп) имеют разные сдвиги (рис. 2д).
Формирование наночастиц, их морфология и структура. Поскольку гидрофобные полимеры, растворенные в DMSO, сворачиваются при переводе в водную фазу, формируя наноструктуры, для получения наночастиц был использован метод диализа против воды (см. “Эксперим. часть”). После окончания диализа и осаждения агрегатов центрифугированием (1200 об/мин, 10 мин) суспензию, сформировавшуюся в диализном мешке, использовали для проточной цитометрии, что позволило определить количество частиц в заданном объеме.
Показано, что из 1 мг/мл раствора полимеров в DMSO в 1 мкл формируется 76 959 ± 8758 частиц полиферуловых НЧ (pFA), в то время как для поли- гентизиновых НЧ (pGA) это количество составило 4520 ± 2815 частиц. Эти данные указывают на меньшую способность водонерастворимых полимеров гентизиновой кислоты к формированию НЧ в водном растворе. Далее НЧ разделили двумя способами: фильтрованием суспензии НЧ через фильтр 0.22 мкм (pFA/0.22, pGA/0.22) и низкоскоростным центрифугированием (НЦ) (см. “Эксперим. часть”). Результаты просвечивающей электронной микроскопии (ТЕМ) позволили морфологически описать и разделить НЧ разных типов по отношению к исходному полимеру, а также по способу получения НЧ. Так, для полиферуловых НЧ (pFA/0.22) и полигентизиновых НЧ (pGA/0.22), полученных посредством фильтрования, характерна стержнеобразная структура (рис. 3а, 3в). Размер НЧ составляет в среднем 120 нм, что оптимально для прохождения НЧ в клетки эукариот. Более детальный анализ частиц показывает их неоднородную внутреннюю структуру с более плотными “ядрами” внутри. В случае, когда полиферуловые НЧ были сформированы диализом и осаждены низкоскоростным центрифугированием (pFA/НЦ), наблюдается стандартная для полимерных НЧ шарообразная форма с размером 200–500 нм (рис. 3б). В отличие от полиферуловых НЧ/НЦ, в осадке полигентизиновых НЧ, полученных в результате низкоскоростного центрифугирования (pGA/НЦ), были обнаружены преимущественно фибриллярные структуры большого размера, которые, вероятно, представляют агрегированные молекулы полимеров (рис. 3г). Этот факт указывает на ограниченную способность полигентизиновых полимеров к формированию НЧ, что подтверждает данные проточной цитометрии при определении количества частиц после диализа.
Рис. 3. Микрофотографии просвечивающей электронной микроскопии (ТЕМ): (а) – полиферуловые НЧ pFA/0.22. В правом углу микрофотография НЧ при увеличении (масштаб 100 нм) показывает их неоднородную структуру; (б) – НЧ, фракционированные из коллоидной смеси посредством низкоскоростного центрифугирования (pFA/НЦ); (в, г) – полигентизиновые НЧ, полученные с использованием фильтрации (pGA/0.22) (в) и низкоскоростного центрифугирования (pGA/НЦ) (г). Масштабные отрезки: 500 нм (а–в) и 1 мкм (г).
Поскольку результаты 1Н-ЯМР-спектроскопии полимеров гентизиновой кислоты показали наличие двух соединений в составе полимера, мы провели анализ состава полигентизиновых НЧ pGA/0.22. Для получения ЯМР-спектров молекул, формирующих полигентизиновые pGA/0.22, частицы осаждали центрифугированием (18 000 об/мин, 1 ч) на центрифуге Avanti JXN-26 (Beckman Coulter, США) и растворяли в дейтерированном DMSO. На полученных спектрах 1H-ЯМР (рис. 4) представлено доминантное соединение, имеющее гентизиновый кор от мономера (сдвиги 7.17 и 6.93 – протоны бензольного кольца мономера). Пик 8.92, который наблюдался в исходном спектре препарата полимера, полученного в результате ферментативного синтеза (рис. 2г), отсутствует. Следовательно, одно из двух соединений (указанных на рис. 2г), синтезированных с помощью лакказы из мономеров гентизиновой кислоты, отсутствует в составе НЧ. Частицы образованы только одним доминантным соединением.
Рис. 4. Спектры 1H-ЯМР полимеров гентизиновых кислот, полученных из НЧ pGA/0.22.
Таким образом, ЯМР-спектры дают представление о препарате полимеров гентизиновой кислоты как гетерогенной смеси. В ней присутствуют два основных водонерастворимых соединения, которые разветвлены, в отличие от феруловых полимеров, имеющих линейную форму, и только один из них формирует НЧ.
Полученные данные указывают на то, что лигнин- подобные частицы сильно различаются по морфологии в зависимости от методов очистки суспензий НЧ и самих полимеров. Линейный полимер феруловой кислоты – более эффективная субстанция для формирования НЧ, чем разветвленный полимер гентизиновой кислоты.
Физико-химические свойства НЧ. Для определения гомогенности суспензии НЧ, их размера и стабильности в физиологических растворах использовали метод динамического светорассеяния (DLS). По результатам DLS pFA/0.22 и pGA/0.22 имеют оптимальные размеры для проникновения в клетки (100–200 нм) и низкий индекс полидисперсности (PDI), что указывает на гомогенность суспензии НЧ (рис. 5а, табл. 1). ζ-Потенциал в воде около –30 мВ указывает на анионную природу НЧ и предотвращает их агрегацию вследствие электростатической стабилизации. Необходимо отметить, что в отличие от pFA/0.22 и pGA/0.22, полидиметоксифенольные НЧ pDMF/0.22, полученные нами из полимеров диметоксифенола с применением сходных процедур диализа и фильтрации, в анализе методом DLS показали наличие добавочных пиков, что указывает на гетерогенность коллоидной суспензии этих НЧ (рис. 5а). Для определения физико-химических свойств pFA/0.22 и pGA/0.22 в физиологических растворах, обладающих определенной ионной силой, суспензию НЧ инкубировали в фосфатном буфере (PBS, рН 7.2). Было показано, что с увеличением времени инкубации размер НЧ, сформированных полигентизиновыми и полиферуловыми полимерами, изменяется незначительно (рис. 5б). Этот факт указывает на стабильность НЧ в буферных системах, поскольку индекс полидисперсности (PDI) не превышает 0.4. Также было показано, что суспензии pFA/0.22 и pGA/0.22 стабильны в растворах бычьего сывороточного альбумина (БСА) при концентрациях БСА 0.01–1% (рис. 5г, 5д).
Рис. 5. Результаты анализа полученных наночастиц методом динамического светорассеяния (DLS). (а) – График распре- деления наночастиц по размерам, где pGA/0.22 – полигентизиновые НЧ, pFA/0.22 – полиферуловые НЧ, pDMF/0.22 – полидиметоксифенольные НЧ, полученные в результате фильтрования диализованных полимеров через мембрану с размером пор 0.22 мкм; (б) – стабильность НЧ, определенная по изменению гидродинамического радиуса (гистограмма) и индекса полидесперсности (PDI, точки) в буфере PBS (рН 7.2); (в) – распределение размеров полиферуловых частиц pFA/НЦ, полученных после низкоскоростного центрифугирования. Наличие только одного пика указывает на гомогенность суспензии; (г) – распределение размеров полиферуловых частиц pFA/0.22 после инкубации в растворе бычьего сывороточного альбумина (БСА) различной концентрации. Мажорные пики (~100 нм) показывают интактные НЧ. Наличие минорных пиков (<100 нм) указывает на частичное нарушение структуры НЧ, пики в области 4–10 нм характерны для светорассеяния молекул БСА в растворе, пики >100 нм определяют агрегацию НЧ; (д) – распределение размеров полигентизиновых частиц pGA/0.22 после инкубации в растворах БСА различной концентрации.
Таблица 1. Физико-химические характеристики полученных наночастиц
НЧ | ζ-потенциал, мВ | Z-average, нм | PDI |
pFA/0.22 | –31.9 ± 0.1 | 124.6 ± 14.5 | 0.101 ± 0.024 |
pGA/0.22 | –28.8 ± 0.8 | 118.9 ± 4.4 | 0.199 ± 0.038 |
pDMF/0.22 | –24.9 ± 0.2 | 259.2 ± 115.4 | 0.188 ± 0.074 |
Отрицательные высокие значения ζ-потенциала указывают на анионную природу НЧ и их электростатическую стабильность; Z-average – средний гидродинамический диаметр НЧ; PDI – индекс полидисперсности, значения до 0.4 указывают на монодисперсность суспензии НЧ.
Полиферуловые НЧ, полученные в результате центрифугирования диализной смеси pFA/НЦ, имеют размер 265.4 ± 14.2 нм (рис. 5в) и PDI = 0.048 ± 0.022. Эти данные указывают на гомогенность суспензии и отсутствие значимой полидесперсности. Отсутствие агрегации обеспечивается низкими значениями ζ-потенциала (–47 мВ). Как и ожидалось, в отличие от поли- феруловых pFA/НЦ, полигентизиновые pFA/НЦ, полученные в результате низкоскоростного центрифугирования, показали высокий индекс полидисперсности (PDI = 0.8 ± 0.1), распределение НЧ по размеру составило 100–1000 нм, что указывает на гетерогенный состав суспензии и соответствует данным, полученным с помощью электронной микроскопии (рис. 3г).
Таким образом, посредством диализа формируются два типа частиц, которые можно разделить фильтрованием через фильтр 0.22 мкм (pGA/0.22 и pFA/0.22) или низкоскоростным центрифугированием (pGA/НЦ и pFA/НЦ). Данные частицы отличаются размерами и значениями ζ-потенциала. В отличие от полиферуловых НЧ, наличие полидисперсности и возможная агрегация полимеров гентизиновых кислот в пробах pGA/НЦ, полученных после низкоскоростного центрифугирования, исключают использование этих НЧ для доставки лекарств в клетки. В совокупности полученные данные позволяют предположить, что структура полимеров определяет их способность образовывать стабильные НЧ.
Наночастицы, сформированные полимерами феруловой и гентизиновой кислот, нетоксичны для культивируемых клеток человека. Потенциальную цитотоксичность НЧ для клеток человека оценивали с использованием клеточных линий рака молочной железы MDA-MB-231 и MCF-7, а также нормальных фибробластов крайней плоти человека Bj-5ta. Для этого клетки (7.5 × 103 на лунку) инкубировали в 96-луночных планшетах в присутствии НЧ pFA/0.22 и pGA/0.22 (0–100 мг/мл в пересчете на количество полимера), количество жизнеспособных клеток определяли с помощью МТТ-теста в течение 24, 48 и 72 ч обработки. Показано, что даже при максимальной концентрации НЧ 100 мг/мл, что составляет 100 НЧ на клетку, количество жизнеспособных клеток для всех трех линий было сопоставимо с показателями контроля. При инкубировании в течение 72 ч количество жизнеспособных клеток составило 100%. Полученные данные свидетельствуют о том, что полимеры феруловой и гентизиновой кислот биосовместимы и нетоксичны для клеток человека.
Загрузка НЧ низкомолекулярными соединениями. Для анализа возможности переноса низкомолекулярных органических соединений полиферуловые НЧ pFA/0.22 загружали флуорохромом Vybrant. Эффективность инкапсуляции (отношение количества соединения в НЧ к его исходному показателю) составила 4.8 ± 0.8% от общего количества флуорохрома в растворе.
Далее для определения способности НЧ доставлять фармакологические соединения в клетки человека полиферуловые НЧ pFA/0.22 и pFA/НЦ, а также полигентизиновые НЧ pGA/0.22 загружали противоопухолевым препаратом доксорубицином (Dox). Эффективность инкапсуляции Dox для поли- феруловых НЧ pFA/0.22 составила 5.45 ± 0.73% (значения, сходные с загрузкой флуорохромом Vybrant). Для полиферуловых НЧ pFA/НЦ инкапсуляция Dox составила 15.30 ± 0.20%. Эффективность загрузки полигентизиновых НЧ pGA/0.22 составила 21.7 ± 0.32%. Следует отметить, что такая эффективность (8–15%) стандартна для НЧ, образованных из лигниновых полимеров [8]. Более высокое содержание Dox в полиферуловых НЧ pFA/НЦ можно объяснить их большим объемом относительно НЧ pFA/0.22. Следовательно, можно предположить, что при успешном поглощении этих НЧ опухолевыми клетками может быть достигнута более высокая концентрация лекарственного соединения в клетках-мишенях.
Для эффективного переноса фармакологических препаратов подразумевается, что НЧ будут находиться в плазме крови, при этом они должны удерживать загруженное лекарство в течение времени, необходимого для достижения целевых тканей. Поскольку противоопухолевый препарат Dox обладает флуоресценцией (возбуждение 488 нм, эмиссия 560– 615 нм), для анализа эффлюкса загруженного в НЧ Dox использовали метод микродиализа [17] с последующей детекцией флуоресценции Dox в растворе, содержащем 5% альбумина сыворотки быка (БСА) (рис. 6а). Показано, что через 24 ч гентизиновые НЧ pGA/0.22 удерживают ~90% соединения (выход в раствор – 10.3%). Для полиферуловых частиц pFA/НЦ и pFA/0.22 эти значения составили ~78% (22.2 ± 2.2% в растворе) и 61% (39.0 ± 0.2% свободного соединения в растворе) соответственно. Таким образом, НЧ, сформированные полиферуловыми полимерами и имеющие разную морфологию (рис. 3а, 3б), отличаются по способности удерживать противоопухолевый препарат в белковых растворах. Следует отметить, что pFA/НЦ, которые более стабильны в присутствии 5% БСА, выводят вещество в раствор постепенно, моделируя пролонгированное высвобождение лекарственного средства.
Рис. 6. Выход доксорубицина (Dox) из наночастиц в различных условиях среды. (а) – Выход Dox из НЧ в фосфатном буфере, содержащем 5% БСА, в течение 24 ч; (б–г) – выход Dox (%) из НЧ через 3 и 24 ч инкубации в условиях разной кислотности: для полиферуловых НЧ pFA/0.22 – 27% через 3 ч и 65% через 24 ч при рН 5.5–6.8 против 9 и 41% при рН 7.2–7.4 (б); для полиферуловых pFA/НЦ – 6% через 3 ч и 18% через 24 ч при рН 5.5–6.8 против 1 и 2% при рН 7.2–7.4 (в); – для полигентизиновых НЧ pGA/0.22 – 44% через 3 ч и 65% через 24 ч при рН 5.5–6.8 против 17 и 42% при рН 7.2–7.4 (г).
Показано, что в микроокружении опухолевых клеток наблюдается повышенная кислотность среды (рН 6.5–6.8) [18]. Мы проанализировали эффективность выхода доксорубицина из НЧ в растворах с разной кислотностью. Показано, что НЧ более эффективно высвобождают доксорубицин при значениях рН 5.5 и 6.8, чем в условиях нейтрального рН 7.2–7.4. Однако в течение первых трех часов Dox эффективнее выходит из полиферуловых НЧ pFA/НЦ по сравнению с полиферуловыми и полигентизиновыми НЧ pFA/0.22, pGA/0.22, и этот эффект усиливается с увеличением времени инкубации (рис. 6б–6г). Эти результаты эффлюкса доксорубицина предполагают общий механизм взаимодействия загруженного низкомолекулярного соединения с полиферуловыми и гентизиновыми полимерами, формирующими НЧ. В совокупности полученные данные указывают на возможность использования лигнин-подобных НЧ для адресной доставки, когда выход из НЧ лекарственного соединения будет наиболее эффективно осуществляться в микроокружение опухолевых клеток по сравнению с нормальными тканями.
Поглощение лигнин-подобных НЧ клетками человека. Загруженные прижизненным флуорохромом Vybrant НЧ pFA/0.22 использовали для изучения эффективности проникновения НЧ в опухолевые клетки рака молочной железы человека MDA-MB-231 и их визуализации. После 6-часовой инкубации клеток рака молочной железы MB-MDA-231 с полиферуловыми НЧ, загруженными флуорохромом, наблюдали флуоресценцию в виде дискретных точек (рис. 7в), в то время как в клетках, обработанных раствором флуорохрома, флуоресцентный сигнал был диффузно распределен в цитоплазме (рис. 7б). Следует отметить, что флуоресцентные НЧ концентрировались в определенных компартментах клетки, а именно в области вблизи ядра. Как было показано ранее для карбоксилированных полистиреновых частиц, а также для квантовых точек, конъюгированных с пептидом, эти наночастицы накапливаются в эндосомах, которые мигрируют вдоль микротрубочек и концентрируются в центросомах вблизи ядер [19, 20]. Мы можем предположить, что подобный механизм пенетрации и распределения внутри клетки реализуется и для лигнин-подобных НЧ.
Рис. 7. Поглощение наночастиц культивируемыми клетками человека. (а–в) – Микрофотографии флуоресценции флуорохрома Vybrant: (а) – необработанные клетки MDA-MB-231; (б) – клетки MDA-MB-231 после инкубации с флуорохромом Vybrant (зеленый); (в) – клетки MDA-MB-231, инкубированные с НЧ pFA/0.22, загруженными Vybrant. В образцах (а) и (в) ядра окрашены DAPI-405 (синий), масштабные отрезки – 10 мкм; (г–е) – гистограммы результатов проточной цитометрии: (г) – зависимость поглощения клетками MDA-MB-231 загруженных Dox частиц pFA/0.22 и pGA/0.22 (100 НЧ на 1 клетку) от времени инкубации; (д) – график интернализации pFA/НЦ для клеток MDA-MB-231; (е) – график интернализации pFA/НЦ для клеток MCF-7.
Поскольку противоопухолевый препарат Dox обладает флуоресценцией, анализ эффективности проникновения соединения в клетки рака молочной железы MDA-MB-231 и MCF-7 в виде загруженного в наночастицы и в свободной форме, определяли подсчетом флуоресцирующих клеток посредством проточной цитометрии. Показано, что поли- гентизиновые НЧ pGA/0.22 по сравнению с полиферуловыми НЧ обладают низкой эффективностью пенетрации в клетки рака молочной железы MDA-MB-231 (7% против 90% в течение первого часа), и увеличение времени инкубации до 24 ч не приводит к увеличению количества флуоресцирующих клеток (рис. 7г). Поскольку ранее нами было показано, что полигентизиновые НЧ pGA/0.22 стабильны и обладают хорошей способностью удерживать загруженный Dox в белковых растворах (рис. 6а), малые значения флуоресценции, скорее всего, относятся к низкой способности этих НЧ проникать внутрь клеток, нежели с их разрушением в ростовой среде. Можно предположить, что низкое поглощение полигентизиновых НЧ опухолевыми клетками связано с их неспособностью эффективно взаимодействовать с клеточными мембранами, однако этот факт требует дальнейшего изучения.
Для НЧ pFA/НЦ показано, что уже через 5 мин инкубации можно наблюдать флуоресцирующие клетки, и их количество выше, чем в популяции клеток, обработанных неинкапсулированным свободным Dox (рис. 7д, 7е). Следует отметить, что это соотношение сохраняется в течение первых часов, однако количество клеток MDA-MB-231, которые в равной степени поглощают свободные Dox и НЧ, выравнивается после 1 ч инкубации (рис. 7д), в то время как в клетках MCF-7 эта разница сохраняется в течение 24 ч (рис. 7е). Кроме того, клетки MDA-MB-231 более активно поглощают полиферуловые НЧ, чем клетки MCF-7, что наиболее очевидно в первые 15 мин инкубации (рис. 7д, 7е). Известно, что трижды отрицательные базальные клетки MDA-MB-231 представляют собой наиболее агрессивную, метастазирующую форму рака молочной железы, чем люминальные клетки MCF-7 [21]. Также показано, что по сравнению с эпителиальными клетками MCF-7, клетки MDA-MB-231 прошли эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП), т.е. имеют мезенхимальный фенотип и, вследствие этого, обладают повышенной способностью к миграции, инвазии и метастазированию [22]. Наши данные показывают, что уже через 5 мин инкубации клетки MDA- MB-231 лучше поглощают и накапливают полиферуловые НЧ pFA/НЦ (64% клеток в популяции клеточной линии), чем клетки MCF-7 (41%). Является ли эта разница в эффективности поглощения НЧ общей характеристикой мезенхимальных клеток по сравнению с эпителиальными клетками или представляет собой частный случай для этих клеточных линий? Это важный вопрос, требующий дополнительных исследований. Однако полученный результат предполагает, что лигнин-подобные НЧ могут быть эффективно использованы для лечения наиболее агрессивных, метастазирующих форм рака.
Эффективность ингибирования роста опухолевых клеток доксорубицином, инкапсулированным в НЧ. Для определения цитотоксичности свободного Dox и Dox, переносимого полиферуловыми НЧ, для опухолевых клеток рака молочной железы MDA-MB-231 и MCF-7 использовали МТТ-тест. Поскольку в организме концентрация НЧ в опухолевых тканях нестабильна и постоянно снижается вследствие вымывания НЧ кровотоком, утилизации клетками опухоли и стромы, а также в результате их поглощения инфильтрующими ткани макрофагами, в нашем эксперименте культивируемые клетки обрабатывали полиферуловыми НЧ pFA/НЦ, загруженными Dox или свободным соединением, в течение 15 мин, затем препарат удаляли с последующей отмывкой клеток и инкубацией в полной ростовой среде в течение 48 ч. Показано, что клетки, инкубированные с загруженными Dox НЧ, имеют более низкую выживаемость по сравнению с клетками, обработанными свободной формой соединения (рис. 8а). Можно предположить, что по сравнению с препаратом, растворенным в среде, локальная концентрация Dox в клетках повышается за счет активного поглощения загруженных НЧ (см. рис. 7д, 7е), что приводит к их гибели. Для подтверждения результатов МТТ-теста для клеточной линии MDA-MB-231 провели оценку клеточной гибели с использованием аннексина V. Показано, что после инкубации с загруженными Dox полиферуловыми НЧ/НЦ вступивших в апоптоз клеток было на 8% больше по сравнению с клетками, инкубированными со свободным Dox (37.2 и 29.3% соответственно).
Рис. 8. Анализ цитотоксичности свободного Dox и доксорубицина в составе наночастиц. (а) – МТТ-тест клеточных линий MDA-MB-231 и MCF-7 после 15 мин обработки с последующей отмывкой образцов от соединения. Время инкубации после обработки – 48 ч; (б) – результаты проточной цитометрии показывают количество аннексин V-FITC-положительных, апоптотических клеток MCF-7 в составе сфероидов через 48 ч после обработки либо свободным Dox, либо соединением в составе полиферуловых НЧ pFA/НЦ в условиях постоянного присутствия Dox (левая панель) или его удаления из среды через 15 мин инкубации (правая панель).
Сфероиды (3D-культуры) – модельные объекты для изучения поведения, проникновения и накопления НЧ в солидных опухолях. Используя сфероиды, сформированные из плотно соединенных клеток MCF-7 [23], мы показали, что по сравнению со свободным Dox загруженные НЧ pFA/НЦ более эффективно индуцируют апоптоз (рис. 8б). Так, после инкубации сфероидов с загруженными НЧ в условиях постоянного присутствия препарата в среде наблюдали 51.8% апоптотических клеток по сравнению с 35.6% для свободного Dox. Следует отметить, что в условиях удаления соединения из среды после 15 мин инкубации загруженные НЧ также вызывали более высокий уровень апоптоза опухолевых клеток – 15.3% против 9.3% для свободного Dox (рис. 8б). Следовательно, можно предположить, что НЧ могут повышать локальную концентрацию лекарства в опухолевых клетках и усиливать цитотоксический эффект противоопухолевого препарата.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Выделение и очистка лакказы из гриба Cerrena unicolor. Гриб Cerrena unicolor (ВКМ F-3196, Всероссийская коллекция микроорганизмов, https://www.vkm.ru) хранили при 4°C в пробирках, содержащих скошенный сусло-агар, в условиях ежемесячного пересева культуры. Для роста инокулята в жидкой среде клетки стерильно переносили с агара в культуральную среду (пептон – 2.0 г/л, MgSO4 . 7H2O – 0.2 г/л, дрожжевой экстракт – 2.0 г/л, глюкоза – 2%, NaH2PO4 – 20 мМ; рН 5.0). Индукцию синтеза лакказы и выделение фермента проводили согласно методике, описанной ранее [9]. Активность фермента во фракциях, полученных в процессах гель-фильтрации и ионообменной хроматографии, определяли спектрофотометрически посредством измерения скорости окисления субстрата лакказы ABTS (Sigma-Aldrich, США). Ионообменную хроматографию и гель-фильтрацию проводили с помощью системы ACTA FPLC (GE Healthcare, США). Концентрацию белка определяли методом Бредфорд, гомогенность препарата лакказы оценивали с помощью 12%-ного денатурирующего гель-электрофореза. Белки в гелях окрашивали Кумасси R250. Молекулярную массу денатурированного белка (две изоформы: 75 и 67 кДа) определяли с помощью набора маркеров молекулярных весов 14.4–116.0 кДа (Thermo Fisher Scientific, США).
Синтез лигнин-подобных полимеров с использованием лакказы. Исследовали 12 фенольных мономеров (Sigma-Aldrich, США) на их способность формировать полимеры в окислительных реакциях. Для подбора условий успешного синтеза водонерастворимых полимеров использовали различные соотношения фермент–субстрат в реакционной смеси: 1) 0.06 Е/мл лакказы и мономеры в концентрации 15 мМ; 2) 0.06 Е/мл лакказы и мономеры в концентрации 40 мМ; 3) 0.36 Е/мл лакказы и мономеры в концентрации 15 мМ. Полимеры синтезировали в реакционной смеси объемом 50 мл, содержащей различные концентрации каждого мономера (15 или 40 мМ). Навески мономеров растворяли в 5 мл 96%-ного этанола, за исключением натриевой соли гентизиновой кислоты, которую растворяли в 5 мл дистиллированной воды. Далее доводили объем до 50 мл с помощью 20 мМ ацетата натрия (рН 5.0), добавляли разные количества фермента (0.06 или 0.36 Е/мл лакказы) и инкубировали 24 ч при 30°C и постоянном перемешивании для доступа кислорода в реакционные смеси. По окончании ферментативной реакции смеси центрифугировали 30 мин при 4000 об/мин, осадок водонерастворимых полимеров промывали водой и дополнительно центрифугировали. Затем осадок переносили в чашку Петри и высушивали на воздухе в течение 24 ч. Далее полимеры растворяли в DMSO (Sigma-Aldrich, США), измеряли спектры поглощения на спектрофотометре UV-1650PC (Shimadzu, Япония) при комнатной температуре для подтверждения полимеризации. Объем кюветы – 1 мл, длина оптического пути – 1 см. Синтез полимеров проводили в трех повторах.
Анализ структуры полимеров методом ИК-Фурье-спектроскопии. Для определения ИК-спектров (Fourier-transform infrared spectroscopy, FTIR) к препаратам феруловых и гентизиновых полимеров в количестве 50 мг добавляли KBr (в соотношении 1 : 1), полученную смесь до однородности растирали в агатовой ступке. Первоначально определяли спектры KBr при комнатной температуре. Далее измеряли ИК-спектры препарата и вычитали из них спектры KBr. Полученные значения спектров корректировали на спектральный вклад паров воды и CO2 с последующим анализом в диапазоне волновых чисел 4000–650 см–1.
Спектры полимеров определяли с помощью ИК-Фурье-спектрометра Nicolet 6700, оснащенного приставкой Smart Orbit с бриллиантовым ATR-кристаллом (Thermo Scientific, США): измерения проводили в режиме ATR на бриллиантовом ATR-кристалле с оптическим путем 4 мкм, используя MCT-детектор (охлаждение жидким азотом), сканирование в диапазоне волновых чисел 4000–650 см–1 с разрешением 1 см–1, усреднением по 256 спектрам. В качестве контроля использовали соответствующие мономеры.
Анализ структуры полимеров методом ЯМР- спектроскопии. Полимеры, полученные посредством ферментативного синтеза, высушивали в эксикаторе и в концентрации 10 мг/мл растворяли в дейтерированном DMSO. Спектры 1Н- и 13С-ЯМР регистрировали при комнатной (25°C) температуре на спектрометре Avance 400 (Bruker, Германия) с рабочей частотой 400 и 100 МГц соответственно. Растворители и внутренние стандарты (остаточные протоны дейтерорастворителей) – DMSO-d6; химические сдвиги указаны относительно Me4Si (для 1Н и 13С).
Формирование наночастиц посредством диализа. Формирование НЧ производили методом диализа против воды Milli-Q с использованием диализных мембран (Dialysis Tubing, 12–14 кДa, Sigma-Aldrich, США). При диализе происходит замещение органического растворителя водой и образование водонерастворимых НЧ. Полученные полимеры (1 мг/мл) растворяли в DMSO. Полиэтиленгликоль (ПЭГ) с молекулярной массой 20 000 MW (Loba Chemie Fischamend, Австрия) – реагент, применяемый для стабилизации НЧ в физиологических растворах [24], растворяли в DMSO и добавляли в конечной концентрации 0.5 мг/мл к раствору полимеров (массовое соотношение полимер/ПЭГ в растворе 2 : 1 соответственно). Полученный раствор помещали в диализные мешки и диализовали против 500 мл воды Milli-Q при постоянном перемешивании и смене диализного раствора 3 раза через 15 мин, 3 ч и 20 ч.
По окончании диализа суспензию НЧ центрифугировали 10 мин при 1200 об/мин для удаления агрегатов, супернатант переносили в пробирку эппендорф с последующим центрифугированием при 2500 об/мин в течение 10 мин. Затем супернатант, содержащий НЧ, фильтровали через фильтры (TPP, Швейцария) с размером пор 0.22 мкм (препарат НЧ pFA/0.22 и pGA/0.22), а осадок ресуспендировали в воде Milli-Q c последующим центрифугированием при 2500 об/мин в течение 10 мин. После двух раундов отмывки осадок ресуспендировали в 1 мл стерильной воды Milli-Q (препараты pFA/НЦ и pGA/НЦ). Далее все полученные препараты использовали для определения размера и морфологии НЧ методами электронной микроскопии и динамического светорассеяния (DLS).
Определение концентрации наночастиц методом проточной цитофлуориметрии. Суспензии изучаемых НЧ анализировали на проточном цито- флуориметре Novocyte (ACEA Biosciences, Inc., США) при следующих условиях: Threshold SSH-H 1000, объем пробы – 10 мкл, скорость потока – slow. При необходимости пробы разбавляли в 10–100 раз.
Оценка структуры наночастиц методом просвечивающей электронной микроскопии. Для оценки морфологии НЧ каплю суспензии НЧ наносили на поверхность медной сетки, покрытой форм- варовой пленкой. Нанесенному образцу давали адсорбироваться в течение 2 мин, а затем удаляли избыток образца с помощью фильтровальной бумаги. Препараты просматривали на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400 (JEOL, Япония) при ускоряющем напряжении 80 кВ и регистрировали случайные изображения репрезентативных полей наблюдения с помощью 11-мегапиксельной ПЭМ-камеры MORADA G2 (EMSIS GmbH, Германия). Для каждого независимого эксперимента синтеза полимеров и формирования НЧ получили шесть микрофотографий.
Анализ НЧ методом DLS. Анализ НЧ методом динамического светорассеяния (dynamic light scattering, DLS) проводили при 20°C и длине волны 633 нм с использованием прибора Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd., Великобритания).
Для оценки стабильности в физиологических условиях суспензию НЧ помещали в физиологический раствор PBS (фосфатно-солевой буфер, рН 7.2) и растворы бычьего сывороточного альбумина (БСА). В случае PBS к пробам НЧ в воде (1 мг/мл) добавляли 10× раствор PBS (pH 7.2) до однократного разведения, перемешивали и инкубировали 60 мин при 20°C. Образцы отбирали через 0, 5, 60 мин и анализировали посредством DLS. В случае изучения стабильности НЧ в белковых растворах БСА к пробам НЧ (1 мг/мл) добавляли 10%-ный раствор БСА до конечных концентраций БСА 1, 0.1, 0.01%, затем инкубировали 60 мин при 20°C. Образцы отбирали через 0, 5, 60 мин и анализировали посредством DLS. Анализ проводили в трех повторах.
Получение загруженных наночастиц. Полимеры в концентрации 1 мг/мл в DMSO (Sigma-Aldrich, США) смешивали с 0.2 мг/мл Dox (Sigma-Aldrich, Германия), растворенного в DMSO, в объемном соотношении полимер–краситель 1 : 0.2 и диализовали 24 ч против 500 мл воды Milli-Q (Dialysis Tubing, 12−14 кДa; Sigma-Aldrich, США) в вытяжном шкафу при постоянном перемешивании и смене буфера 3 раза через 15 мин, 3 ч и 20 ч. После последней смены диализного раствора интенсивность перемешивания увеличивали в 2 раза. Затем пробы сформированных в результате диализа НЧ собирали из диализного мешка в пробирки и фракционировали посредством центрифугирования (НЧ/НЦ) или фильтрации (НЧ/0.22), как описано выше. Для загрузки НЧ прижизненным красителем Vybrant первоначально готовили 10 мМ раствор Vybrant CFDA SE Cell Tracer Kit (Invitrogen, США) согласно инструкции производителя. Затем концентрацию флуорохрома разбавляли до 100 мкМ с помощью DMSO. В дальнейшем этот раствор использовали для загрузки НЧ методом, используемым для Dox.
Анализ эффективности загрузки наночастиц низкомолекулярными соединениями и эффлюкса вещества из наночастиц. Эффективность инкапсулирования флуоресцентных низкомолекулярных соединений (Dox или Vуbrant) в НЧ оценивали с использованием флуоресцентного ридера FilterMax F5 (Molecular Devices, США). К 50 мкл водной суспензии загруженных НЧ добавляли 50 мкл DMSO и анализировали на 96-луночном планшете при следующих длинах волн: поглощение при 485 нм, испускание при 595 нм. Эффективность инкапсулирования рассчитывали как соотношение исходной флуоресценции соединения с известной концентрацией, растворенного в DMSO, и этого же соединения, загруженного в НЧ.
Для оценки эффлюкса доксорубицина из загруженных НЧ в белковых растворах использовали метод микродиализа. Для этого 100 мкл суспензии НЧ помещали в верхние отсеки центрифужных пробирок-концентраторов (IVSS VIVASPIN, 15 мл, 10 кДа; Sigma-Aldrich, США), далее добавляли 900 мкл растворов БСА в PBS (pH 7.2; Sigma-Aldrich, США) до конечной концентрации 5% и инкубировали при вращении на платформе Multi RS-60 (Biosan, Латвия). Отбор проб (по 100 мкл) проводили из нижней части пробирки через 15 и 30 мин, 1, 3 и 24 ч инкубации. В качестве отрицательного контроля использовали раствор PBS (pH 7.2), в качестве положительного контроля – раствор Dox в PBS (pH 7.2, 0.2 мг/мл). Процент выхода флуорохрома из НЧ оценивали по интенсивности флуоресценции, концентрацию Dox в отбираемых пробах рассчитывали относительно значений флуоресценции при различных разведениях соединения. Анализ проводили в трех повторах. Интенсивность флуоресценции измеряли при помощи ридера FilterMax F5 (Molecular Devices, США) при следующих длинах волн: поглощение при 485 нм, испускание при 595 нм.
Для оценки эффлюкса Dox из НЧ в условиях различных рН применяли аналогичную процедуру, описанную выше, где суспензию НЧ инкубировали в 20 мМ растворах Tris-HCl с различными значениями рН (5.5, 6.8, 7.2). В качестве контроля использовали раствор PBS (pH 7.2). Процент выхода флуорохрома из НЧ оценивали по флуоресценции Dox в пробах, отбираемых из нижней части пробирки.
Культивирование опухолевых клеток человека. В работе использовали клеточные линии: MDA-MB-231 и MCF-7 (рак молочной железы), а также иммортализованные нормальные фибробласты крайней плоти человека Bj-5ta. Клеточные линии были получены из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва, Россия). Клетки MDA-MB-231, MCF-7 и Bj-5ta культивировали во флаконах T-25 (Thermo Fisher Scientific, США) на ростовой среде DMEM с добавлением 5% FBS (ПанЭко, Россия) и пенициллин-стрептомицина (50 ME/мл) (ПанЭко, Россия). Клетки инкубировали в CO2-инкубаторе при 37°C и 5% СО2 во влажной атмосфере. Все манипуляции проводили в ламинарных боксах второго класса защиты в условиях повышенной стерильности. Для анализа роста клеток и достижения конфлюэнтности клеточного монослоя использовали инвертированный микроскоп при увеличении 20× (OPTON, Германия).
Оценка проникновения наночастиц в клетки методом флуоресцентной микроскопии. Для загрузки Dox и Vybrant в НЧ использовали метод диализа при формировании НЧ. Стерилизацию НЧ pFA/0.22 и pGA/0.22 обеспечивали фильтрованием (Syringe-Filter 0.22 мкм; TPP, Швейцария). НЧ pFA/НЦ, фракционированные из коллоидного раствора с помощью низкоскоростного центрифугирования, стерилизовали посредством УФ-облучения в течение 15 мин. Далее, после определения количества НЧ, стерильные препараты добавляли к культивируемым клеткам.
Клетки MDA-MB-231 (150 тыс. клеток) высевали на покровные стекла, помещенные в чашки Петри диаметром 3 см (Tissue Culture Dish, Costar, США), содержащие 2 мл полной ростовой среды, клетки инкубировали в СО2-инкубаторе при 37°C. На следующий день ростовую среду удаляли, клетки 1 раз промывали PBS (pH 7.2), затем добавляли стерильный раствор НЧ, загруженных флуорохромом (100 мкг/мл в 1.5 мл DMEM, 5% FBS), и инкубировали 6 ч при 37°C в СО2-инкубаторе. В качестве положительного контроля флуоресценции клетки также инкубировали в присутствии 5 мкМ флуорохрома Vybrant согласно инструкции компании-производителя. По окончании времени инкубации клетки дважды промывали PBS (pH 7.2) для удаления НЧ и фиксировали 15 мин раствором 4%-ного параформальдегида в PBS при комнатной температуре. Затем фиксированные клетки промывали 2 раза PBS и окрашивали раствором DAPI-405 (2.5 мкг/мл, 10 мин) для визуализации ядер. По окончании процедуры клетки промывали PBS, покровное стекло переносили на предметное стекло, содержащее SlowFade Diamond Antifade Mountant (Invitrogen, США) таким образом, чтобы клетки были между стеклами. Флуоресценцию Vybrant и DAPI-405 анализировали с использованием набора фильтров с длинами волн G 365 нм возбуждения и BP 445/50 нм испускания для DAPI-405, BP 470/27 нм возбуждения и DBP 512/30 + 630/98 нм испускания для Vybrant на флуоресцентном микроскопе AXIO Imager.A1 (Zeiss, Германия) с камерой AxioCamMRC, программное обеспечение Zeiss Axiocam.
Оценка накопления частиц в клетках методом проточной цитофлуориметрии. Клетки MDA-MB-231 и MCF-7 высевали на чашки Петри диаметром 3 см (Tissue Culture Dish, Costar, США), содержащие 2 мл полной ростовой среды (DMEM или RPMI), и инкубировали 24 ч при 37°C в СО2-инку- баторе. На следующий день ростовую среду удаляли, клетки 1 раз промывали PBS (pH 7.2), затем добавляли стерильную суспензию лигниновых НЧ в PBS, загруженных Dox (15 мкМ), в объеме 1 мл и инкубировали в течение 5, 10 и 15 мин, 1, 3 и 24 ч при 37°C в СО2-инкубаторе. В качестве отрицательного контроля использовали клетки без добавления НЧ. В качестве положительного контроля флуоресценции клетки также инкубировали в присутствии 15 мкМ раствора Dox. По окончании времени инкубации клетки дважды промывали 1 мл PBS (pH 7.2) и открепляли от подложки с помощью 0.25% трипсина (инкубация 5 мин). Далее клетки ресуспендировали в 1 мл PBS, содержащего 5% FBS, переносили в эппендорфы, центрифугировали 5 мин при 1200 об/мин и фиксировали 10 мин раствором 4%-ного параформальдегида в PBS при комнатной температуре. Затем фиксированные клетки 1 раз промывали 1 мл PBS (рН 7.2), центрифугировали (1200 об/мин, 5 мин) и ресуспендировали в 0.5 мл PBS. Суспензии изучаемых клеток анализировали на проточном цито- флуориметре Novocyte (ACEA Biosciences, Inc., США) при следующих условиях: Threshold FSC-H 300 000, скорость потока – slow, подсчет клеток проводили до лимита в 10 тыс. клеток. Для загруженных Dox частиц также использовали флуоресцентный детектор PE (B572/gain 378).
Анализ цитотоксичности (МТТ-тест). В 96-луночный планшет вносили по 100 мкл суспензии клеток (7500 клеток на лунку), после чего планшет помещали в СО2-инкубатор (5% CO2, 37°C). Через 24 ч среду в лунках заменяли ростовой средой, содержащей различные концентрации Dox или суспензию НЧ с разной степенью разбавления (0–0.1 мг/мл в пересчете на количество полимеров, 0–100 мкМ в пересчете на количество загруженного в НЧ Dox). Концентрация Dox в пробах с наночастицами была выровнена относительно свободного Dox посредством разбавления суспензии НЧ с известной инкапсуляцией Dox.
Цитотоксичность частиц определяли методом МТТ-теста через 48 ч. МТТ-тест основан на способности митохондриальных и цитоплазматических дегидрогеназ клеток восстанавливать МТТ с образованием нерастворимых в воде кристаллов форма- зана, количество которого можно измерять спектро- фотометрически. Из лунок планшета аккуратно удаляли ростовую среду, добавляли по 100 мкл среды DМЕМ без сыворотки, содержащей МТТ (0.5 мг/мл), и оставляли в СО2-инкубаторе на 2 ч. Затем удаляли раствор МТТ, добавляли 100 мкл DMSO и оставляли на 10 мин на шейкере Multi RS-60 (Biosan, Латвия) для полного растворения формазана. Поглощение измеряли на приборе FilterMax F5 (Molecular Devices, США) при длине волны 595 нм.
Получение 3D-сфероидов. 3D-сфероиды формировали по оригинальной методике, разработанной в Институте биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН [23].
Определение апоптоза с использованием аннексина V. Клетки MDA-MB-231 и MCF-7 высевали в количестве 150 тыс. клеток на чашки Петри диаметром 3 см (Tissue Culture Dish, Costar, США), содержащие 2 мл полной ростовой среды, и инкубировали в СО2-инкубаторе при 37°C в течение 24 ч (48 ч для сфероидов). Сфероиды формировали по методике, приведенной выше. На следующий день ростовую среду удаляли, клетки 1 раз промывали PBS (pH 7.2). Затем добавляли 1 мл PBS, содержащего суспензию загруженных Dox (15 мкМ) pFA/НЦ, и инкубировали в течение 24 ч при 37°C в СО2-инкубаторе. В качестве отрицательного контроля использовали клетки без добавления НЧ, а также незагруженные НЧ. В качестве положительного контроля клетки также инкубировали в присутствии 15 мкМ раствора Dox. Для сфероидов использовали аналогичные условия. По окончании инкубации клетки в монослое открепляли от подложки обработкой трипсином в течение 5 мин и ресуспендировали в 1 мл ростовой среды, переносили в эппендорфы, центрифугировали 5 мин при 2000 об/мин. Сфероиды разрушали обработкой трипсином в течение 5 мин, ресуспендировали в 2 мл ростовой среды, переносили суспензию клеток в эппендорфы и центрифугировали 5 мин при 2000 об/мин. Далее клетки промывали PBS и повторно центрифугировали для удаления НЧ. После этого клетки ресупендировали в 300 мкл буфера для связывания аннексина V (1.4 М NaCl, 25 мМ CaCl2, 0.1 M HEPES, pH 7.4), добавляли рекомбинантный белок аннексин V, меченный флуорохромом FITC (Lumiprobe, Россия), в конечной концентрации 2 мкг/мл и инкубировали 15 мин на льду. В качестве отрицательного контроля использовали клетки без добавления аннексина V. Затем флуоресценцию клеток анализировали на проточном цитофлуориметре Novocyte (ACEA Bio- sciences, Inc., США) при следующих условиях: Threshold FSC-H 300 000, скорость потока – slow, подсчет клеток проводили до лимита в 20 тыс. клеток. Используемые фильтры – флуоресцентный детектор PE (B572) и FITC (B530).
Статистическая обработка данных. Эксперименты проводили в трех повторах. Приведены средние значения со стандартным отклонением. Графики строили в программе GraphPad Prism 8.4.3 (GraphPad Software, США).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе с использованием 12 различных фенольных мономеров впервые исследована способность лакказы гриба Cerrena unicolor генерировать водонерастворимые полимеры и проверена возможность полученных полимеров формировать лигнин-подобные наночастицы. Впервые был проведен анализ структуры полимеров гентизиновой кислоты методом ЯМР. Показано, что при ферментативном синтезе гентизиновых полимеров формируются два основных водонерастворимых соединения, которые в отличие от феруловых полимеров, имеющих линейную форму, являются разветвленными, и только один из них формирует НЧ. Анализ физико- химических свойств НЧ, сформированных полиферуловыми и полигентизиновыми полимерами, показал их стабильность в физиологических растворах, нетоксичность для культивируемых клеток человека (линии Bj-5ta, MDA-MB-231, MCF-7) и высокую эффективность загрузки низкомолекулярными органическими соединениями. Однако было выявлено низкое поглощение культивируемыми клетками рака молочной железы полигентизиновых НЧ, загруженных Dox, что ограничивает их использование в качестве носителей противоопухолевых препаратов. Эти данные заложили основу для анализа возможных модификаций полигентизиновых НЧ посредством ПЭГ или лигандами к мембранным рецепторам для повышения их способности к пенетрации в таргентные клетки.
Суммируя вышеописанные физико-химические свойства полиферуловых НЧ (pFA/0.22, pFA/НЦ), следует, что для использования в медико-биологических целях наиболее перспективны pFA/НЦ, полученные методом низкоскоростного центрифугирования. По сравнению с pFA/0.22 они обеспечивают более эффективную загрузку противоопухолевыми препаратами (доксорубицином) и пролонгированное высвобождение вещества из структуры. По сравнению со свободным Dox, добавленным в ростовую среду, загруженные Dox pFA/НЦ быстрее и в большем количестве накапливаются в опухолевых клетках и сфероидах, индуцируя клеточную гибель.
Полученные данные указывают на перспективность использования полиферуловых НЧ pFA/НЦ для переноса различных фармакологических соединений в опухолевые клетки рака молочной железы.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящая статья не содержит описания каких-либо исследований с участием людей и использованием животных в качестве объектов исследований.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Сокращения: DLS – динамическое светорассеяние; Dox – доксорубицин; PDI – индекс полидисперсности; pDMF – 2,6-диметоксифенольные полимеры; pFA – феруловые полимеры; pGA – гентизиновые полимеры; TEM – просвечивающая электронная микроскопия; НЦ – низкоскоростное центрифугирование; НЧ – наночастицы.
About the authors
I. V. Smirnov
Skolkovo Institute of Science and Technology
Author for correspondence.
Email: ivan_cmirnov_98@mail.ru
Russian Federation, Moscow, 121205
A. V. Lisov
G.K. Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms, Russian Academy of Sciences
Email: ivan_cmirnov_98@mail.ru
Russian Federation, 142290, Pushchino, prosp. Nauki, 5
A. S. Kazakov
Institute of Biological Instrumentation, Russian Academy of Sciences
Email: ivan_cmirnov_98@mail.ru
Russian Federation, 142290, Pushchino, prosp. Nauki, 7
A. N. Zvonarev
G.K. Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms, Russian Academy of Sciences
Email: ivan_cmirnov_98@mail.ru
Russian Federation, 142290, Pushchino, prosp. Nauki, 5
N. E. Suzina
G.K. Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms, Russian Academy of Sciences
Email: ivan_cmirnov_98@mail.ru
Russian Federation, 142290, Pushchino, prosp. Nauki, 5
M. Y. Zemskova
G.K. Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms, Russian Academy of Sciences
Email: marinazemskova9@gmail.com
Russian Federation, 142290, Pushchino, prosp. Nauki, 5
References
- Brigger I., Dubernet C., Couvreur P. // Adv. Drug Deliv. Rev. 2002. V. 54. P. 631–651. https://doi.org/10.1016/s0169-409x(02)00044-3
- Bozzuto G., Molinari A. // Int. J. Nanomed. 2002. V. 10. P. 975–999.
- Sharma A., Goyal A.K., Rath G. // J. Drug Target. 2017. V. 15. P. 1–16. https://doi.org/ 10.1080/1061186X.2017.1400553
- Cho C.F., Shukla S., Simpson E.J., Steinmetz N.F., Luyt L.G., Lewis J.D. // Methods Mol. Biol. 2014. V. 1108. P. 211–230. https://doi.org/10.1007/978-1-62703-751-8_16
- Lomis N., Westfall S., Farahdel L., Malhotra M., Shum-Tim D., Prakash S. // Nanomaterials (Basel). 2016. V. 6. P. 116. https://doi.org/10.3390/nano6060116
- Jain A.K., Das M., Swarnakar N.K., Jain S. // Crit. Rev. The Drug Carrier Syst. 2011. V. 28. P. 1–45. https://doi.org/10.1615/critrevtherdrugcarriersyst.v28.i1.10
- Frangville C., Rutkevičius M., Richter A.P., Velev O.D., Stoyanov S.D., Paunov V.N. // ChemPhysChem. 2012. V. 13. P. 4235–4243. https://doi.org/10.1002/cphc.201200537
- Figueiredo P., Ferro C., Kemell M., Liu Z., Kiriazis A., Lintinen K., Florindo H.F., Yli-Kauhaluoma J., Hirvo- nen J., Kostiainen M.A., Santos H.A. // Nanomedicine. 2017. V. 2017. P. 0219. https://doi.org/10.2217/nnm-2017-0219
- Lisova Z.A., Lisov A.V., Leontievsky A.A. // J. Basic Microbiol. 2010. V. 50. P. 72–82. https://doi.org/10.1002/jobm.200900382
- Fei Z., Chen F., Zhong M., Qiu J., Li W., Sadeghzadeh S.M. // RSC Adv. 2019. V. 9. P. 28078–28088. https://doi.org/10.1039/c9ra05079e
- Kishimoto T., Uraki Y., Ubukata M. // Org. Biomol. Chem. 2006. V. 4. P. 1343–1347. https://doi.org/10.1039/B518005H
- Alavi M., Hamidi M. // Drug Metabol. Personalized Ther. 2019. V. 34. 0032. https://doi.org/10.1515/dmpt-2018-0032
- O’Reilly R.K., Pearce A.K. // Bioconjug. Chem. 2019. V. 30. P. 2300–2311. https://doi.org/10.1021/acs.bioconjchem.9b00456
- Nahyeon L., Yong T.K., Jechan L. // Polymers (Basel). 2021. V. 13. P. 364. https://doi.org/10.3390/polym13030364
- Mikolasch A., Schauer F. // Appl. Microbiol. Biotechnol. 2009. V. 82. P. 605–624. https://doi.org/10.1007/s00253-009-1869-z
- Zheng Y., You X., Guan S., Huang J., Wang L., Zhang J., Wu J. // Adv. Funct. Mater. 2019. № 15. P. 1808646. https://doi.org/10.1002/adfm.201808646
- Leo E., Cameroni R., Forni F. // Int. J. Pharm. 1999. V. 180. P. 23–30. https://doi.org/10.1016/s0378-5173(98)00401-3
- Swietach P., Vaughan-Jones R.D., Harris A.L., Hulikova A. // Philos. Trans. R Soc. Lond. B Biol. Sci. 2014. V. 369. P. 20130099. https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0099
- Ruan G., Agrawal A., Marcus A.I., Nie S. // J. Am. Chem. Soc. 2007. V. 129. P. 14759–14766. https://doi.org/10.1021/ja074936k
- Efeoglu E., Keating M.E., McIntyre J., Casey A., Byrne H. // Anal. Methods. 2015. № 23. Р. 10000– 10017.
- Dai X., Cheng H., Bai Z., Li J. // J. Cancer. 2017. V. 8. P. 3131–3141. https://doi.org/ 10.7150/jca.18457
- Xiao M., Hasmim M., Lequeux A., Moer K.V., Tan T.Z., Gilles C., Hollier B.G., Thiery J.P., Berchem G., Janji B., Noman M.Z. // Cancers (Basel). 2021. V. 13. P. 1165.
- Rystsov G.K., Lisov A.V., Zemskova M.Yu. // Russ. J. Bioorg. Chem. 2023. V. 49. P. 65–78. https://doi.org/10.31857/S0132342322060197
- Guerrini L., Alvarez-Puebla R., Pazos-Perez N. // Materials. 2018. V. 11. P. 1154. https://doi.org/10.3390/ma11071154
Supplementary files