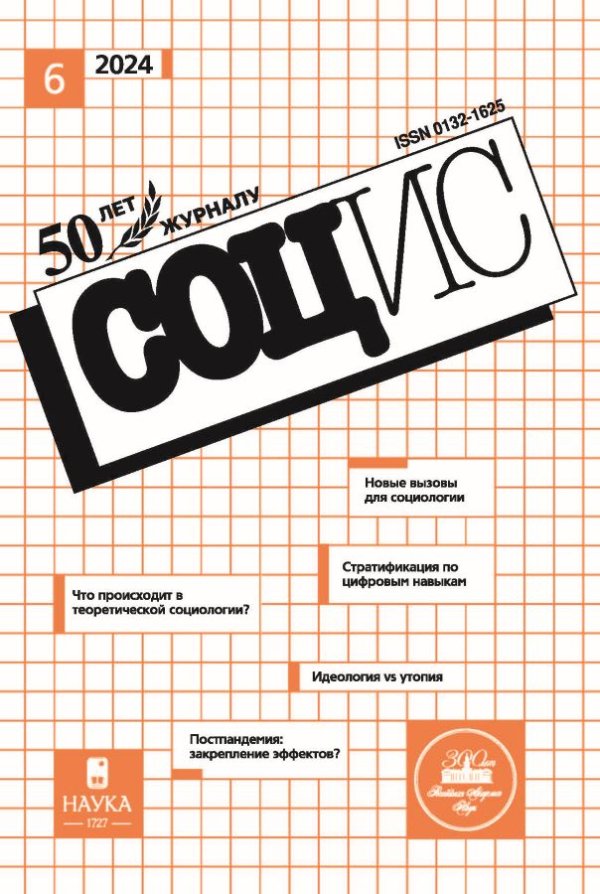Crisis and stabilization dynamics of mass consciousness in Russian society
- 作者: Savin S.D.1,2
-
隶属关系:
- Institute of Sociology FCTAS RAS
- RUDN
- 期: 编号 6 (2024)
- 页面: 76-87
- 栏目: SOCIAL STRUCTURE. SOCIAL POLICY
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-1625/article/view/263307
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524060071
- ID: 263307
全文:
详细
The article raises the question of the connection between social changes and mass consciousness dynamics. The cyclical nature of social development involves a transition through crisis-stabilisation phases reflected in varying ways in the mass consciousness’ intentions. Various types of mass consciousness are distinguished depending on the focus either on changes or conventions, development or crisis, social activity or passivity. The role of stabilisation consciousness in the context of social changes and systemic challenges is analysed. It is shown that stabilising consciousness plays a vital amortisation role during crises. The analysis of crisis and stabilisation dynamics in mass consciousness of Russian society is provided based on the materials of monitoring studies of the Institute of Sociology of the Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences and other Russian sociological centres. It is concluded that in Russian society for more than two decades the dominant type of mass consciousness has been stabilization consciousness, but fluctuations in its parameters either bring it closer to crisis consciousness or to development consciousness. Such frequent cycles are characteristic for a trauma society or a society with a low level of stability without any specific development trajectory.
全文:
Введение. Категория «массовое сознание» активно используется в современных социальных науках, а в отечественной социологии имеет богатую традицию разработки самих концептуальных основ его изучения [Уледов, 1963; Грушин, 1987; Горшков, 1988]. Исследования массового сознания сосредотачиваются на анализе социального настроения как комплексной характеристики оценки населением социальных процессов и собственного благополучия [Мерсиянова, Брюхно, 2023: 29–30]. Теоретико-методологические основы такого анализа с выделением индикаторов были заложены Ж. Т. Тощенко и С. В. Харченко, рассматривавшими социальное настроение как многоуровневую систему социальных оценок [Тощенко, Харченко, 1996].
Важно отметить, что социальное настроение как социально-психологическая составляющая массового сознания имеет выраженную направленность по дихотомической шкале социального оптимизма и пессимизма. В связи с этим многие авторы выделяют кластеры населения, которые выражают свое отношение к социальной действительности и собственное желание или нежелание участвовать в различных формах общественной жизни с учетом выраженности их оптимистических/пессимистических оценок и взглядов на жизнь [Мерсиянова, 2023: 35–36].
Следует также подчеркнуть, что выявленные эмпирические связи относительно более оптимистически настроенных людей показывают их более высокий потенциал гражданской активности. Но согласно выводу Т. А. Нестика, социальный оптимизм – это только потенциал общественной консолидации, который может не воплотиться в жизнь, если его не раскрыть при помощи системных мер, направленных на укрепление уверенности людей в своей способности влиять на происходящие события [Нестик, 2023]. Существует парадокс социального оптимизма в условиях кризиса, который будет рассмотрен ниже.
Несмотря на имеющуюся детальную операционализацию категории социального настроения и регулярные мониторинговые исследования ведущих социологических центров в России, ощущается недостаток теоретического инструментария для анализа динамики массового сознания. В статье предпринята попытка предложить типологию массового сознания, которая бы позволяла определять связь его направленности и социальных изменений, – кризисных и стабилизационных.
Концептуальные основы связи массового сознания и общественной динамики. Динамика массового сознания двойственным образом связана с социальными изменениями. С одной стороны, оно отражает реакцию на происходящие изменения, с другой – во многом их предопределяет, создает общественные настроения за или против перемен. Как отмечал О. Н. Яницкий, в истории человечества мы видим, что между «устоями» и «переменами» всегда шла непрерывная борьба [Яницкий, 2017: 21]. Любой эволюционный процесс выражен чередой смен оппозиционных качеств – состояний стабильности и нестабильности системы и соответствующих фазовых переходов стабилизации и дестабилизации. В силу их разнонаправленности и в массовом сознании циклично меняются интенции к условному порядку и к переменам, нарастает ощущение кризиса и безысходности или, напротив, энтузиазма и веры в будущее.
Таким образом, в условиях изменяющегося общества особое значение имеет кризисно-стабилизационная динамика массового сознания, связанная не только с текущей реакцией на происходящие события, опасности и угрозы, но и с более устойчивыми его интенциями, ожиданиями, ориентирами, направленными на общественные процессы. В связи с этим важно рассмотреть роль разных типов массового сознания в трансформационных процессах. Ожидания относительно ситуации в обществе имеют: 1) социально-психологическую составляющую (совокупность различных настроений и чувств его представителей, которые зависят от повестки дня, текущей социально-политической и экономической ситуации, оценки общей духовной атмосферы в обществе, чувств социального доверия/недоверия); 2) ценностно-смысловую (оценка пути развития общества как правильного/неправильного, патриотизм или безразличие/враждебность, сила или слабость коллективных идентичностей различного уровня от семейной до национальной или цивилизационной; 3) нормативно-поведенческую (активность или пассивность, участие/неучастие, включенность в повестку дня или отстраненность от общественно-политических процессов).
На основании устойчивых элементов массового сознания, связанных с глубинными системами социальных представлений, можно выделить четыре типа массового сознания: кризисное, катастрофическое, стабилизационное и сознание развития. Их выделение происходит по дихотомическому принципу противоположных взглядов и настроений людей, которые закономерно приводят к противоположным результатам общественной жизни/направленности динамики изменений. При этом данные типы сознания имеют парную связанность: катастрофическое сознание может рассматриваться как крайняя форма кризисного сознания, а сознание развития как возникающая после стабилизационной фазы интенция перемен. Эта связанность в данном случае означает связь по совокупности негативных или позитивных оценок социальной действительности. Переход к катастрофическому типу сознания скорее всего невозможен без этапа кризисного сознания, а формирование сознания развития предполагает его вызревание в период доминирования стабилизационного сознания. Сознание развития может как противостоять надвигающемуся кризису, так и являться фазой продуманной модернизации, устойчивого развития на основе стабильности. В целом их соотношение обеспечивает общую кризисно-стабилизационную динамику общества, поскольку массовое сознание консервативно по своей природе в силу преобладающего конформистского элемента социума. Но это не исключает отдельные исторические периоды, которые могут характеризоваться как модернизационные рывки или, напротив, как катастрофы системного распада.
Дадим краткую характеристику указанным типам массового сознания. Для кризисного сознания свойственны в социально-психологическом плане негативизм и пессимизм, эмоциональная нестабильность, тревожность, низкий уровень социального доверия. В смысловом плане для него характерны представления о тупиковом пути развития общества, нарастании кризиса и общем ухудшении жизни и жизненных перспектив. Нарастает также ощущение социальной напряженности, чувства небезопасности. Образа будущего нет, есть только представление об ухудшающемся настоящем. Отсюда в поведенческом плане низкий горизонт планирования, атомизация и идентификация с малыми группами для поиска адаптационных возможностей [Смирнова, 2015: 55]. Преобладают семейная, поселенческая, религиозная, этническая идентичности. Для такого сознания характерен высокий уровень ксенофобии, интолерантность, размытость моральных норм, низкий уровень политического участия и гражданской активности. Как известно, кризисы могут носить и затяжной характер, тем самым формируя некоторую перманентность кризисного сознания в обществе [Рассказов, Бадмаева, 2018: 51].
Катастрофическое сознание, соответственно, усиливает негативизм массового сознания до предела. Оно связано с представлениями о неизбежности катастрофы или ее непосредственным переживанием. Отсюда алармизм и фатализм, эсхатологизм, безысходность, эмоциональная подавленность или агрессивность, распространенность слухов, теорий заговора, предрасположенность к массовой панике, высокий уровень социального недоверия. В исследовательском проекте под руководством В. Н. Шубкина под катастрофическим сознанием понималось наличие в нем массовых страхов и тревог с нарастающим ощущением беспомощности перед возможной грядущей катастрофой самого разного масштаба и вида [Иванова, Шубкин, 2005]. Образ будущего представлен в черных тонах, распространяются представления о гибели общества, отсутствии будущего как такового. В отличие от кризисного сознания нет внятных представлений и о настоящем, распространен уход в прошлое. Преобладают жизнь текущим днем, миграционные установки, аномия моральных норм, узкогрупповая идентичность, сектантство, преступные сообщества, военизированные группировки. В поведенческом плане – избегание опасностей или, напротив, авантюризм и отсутствие барьеров риска. Подобное сознание катастроф хорошо описал Питирим Сорокин на многочисленных примерах в книге «Человек и общество в условиях бедствий» [Сорокин, 2012]. Интенция катастрофического сознания, как правило, краткосрочна, связана с действительно страшными периодами гибели государств, массовой смертности в результате нашествий, эпидемий, стихийных бедствий. Накопленное катастрофическое сознание имеет особенность неожиданно выплескиваться, становясь важнейшим фактором поведения людей [Астафьев, 2023: 26]. Общей чертой кризисного и катастрофического сознания является ощущение собственного бессилия перед обстоятельствами [Hentrup, 2010: 4].
Для стабилизационного сознания типичен умеренный оптимизм как надежда на будущее, эмоциональное спокойствие, конформизм, высокая степень удовлетворенности жизнью в целом, средний уровень обобщенного доверия. Среди типичных черт такого типа массового сознания можно отметить активные поиски национальной идентичности, патриотизм, относительную закрытость, но не ксенофобию, мобилизованное политическое участие и средний уровень гражданской активности, средний горизонт планирования; сам образ будущего размыт, но притягателен. При этом налицо идеализированное прошлое и в целом неплохое настоящее, сознание силы и вера в удачу, настороженное отношение к переменам, востребованность типа лидера-отца нации, защитника. Стабилизационное сознание заложено в самой природе человека как стремление к экзистенциальной безопасности, обусловленной порядком, привычкой, повторяемостью, стандартизацией, предсказуемостью [Штомпка, 2001: 9–10]. То есть повседневностью, которая является для человека привычной, само собой разумеющейся. Тем самым оно снижает тревожность от происходящих событий [Паутова, 2006: 147]. Роль стабилизационного сознания для поддержания стабильности заключается в том, что в межфазовые периоды циклов социальной динамики данное свойство массового сознания выполняет страховочную функцию – при резком нарастании перемен является консервативно-сдерживающим элементом, а при ситуации депрессивного затухания динамики или разрастания кризиса выстраивает ориентир на стабилизацию как устойчивое развитие. Поэтому ошибочно думать, что стабилизационное сознание ориентировано только на неизменность, законсервированность.
От стабилизационного сознания возможен переход к сознанию развития, когда большинство не боится перемен, рассматривая их как изменения к лучшему. Ориентация на устойчивое развитие при таком типе сознания отличается от стабилизационного тем, что развитие мыслится как самостоятельная идея. Сознание развития представляет собой отражение периода духовного подъема в обществе. Оно направлено на поиск путей общественного развития, а в широком ключе – общественной модернизации. И здесь важно отметить массовые представления о том, что фундамент такой модернизации уже существует, имеется вера в потенциал развития. Основаниями такой веры могут быть успешные шаги по решению социальных проблем, преодоление системных вызовов и угроз, победы, пройденный этап общественной стабилизации, экономические успехи, международное признание и др. Как факторы они не обязательно должны присутствовать все, но выделяются ключевые, которые обуславливают переход к новому состоянию массового сознания.
Индикатором указанного перехода является фиксация того, что образ будущего в обществе сложился как конкретные цели, подкрепленные идейно-ценностным содержанием. При этом сформирован «долгий взгляд», предполагающий длительные горизонты жизненного планирования и ожиданий от будущего. Преобладает вера в науку и прогресс. Эмоциональный фон в обществе на подъеме, присутствует массовый энтузиазм, развита достижительная мотивация, высок уровень социального доверия. Происходит рождение новых идентичностей, набирают популярность новые движения. Наблюдается высокий уровень гражданского и политического участия, общественной консолидации.
Описанные общие черты сознания развития не должны создавать представление об утопичности данной интенции массового сознания. Примеры модернизационных рывков разных стран свидетельствуют о том, что массовое сознание созревало не просто до принятия перемен, но и поддерживало «путь вперед». В то же время данная направленность вряд ли способна преобладать в обществе долгое время. Она исторически ограничена циклами общественной динамики с периодическими кризисными явлениями, а также указанной доминантой конформизма массового поведения. В связи с этим более распространенным типом массового сознания является сознание стабилизационное.
Стабилизационное сознание в обществе травмы: методика и эмпирическая база. Если условно разделить массовое сознание по 10-балльной шкале социального оптимизма, то в интервале от 1 до 2 баллов будет катастрофическое сознание, от 3 до 5 баллов – кризисное, от 6 до 8 баллов – стабилизационное и от 9 до 10 баллов – сознание развития. Естественно, нормально функционирующая система редко приближается к крайним значениям. Это касается и массового сознания, которое склонно демонстрировать чувство умеренного оптимизма, тяготеет к стабильности и безопасности.
Стабилизационное сознание по природе двойственно, его консервативные установки носят в то же время и антикризисный характер с требованиями изменений, и боятся больших перемен. Сама по себе стабильность часто описывается как искомая цель социального развития и основа порядка. Значит, и ее ценность выше в долгосрочных жизненных ориентациях большинства людей. Кроме того, ориентация на стабильность в массовом сознании является естественным запросом в так называемых обществах травмы, характеризующихся длительной неопределенной, турбулентной трансформацией [Тощенко, 2020: 39]. Стабилизационное сознание в этих условиях сближается с сознанием развития и умеренных целенаправленных перемен, противостоя кризисному сознанию и моральной деградации. Такая травматическая ситуация ярко проявила себя в российском обществе в период коронавирусной пандемии 2020–2021 гг., при которой стресс массового сознания от ограничений социальной деятельности и неопределенности будущего привел к смешению ожиданий стабильности как возвращения к нормальности и ожиданий социально-ориентированных изменений государственной политики.
Низкая стабильность общества травмы приводит к сосуществованию кризисного и стабилизационного сознания, их противоборству. Массовое сознание, подверженное манипулятивным воздействиям, тоже колеблется в рамках кризисно-стабилизационной динамики. Амбивалентность сознания в обществе травмы приводит к парадоксальному смешению противоречивых ценностных ориентаций и социальных установок и вытекающему отсюда размытому образу желаемого будущего.
На примере мониторинговых исследований ФНИСЦ РАН1, а также Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН (далее – ИСПИ ФНИСЦ РАН) 2проследим кризисно-стабилизационную динамику массового сознания как колебания его направленности в сторону устойчивого развития общества либо ожидания разрастания кризиса. Для этих целей выделим индикаторы, определяющие, какое проявление массового сознания является стабилизационным, а какое нет.
Рассмотрим показатели направленности массового сознания по трем выделенным блокам оценок социальной действительности: социально-психологический, ценностно-смысловой и нормативно-поведенческий. Социально-психологическая атмосфера в обществе включает ряд оценок преобладающего эмоционального фона, ощущения степени социальной напряженности и уровня личностного и институционального доверия. Соответственно, от благоприятного или нет социально-психологического состояния массового сознания будет напрямую вытекать и его характер – от катастрофического до оптимистического (сознание развития).
Характеристика оценок россиянами психологического состояния окружающих людей. По данным ИС ФНИСЦ РАН, в 2023 г. преобладают негативные оценки: тревожности – 49,2%, раздраженности – 12,9%, безразличия и апатии – 7,0%. По сравнению с 2021 г. заметно возросли показатели тревожности с 31 до 49%. По данным ИСПИ РАН, в 2022–2023 гг. страх перед будущим достиг пиковых значений за последние 10 лет (25– 27%). Столько же – 27% опрошенных – среди основных страхов назвали угрозу ядерной войны [Как живешь, Россия?, 2023: 10]. Обобщенная картина динамики позитивных и негативных состояний за последние 10 лет по опросам СИ ФНИСЦ РАН (рис. 1) показывает устойчивое доминирование негативного психологического фона на уровне 62– 65% с сильным всплеском в 2022 г. до 83% (начало СВО на Украине). Как было сказано, преобладающая эмоциональная составляющая – это тревожность, что характеризует данный психологический фон как умеренно-негативный. Он соответствует низкому уровню стабилизационного сознания, по сути, пограничному с кризисным. Компенсируется он индивидуальными оценками собственного эмоционального состояния как умеренно-позитивного.
Рис. 1. Оценки россиянами преобладающего психологического состояния окружающих, 2014–2023 гг., в %
Следующий интегральный показатель – общая оценка социальной напряженности в российском обществе – также относится в большей степени к социально-психологическому восприятию окружающей обстановки. Сама по себе оценка населением социальной напряженности на общероссийском уровне имеет высокие показатели на протяжении периода наблюдений. Это одно из свидетельств в целом невысокого уровня общественной стабильности, турбулентности, характерных для общества риска или общества травмы. Кроме того, графики показывают несколько всплесков и падений оценок напряженности в российском обществе. На рис. 2. видно, что они связаны с электоральными циклами. Социальная напряженность в общих оценках последовательно спадала к периоду президентских выборов 2012 и 2018 гг., стабилизировалась на несколько лет и затем начинала усиливаться. При этом электоральный рост позитивных оценок к президентским выборам 2024 г. шел от критически низкого уровня 2022 г. (13,9% оценки нормальной ситуации) и на 2023 г. составлял всего 19,0%, что сравнимо с худшими показателями предыдущих колебаний. Периоды электоральных кампаний по выборам Президента РФ сопровождаются волнами позитивных информационных сообщений в СМИ о ситуации в стране, усилением обещаний социальной поддержки, что оказывает влияние на общественное мнение. Сценарий нынешнего электорального цикла может закрепить на несколько лет восстановительную стабилизационную динамику массового сознания или внезапно прерваться в силу возможных кризисных ситуаций в условиях существующих системных вызовов. Пик усиления кризисного сознания в катастрофической форме наблюдается в периоды спадов политической активности гражданского общества. Это может быть связано с разочарованием в действенности автономного политического участия. Это видно на графиках в так называемый постболотный период 2012–2013 гг. и период 2020–2021 гг., когда катастрофичность сознанию придала ситуация пандемии.
Рис. 2. Динамика оценок населением общей ситуации в России, 2010–2023 гг., в %
Как отмечалось, катастрофичность массового сознания связана с фатализмом, пассивностью, разочарованием в общественных идеалах. О современном этапе говорить пока сложно в силу резких колебаний оценок по этой переменной. Интересно, что оценки катастрофичности могут расти одновременно с ростом оценок нормальности ситуации, косвенно говоря об идейном расколе в обществе. Идейно-политическая составляющая таких оценок заметна, поскольку, когда речь идет о социальной напряженности в месте проживания респондента, негативные показатели снижаются, несмотря на то, что материальное неблагополучие как раз оценивается на местах. Оценки социальной напряженности в регионе проживания и на местном уровне устойчивы за период наблюдений с 2018 г. за исключением стрессового 2022 г. По совокупности негативных оценок (ситуация напряженная и ситуация катастрофическая) в регионе проживания наблюдаются колебания в пределах 49–52%, а в месте проживания – 39–46%. При этом оценки катастрофичности ситуации в 2023 г. упали до рекордно низких 3,0% в регионе проживания и 2,8% в месте проживания, что более чем в два раза ниже средних показателей последних лет. Соответственно, пока оценки социальной напряженности не получат высокого распространения одновременно в отношении всех территориальных уровней, говорить о переходе к критической точке социального недовольства, грани социального взрыва некорректно [Латов, 2023: 164]. Стабилизационное сознание в его социально-экономическом измерении имеет в настоящее время вид укорененного консервативного стабилизатора оценок привычной жизни россиян, их общих потребительских практик и повседневности. Пока россияне считают, что в месте их проживания «ситуация такая же, как и раньше» (49,6%), а пятая часть фиксирует в той или иной степени улучшение ситуации (20,2%). В регионах интенсивно заработали производства, пришла социальная поддержка отдельных категорий населения, выплаты участникам СВО. В то же время, учитывая зафиксированный в марте 2022 г. общий кратковременный всплеск негативных оценок социальной напряженности, нельзя исключить его повторения в случае усиления системных флуктуаций.
Ценностно-смысловой анализ массового сознания. Похожие интегральные показатели динамики можно отследить и по оценкам населением пути развития России. За последнее время наблюдается два консолидирующих всплеска наиболее высоких оценок правильности выбранного пути – в 2014–2015 гг. и в 2022–2023 гг. (рис. 3). В целом постоянное преобладание позитивных оценок по этому показателю, отражающее надежды большинства россиян на светлое будущее, – важный стабилизирующий механизм поддержки легитимности власти. Конечная цель пути развития остается малопонятной. Вера, что их ведут в правильном направлении, формирует ядро стабилизационного сознания. Эта характеристика стабилизационного сознания позволяет амортизировать некоторые нежелательные социальные изменения, снижать эффект социально-психологической напряженности в обществе. При наличии в массовом сознании установки, что основные угрозы развитию России исходят из-за рубежа (73,2% в 2023 г.), от враждебного Запада, появляется эффект мобилизационной готовности как консервативной составляющей стабилизационного сознания. На этой базе выстраивается долгосрочная легитимность политического режима.
Рис. 3. Динамика оценок населением пути развития России, 2011–2023 гг., в %
Ценности, связанные с путем развития России, которые должны выступать своеобразными его ориентирами, носят в массовом сознании противоречивый характер. С одной стороны, в российском обществе сложились устойчивые коллективные идентичности: национальная, цивилизационная, этноконфессиональная. Они формируют представления о России как незападной цивилизации, великой державе, о патриотизме, российской ментальности. С другой стороны, индивидуализм ценностно преобладает над коллективизмом, что ярко проявляется в установках на собственный успех, семью, права личности. Приоритет индивидуальных интересов стоит выше общественных [Российское общество…, 2022: 190]. Согласно опросу ИС ФНИСЦ РАН 2023 г. такие ценности, как возможность быть полезным обществу, людям и признание, уважение со стороны окружающих приоритетны для 11,8 и 13,2% опрошенных соответственно. Указанные противоречия отражаются в том, что в массовом сознании нет понимания идеологии, формируется гибрид представлений о ключевых политических ценностях – свободе, равенстве, солидарности, справедливости. В зависимости от постановки вопроса россияне готовы быть левыми, правыми, умеренными центристами, даже радикалами. Они готовы соглашаться с тем, что индивидуализм и либерализм России не подходит – 64,8%, что права человека выше интересов государства – 54,6%. И также с тем, что без свободы жизнь человека теряет смысл – 64,4%. В то же время они допускают ограничения свободы слова (65,9%) и прав личности (68,2%), если они противостоят интересам государства. По данным ИСПИ ФНИСЦ РАН, несмотря на индивидуализм, рекордных показателей за период наблюдений достигла оценка желания жить при социализме (48% в 2023 г.; в 2018 г. таковых было 29% от числа опрошенных). Несмотря на широкую поддержку современного официального курса, только 4% россиян определи свои взгляды как консервативные [Как живешь, Россия?, 2023: 10, 69]. Эта амбивалентность сознания дает возможности для политического манипулирования, – еще один пример стабилизационного сознания в обществе травмы.
Для стабилизационного сознания такого типа характерны сужение горизонта предсказуемости жизни (абсолютное большинство не планирует жизнь больше, чем на полгода и не имеет на больший срок финансовых сбережений), размытость и амбивалентность характеристик желаемого образа будущего (демократические установки сочетаются с авторитарными). В сознании россиян складывается в большей степени не образ будущего, а надежда на лучшее будущее, к которому приведет национальный лидер.
Нормативно-поведенческие установки на общественную жизнь. От того, готовы ли граждане участвовать в общественно-политической жизни, с кем и на каких основаниях они согласны консолидироваться, зависит субъектность общества – сила гражданского общества или, напротив, общества мобилизационного типа. Консолидация начинается с социального доверия. Уровень генерализованного доверия (институционального и к незнакомым людям) в современном российском обществе невысок, но в целом выполняет стабилизационную функцию. Стабилизация достигается за счет, во-первых, сбалансированности и устойчивости доверия к социально-политическим институтам (верховной власти, силовым институтам и отчасти региональной власти) и ближнему кругу (семья, родственники, друзья) [Каравай, 2022: 140]. Во-вторых, за счет постепенной консолидации общества через участие в деятельности общественных организаций (волонтерских, молодежных, патриотических и др.). Эта доля невысока, но деятельность таких организаций широко освещается в СМИ, вызывая эффект консолидации без широкой вовлеченности. Параметры социального доверия в российском обществе способствуют уменьшению уровня беспокойства по поводу негативных жизненных обстоятельств, выполняя защитную функцию в кризисных условиях [Фабрикант, 2023: 131].
Как отмечалось выше, индивидуальные интересы россиян по значимости преобладают над общественными. Кроме того, устойчиво доминирует доля граждан (около 70% последние 20 лет), которые считают, что обычные люди не могут повлиять на политические процессы в стране [Как живешь, Россия?, 2023: 30]. И это, в свою очередь, обуславливает низкую общественную консолидацию и низкую готовность к политическому и гражданскому участию. 9,8% опрошенных регулярно общаются с людьми, которых можно назвать единомышленниками. Соответственно, по этим показателям стабилизационное массовое сознание характеризуется на данном этапе низким уровнем, что обусловлено желанием сохранить привычные практики жизни и избежать системных потрясений. Растет и доминирует доля тех, кто выступает за условную стабильность и против перемен. Так, согласно опросу ИС ФНИСЦ РАН, в 2023 г. 61,8% респондентов ответили, что «страна нуждается в стабильности, это важнее, чем перемены». В 2018 г. 57% россиян выражали готовность к переменам в стране.
Заключение. Намеченные контуры системной динамики массового сознания в их соотношении с циклами общественного развития носят предварительный характер. Требуется более глубокая операционализация понятий кризисного и катастрофического сознания, сознания стабилизационного и сознания развития. В современной теоретической рефлексии «кризисность» объявлена перманентной характеристикой социальной структуры, формой социального порядка, реакцией на заложенные в нем риски. Это принципиально новая интерпретация социального порядка, сочетающая норму и аномию [Kravchenko, 2018: 200]. В науке и в практическом менеджменте распространяется представление о перманентной кризисной социальности [Катерный, 2023: 18]. Ни одну из социальных проблем нельзя больше изолировать, они простираются из одной сферы в другие, вовлеченные в собственную дисфункцию, в результате чего мир чувствует себя запутавшимся в перекрывающихся и пересекающихся кризисах.
Но кризисность современного мира, хотя находит отражение в научной теоретической рефлексии и управлении, отнюдь не доминирует в массовом сознании. Оно, как показывают мониторинговые социологические исследования, запаздывает от кризисных событий; его состояние во многом обусловлено воздействием средств массовой коммуникации. Парадокс в том, что перманентная кризисность вызывает к жизни перманентное стабилизационное сознание. В цифровую эпоху массовое сознание все больше становится объектом воздействия. В российской политике поддержание и укрепление стабилизационного сознания – важнейшая задача власти, поскольку оно поддерживает легитимность власти общим доверием к ней и верой в ее силу и возможности. Помимо формируемых в процессе массовой коммуникации социальных представлений и оценок действительности в позитивном ключе, существует естественная психологическая защитная реакция на кризис. Как показывают современные психологические исследования массового сознания, социальный оптимизм выступает важнейшим защитным механизмом [Нестик, 2023]. Социальное доверие способствует уменьшению уровня беспокойства в отношении наступления негативных жизненных обстоятельств.
Характеризуя динамику массового сознания в рамках представленной типологии, необходимо подчеркнуть, что обществу травмы трудно перейти к устойчивому сознанию развития. Нерешенные проблемы исторического развития, сохраняющиеся травмы памяти, социальные расколы не дают общественному сознанию выработать консолидированную позицию: «кто мы» и «куда идем». На примере российского общества мы видим цикличность, когда примерно раз в десять лет показатели направленности массового сознания демонстрируют повышение интенции к переменам, гражданской активности и активизации духовной жизни. Такой подъем наблюдался в России в допандемийный период 2017–2019 гг. [Петухов, 2018]. В настоящее время после череды кризисных вызовов динамика массового сознания качнулась в защитную стабилизационную фазу, ставя барьеры от скатывания к кризисному сознанию. Нынешний подъем легитимности власти, социального оптимизма, веры в правильность пути развития не означает перехода к развитию. Он может быть и предпосылкой начала фазы динамики стабилизационного сознания.
1 Эмпирической базой анализа стали данные опроса, проведенного Институтом социологии ФНИСЦ РАН в марте 2023 г. (N = 2 000. Репрезентивно население страны по федеральным округам, а внутри них – по полу, возрасту, уровню образования и типу поселения. Проект «Влияние нематериальных факторов на консолидацию российского общества в условиях новых социокультурных вызовов и угроз» (грант РНФ № 20-18-00505, рук. М. К. Горшков). Для анализа динамики показателей использовались опросы разных лет ИС ФНИСЦ РАН с такой же моделью выборки, численность которой в разные годы варьировала от 1 600 до 4 000 человек.
2 Всероссийские опросы общественного мнения проводятся с 1992 года в режиме социологического мониторинга «Как живешь, Россия?». N = 1700 в июне 2023 г.
作者简介
Sergey Savin
Institute of Sociology FCTAS RAS; RUDN
编辑信件的主要联系方式.
Email: ssd_sav@mail.ru
Cand. Sci. (Sociol.), Leading Researcher, Institute of Sociology FCTAS RAS; Assoc. Prof. of the RUDN Department of Sociology
俄罗斯联邦, Moscow参考
- Astafyev Y. U. (2023) Vladimir Shubkin as student of catastrophic consciousness. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 8: 25–33. doi: 10.31857/S013216250027364-3. (In Russ.)
- Burgess A., Wardman J., Mythen G. (2018) Considering risk: placing the work of Ulrich Beck in context. Journal of risk research. Vol. 21. Nо. 1: 1–5.
- Gorshkov M. K. (1988) Public opinion: history and modernity. Moscow: Politizdat. (In Russ.)
- Grushin B. A. (1987) Collective consciousness: defining experience and research problems. Moscow: Politizdat. (In Russ.)
- Ivanova V., Shubkin V. (2005) Mass concern of Russians as an obstacle to the integration of society. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 2: 22–27. (In Russ.)
- Hentrup M. (2010) Toward a Critique of Crisis Consciousness. Thesis. University of Oregon theses, Dept. of Philosophy, M.A. URL: https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/handle/1794/10640?show=full (accessed 01.06.2024).
- How are you, Russia? Express information. 53rd stage of the sociological monitoring, June 2023 (2023 / Levashov V. K., Velikaya N. M., Shushpanova I. S. [et al.] – Moscow: FCTAS RAS.
- Karavay A. (2022) The Social Capital of Russian Society in the Face of External Shocks of Different Nature // Voprosy teoreticheskoy ekonomiki [Issues of Economic Theory]. No. 4: 134–148. (In Russ.)
- Katernyi I. V. (2023) Development of the theory of crisis in sociology: evolving ideas and modernity. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 10: 14–26. (In Russ.)
- Kravchenko S. A. (2018) The development of non-linear knowledge: new risks, vulnerabilities, and hopes. RUDN Journal of Sociology. Vol. 18 (2): 195–207.
- Latov Yu.V. (2023) Dynamics of mass consciousness of Russians: extraordinary situation or beginning of a new cycle? POLIS. Politicheskie issledovaniya [Political Studies]. No. 6: 161–179. (In Russ.)
- Mersianova I. V., Briukhno A. S. (2023) Russian citizens’ social mood, its structure and influence on helping behaviour. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 9: 29–40. (In Russ.)
- Pautova L. A. (2006) Stabilization Consciousness: An Integrative Model. Omsk: OmGTU. (In Russ.)
- Petuhov V. V. (2018) Dynamics of the social attitudes of the Russia’s citizens and making of a public demand for change. Sociologicheskie issledovaniya. [Sociological Studies]. No. 11 (415): 40–53 (In Russ.)
- Rasskazov L. D., Badmaeva M. V. (2018) Crisis consciousness of Russian society during the transition period. Vestnik Buryatskog. gosudarstvennogo universiteta [Journal of Buryat State University]. Vol.1. No. 3: 50–57. (In Russ.)
- Russian society and challenges of the time. Part six. Institute of Sociology of the FCTAS RAS (2022) // Еd. by M. K. Gorshkov, N. E. Tihonova. Moskva: Izdatel’stvo «Ves’ Mir». (In Russ.)
- Smirnova I. N. (2015) Category of crisis consciousness: theoretical concepts and measurement practices. Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo universiteta [Ivanovo State University Bulletin]. No. 3. (8): 52– 58. (In Russ.)
- Sorokin P. A. (2012) Man and society in calamity: The influence of war, revolution, famine, epidemic on human intelligence and behavior, social organization and cultural life / Ed. by I. A. Fedorov. St. Petersburg: Mir. (In Russ.)
- Toschenko Zh.T., Kharchenko S. V. (1996) Social mood. Moscow, Academia. (In Russ.)
- Toshchenko Zh.T. (2020) Trauma societies and their characteristics. Gumanitarii Yuga Rossii [Humanities of the south or Russia]. Vol. 9. No.1: 30–50. (In Russ.)
- Sztompka P. Social change as trauma. Sociologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 1: 6–16. (In Russ.)
- Uledov A. K. (1963) Public Opinion of Soviet Society. Moscow: Sotsekgiz. (In Russ.)
- Yanickiy O. N. (2017) On the Relationship Between Stability and Mobility of Global Systems. Sociologicheskaya nauka i social’naya praktika [Sociological Science and Social Practice]. Vol. 5. No. 2 (18): 30–46. (In Russ.)