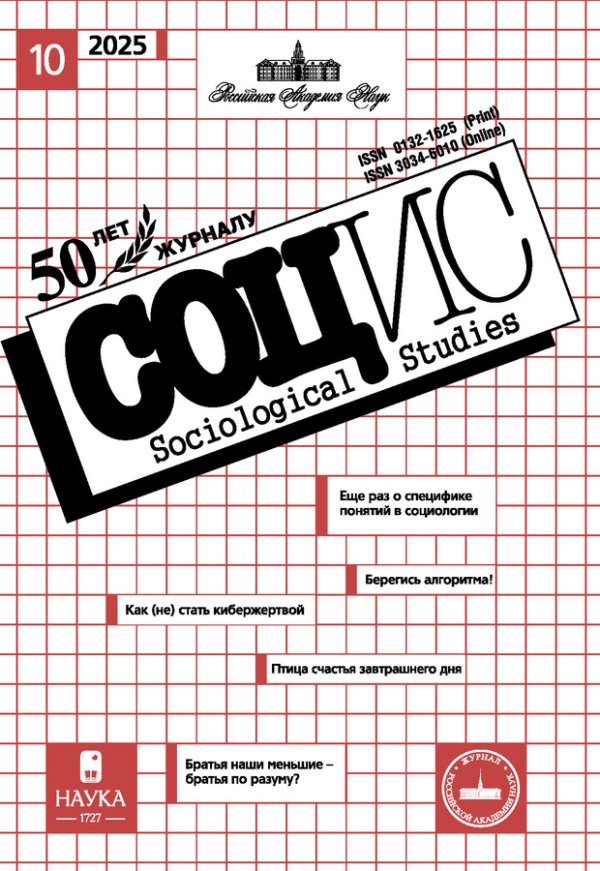Влияние пандемии COVID-19 на повседневные практики заботы о здоровье: (не)закрепление эффектов
- Авторы: Лебедева-Несевря Н.А.1, Шарыпова С.Ю.1
-
Учреждения:
- Пермский государственный национальный исследовательский университет
- Выпуск: № 6 (2024)
- Страницы: 88-98
- Раздел: СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНЫ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-1625/article/view/263308
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524060087
- ID: 263308
Полный текст
Аннотация
В статье проверяется гипотеза о закреплении практик заботы о здоровье, реализовывавшихся россиянами во время пандемии COVID-19, в постпандемийный период. На материалах глубинных интервью с жителями трех российских мегаполисов (N = 60) показан консенсус различных социальных групп относительно значимости заботы о здоровье и его приоритета перед другими ценностями. В качестве эффекта пандемии декларируется «более внимательное отношение» к собственному здоровью, что не находит отражения в реальных поведенческих практиках. На основе панельной выборки мониторинга RLMS-HSE (Волны 27, 29 и 31) показано, что динамика практик заботы о здоровье в постпандемийный период имела разновекторную направленность. Описаны примеры опривычивания, реконфигурации и отмирания отдельных практик заботы о здоровье. Сохранение в повседневности атрибутов ряда здоровьесохранных практик «на всякий случай» свидетельствует о восприятии россиянами будущего как рискогенного, а повторения ситуации пандемии – как вероятной.
Ключевые слова
Полный текст
Введение. Появившаяся в 2019 г. в Китае новая коронавирусная инфекция, вызванная СОVID-19, быстро преодолела международные границы и уже в 2020 г. нанесла огромный социально-экономический ущерб странам во всем мире. Для предотвращения распространения инфекции Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с февраля 2020 г. призывала граждан соблюдать меры предосторожности – носить защитные маски в общественных местах, следовать правилам личной гигиены, избегать массового скопления людей, позже – вакцинироваться1. Национальные рекомендации по профилактике заражения COVID-19 были приняты во многих странах и адресовались не только населению, но и работодателям, органам местного самоуправления2. Социальная реальность, характеризующаяся блокировкой мобильности, невозможностью использования привычных форм социальных интеракций, ограничением прав и свобод граждан ради обеспечения возможности противодействия пандемии, начала обозначаться термином «новая нормальность» [Manutiet al., 2022; Corpuz, 2021].
Принципиальное изменение повседневного поведения людей в период пандемии, смещение внимания субъектов управления на вопросы сохранения здоровья граждан, ускоренная адаптация социальных институтов под актуальные задачи сбережения человеческого капитала сопровождались дискуссией о длительности наблюдаемых эффектов. С одной стороны, озвучивались невозможность возврата общества к допандемийному состоянию [Leach et al., 2022], необратимая трансформация системы здравоохранения (в частности, ее масштабная цифровизация и переход на 4П-медицину) [Getachew et al., 2023], сдвиг ценностей в сторону солидарности [Schönweitz et al., 2024] и значимости человеческой жизни [Metin et al., 2023], т. е. становление новой постпандемийной нормальности. С другой, предлагалось осторожнее говорить о масштабных и длительных эффектах пандемии, обсуждать изменения лишь в отдельных сферах жизнедеятельности общества (например, здравоохранении или потребительском поведении), трактовать постковидный мир не как установление «новой», а как возврат к «старой», допандемийной «нормальности» 3[Cicovacki et al., 2022]. Предметом обсуждения выступили и изменения в повседневных практиках заботы граждан о своем здоровье, связанные с ростом значимости безопасности, благополучия, самостоятельности и снижения важности гедонизма как социальных ценностей в период пандемии [Bojanowska et al., 2021]. Осмысление поведения населения в сфере здоровья после первой волны пандемии сопровождалось прогнозами о долговременных положительных сдвигах в самосохранительных установках, отказе от рискогенных практик, приобщении значительной части общества к здоровому образу жизни [Guèvremont et al., 2022; Hu et al., 2022]. Однако в исследованиях, проведенных позже, фиксировался возврат населения к привычным, допандемийным поведенческим паттернам, в т. ч. рискогенным [Patin et al., 2023].
Массовые опросы, проведенные в России крупными исследовательскими организациями после окончания пандемии, не позволяют сделать однозначного вывода о закреплении здоровьесохранной ориентации в поведении граждан. Так, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), доля курящих россиян в 2023 г. составила 33% против 32% в 2017 г.4 Доля употребляющих алкогольные напитки (раз в месяц или чаще) в 2021 г. составила 37% против 33% в 2017 г.5 По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) обращаемость в медицинские учреждения в 2019 и 2023 гг. была одинаковая – 34% респондентов обращались к врачам в течение полугода, предшествующего опросу6. Согласно выборочному обследованию Росстата доля россиян с высоким уровнем приверженности принципам здорового образа жизни в 2023 г. составила 9,1%, в 2019 г. – 12%7.
Цель, материалы и методы исследования. Цель настоящего исследования – сопоставить повседневные практики заботы россиян о своем здоровье в «допандемийный», «пандемийный» и «постпандемийный» периоды и оценить вектор изменения данных практик.
Забота о здоровье определяется в рамках генерального подхода, принятого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), как индивидуальные действия, направленные на поддержание и укрепление физического и ментального здоровья, профилактику заболеваний и совладание с болезнью [WHO, 2022], основанные на имеющихся знаниях, навыках, опыте и культурных традициях, и вовлекающие доступные ресурсы [Narasimhan et al., 2019]. В структуре заботы о здоровье выделяют а) здоровый стиль жизни (профилактика заболеваний), б) самонаблюдение (фиксация симптомов / проблем со здоровьем) и адекватное реагирование, в) следование рекомендациям специалистов в ситуации болезни (конкордантность) [Davis et al., 2009]. В данной работе мы фокусируемся на неспецифическом профилактическом поведении россиян, т. е. практиках, направленных на укрепление здоровья и предотвращение развития заболеваний.
Эмпирической базой исследования выступили материалы 60 личных интервью с жителями трех крупнейших городов России (Новосибирска (N = 24), Нижнего Новгорода (N = 18) и Перми (N = 18)), проведенные с сентября 2023 г. по февраль 2024 г. При конструировании выборки учитывались социально-демографические характеристики, определяющие вариативность практик заботы о здоровье [Shi, 1998; Folayan et al., 2023]. В целевую выборку включались мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше, проживающие не менее трех лет на территории проведения исследования, не занятые в сфере здравоохранения (в т. ч. не являющиеся сотрудниками лечебно-профилактических учреждений, фармацевтических предприятий и организаций) и не имеющие профильного медицинского образования (данные критерии были введены для снижения возможного влияния специализированных знаний и навыков на поведение в сфере здоровья). В выборке представлены информанты с высшим, незаконченным высшим и средним специальным образованием, состоящие и не состоящие в официально зарегистрированном браке, имеющие и не имеющие детей, работающие, учащиеся и находящиеся на пенсии. Отдельно рекрутировались информанты, репрезентирующие контингенты риска, обладающие низким уровнем адаптационного потенциала к условиям высокой санитарно-эпидемиологической напряженности – неработающие пенсионеры, работающие представители низкодоходных групп (n = 10). Применялось открытое кодирование транскриптов интервью.
В гайде 8 использовались два типа открытых вопросов, обеспечивавших возможность оценки динамики практик заботы информантов о своем здоровье. Во-первых, общие вопросы, предлагавшие информанту самому охарактеризовать наличие/отсутствие изменений («В последние годы изменилась для вас значимость здоровья? Вы стали больше ценить здоровье или меньше?», «Изменился ли ваш образ жизни после пандемии? Стали вы иначе относиться к своему здоровью, заботиться о нем?», «Появилось ли что-то новое в вашем образе жизни в пандемию, что есть и сейчас (что осталось)? Вместе с данными вопросами в ряде интервью использовались подталкивания «Может быть появились какие-то новые привычки?», «Вы стали как-то иначе относиться к профилактическим осмотрам, иначе питаться, заниматься спортом и пр.?». Во-вторых, вопросы о конкретных практиках заботы, задававшиеся информантам в рамках трех развиваемых в интервью сюжетов – «жизнь до пандемии», «жизнь в пандемию» и «жизнь после пандемии».
Для оценки динамики отдельных практик заботы о здоровье привлекались результаты Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)9. На основе панельной выборки была сформирована подвыборка респондентов, принимавших участие в трех волнах исследования – 2018 г., Волна 27 (условный маркер «допандемийного» периода), 2020 г., Волна 29 («пандемийный» период) и 2022 г., Волна 31 («постпандемийный» период). Объем анализируемой выборки составил 6317 человек, среди них 2531 мужчин (40%) и 3786 женщин (60%). Выборочная совокупность представлена лицами с 2000 по 1924 г. р., из которых большинство на 2022 г. имеет детей (83%) и партнера, т. е. состоят в зарегистрированном браке или сожительствуют (62%). Основная доля респондентов (40%) проживает в областном центре, остальная часть – в городе (27%), селе (26%) и ПГТ (7%). Соотношение работающих и неработающих примерно одинаковое, 51 и 49% соответственно.
Анализировались ответы респондентов на вопросы, касающиеся а) медицинской активности («В течение последних трех месяцев вы показывались медицинскому работнику для прохождения профилактического осмотра, а не потому что были больны?»), б) двигательной активности («Занимались ли вы в течение последних 12 месяцев по меньшей мере 12 раз прогулочной ходьбой?», «Занимались ли вы в течение последних 12 месяцев по меньшей мере 12 раз каким-либо видом спорта)?», учитывалась также частота и продолжительность занятий), в) отказа от курения и потребления алкоголя («Вы курите в настоящее время?» и «В течение последних 30 дней вы употребляли алкогольные напитки?»).
Парадокс заботы. Декларирование vs действие. Анализ эмпирического материала в первом приближении показал усиление здоровьесохранной направленности повседневного поведения россиян после окончания пандемии COVID-19. Это выражалось через два декларируемых информантами тезиса – первый касался ценностных изменений («я понял, насколько важно здоровье»), второй – собственно поведения («я стал более внимательно следить за своим здоровьем»). Аргументация, приводимая в поддержку данных тезисов, связана а) с пандемией в целом («пандемия научила маленько относиться к себе, к окружающим с уважением каким-то» (жен., 44 г., замужем, 2 детей, Новосибирск)), б) с личным опытом болезни коронавирусом или опытом тяжелой болезни или смерти близких людей («я когда ковидом переболела, у меня как-то очень здоровье пошатнулось […] что-то стала думать, что надо вот так сяк как-то поддержать здоровье» (жен., 66 л., вдова, Пермь), в) с объективными факторами, не имеющими отношения к пандемии – возрастом / старением, планированием или рождением детей («С учетом возрастных изменений, мне кажется, я стала больше обращать внимание на какие-то свои недомогания, на здоровье в целом, потому что, ну, эти изменения стали более явными» (жен., 40 л., вдова, Нижний Новгород), «У меня в этом году родился ребенок, поэтому я стал гораздо ответственнее подходить к своему здоровью» (муж., 24 г., женат, 1 ребенок, Пермь).
Признание влияния пандемии COVID-19 на общее отношение людей к своему здоровью можно считать консенсусом – информанты убежденно говорят о том, что пандемия «заставила уделять больше внимания», «изменила взгляд», «показала значимость». При описании заботы о здоровье в период пандемии проговаривается рост самосохранительной ориентации («Когда пошел активный всплеск заболеваемости, мы очень сильно себя обезопасили, старались предохраняться от возможных каких-то контактов и всего остального» (жен., 36 л., замужем, 1 ребенок, Новосибирск). Информанты упоминают весь набор рекомендованных официальными органами власти и экспертным сообществом мер профилактики заражения коронавирусом – от ношения масок и самоизоляции до вакцинации, отмечают, что следовали рекомендациям, несмотря на неудобства.
Отдельным мотивом в интервью звучал отказ от привычных способов заботы о здоровье – прогулок, занятий физической культурой и спортом в пандемию («Двигательной активности вообще стало в разы меньше. Я бы сказал, что она была нулевая, потому что сидишь дома, ешь и ничего не хочется (муж., 23 г., не женат, Пермь)). Анализ данных RLMS-HSE подтверждает спад двигательной активности россиян в 2020 г. по сравнению с 2018 г. Так, у 5,8% опрошенных, занимавшихся в 2018 г. прогулочной ходьбой, в 2020 г. отмечалась отрицательная динамика. В отношении занятий спортом аналогичные изменения фиксируются у 7,1% респондентов. Уменьшение двигательной активности связывается с ограничительными мерами («Я стал гораздо меньше гулять из-за того, что на улице города появились патрули полицейских и, соответственно, была введена юридическая ответственность за отдаление от места своего жительства» (муж., 23 г., не женат, Пермь)) и перенесенной коронавирусной инфекцией («…в течение болезни, которая протекала не совсем благоприятно, мне пришлось уйти из данного вида спорта [занятий в лыжной секции] на неопределенный промежуток времени» (жен., 20 л., не замужем, Новосибирск)).
Другим важным сюжетом в интервью стало изменение практик потребления алкоголя и курения в пандемию. С одной стороны, информанты говорили о самоограничениях, связанных как с объективными обстоятельствами (локдаун), так и с состоянием физического здоровья («В момент болезни я отказывался от курения, чтобы восстановить мою систему, не расшатывать ее» (муж., 20 л., не женат, Новосибирск)). С другой – напротив, о приобщении к вредным привычкам. Анализ данных RLMS-HSE показывает отсутствие сколько-нибудь значимых изменений в уровне приверженности россиян потреблению табака в период пандемии. Так, в 2020 г. 3,2% респондентов панельной выборки сказали, что стали меньше курить по сравнению с 2018 г., тогда как 2,4%, начали курить больше. В отношении потребления алкоголя динамика более значительная, но также разнонаправленная – 11% респондентов стали пить меньше алкоголя в 2020 г. по сравнению с 2018 г., а 8,4% – больше.
Для описания позитивных изменений в отношении к здоровью после пандемии как на индивидуальном, так и на общественном уровне информанты используют набор довольно размытых характеристик – «больше смотреть [за своим здоровьем]», «более внимательно относиться», «лучше следить [за своим здоровьем/иммунитетом/состоянием/самочувствием]», «прислушиваться [к себе, к организму]». Объяснить, в каких именно практиках проявляется более внимательное отношение к своему здоровью после пандемии, оказалось для информантов существенно более сложным, чем рассказать об изменении в собственном поведении в период пандемии (особенно – в ее «острой» фазе). Использование подталкиваний в некоторых интервью позволило выйти на отдельные конкретные практики («стал пить больше воды», «начала ходить пешком»), но закрепления принципиально новых, более самосохранных моделей поведения в сфере здоровья обнаружено не было. Интересно, что подобные изменения в поведении других людей, чем-то отличающихся от информанта, артикулируются как ожидаемые: «Я думаю, что те, кто переболел, те, обжегшись на молоке, стали дуть на воду. Безусловно, они наверняка стали серьезнее относиться к своему здоровью… поскольку я не болела, то у меня не было страха, в моем окружении никто не умирал, поэтому довольно спокойно относилась ко всему […], жизнь вошла в свою колею» (жен., 75 лет, вдова, Новосибирск).
Сопоставление ответов информантов на вопросы о различных практиках заботы о здоровье в периоды до и после пандемии позволяет говорить о фактическом отсутствии положительных изменений. Данный вывод подтверждают результаты мониторинга RLMS-HSE (табл.).
Таблица. Динамика практик поведения россиян в сфере здоровья (панельная выборка RLMS-HSE, N = 6317, 2022 г. по сравнению с 2018 г., в % от числа опрошенных)*
Показатели | Поведенческая практика | ||||
курение | потребление алкоголя | прохождение профилактических осмотров | Занятия прогулочной ходьбой | Занятия спортом | |
Все респонденты | |||||
Изменение в направлении самосохранения | 4,3 | 13,3 | 15,0 | 8,7 | 6,9 |
Без изменений | 92,5 | 77,1 | 71,9 | 84,7 | 84,2 |
Изменение в направлении саморазрушения | 3,2 | 9,6 | 13,2 | 6,3 | 8,8 |
Общий вектор изменения** | 1,1 | 3,7 | 1,8 | 2,4 | –1,9 |
Мужчины | |||||
Изменение в направлении самосохранения | 6,7 | 11,4 | 13,7 | 7,9 | 5,9 |
Без изменений | 88,1 | 77,8 | 74,6 | 87,8 | 84,4 |
Изменение в направлении саморазрушения | 5,2 | 10,8 | 11,7 | 4,4 | 9,7 |
Общий вектор изменения | 1,5 | 0,6 | 2 | 3,5 | –3,8 |
Женщины | |||||
Изменение в направлении самосохранения | 2,7 | 14,7 | 15,8 | 9,3 | 7,7 |
Без изменений | 95,5 | 76,6 | 70,0 | 83,2 | 84,0 |
Изменение в направлении саморазрушения | 1,8 | 8,7 | 14,2 | 7,5 | 8,3 |
Общий вектор изменения | 0,9 | 6 | 1,6 | 1,8 | –0,6 |
_____________
Примечания. * Для расчета динамики существующие переменные были преобразованы в дихотомические, которые в последующем сравнивались между собой. Если первый показатель был меньше второго, то присваивалось значение «Изменение в направлении самосохранения», если наоборот, то – «Изменение в направлении саморазрушения». Равенство показателей свидетельствовало об отсутствии изменений в динамике. ** Показатель рассчитывался как разница долей респондентов, изменивших свое поведение а) в сторону самосохранения и б) в сторону разрушения. Отрицательные значения показателя свидетельствуют о преобладании респондентов, изменивших свое поведение в сторону саморазрушения. Показатель не учитывает амплитуду изменений. Близость значения показателя к 0 свидетельствует о примерно равных долях респондентов, изменивших свое поведение в ту или иную сторону.
Рассматривая практики заботы россиян о своем здоровье в разрезе трех временных периодов – до пандемии, во время пандемии и после нее – можно описать их динамику в виде волны, гребень которой приходится на первый этап пандемии с введением жестких ограничительных мер и характеризуется максимальным усилением самосохранительной ориентацией поведения. Далее наблюдается «возврат к старой нормальности», обычной привычной жизни: «Уже все сошло на нет. Уже полностью допандемийное состояние» (муж.,32 г., женат, Пермь), «На вопрос о том, повлияла ли пандемия как-то глобально на поведение в сфере здоровья: в своем окружении не вижу движений ни в одну из сторон, это прошло и все благополучно об этом забыли» (муж., 29 л., женат, Новосибирск).
Постпандемия: опривычивание, реконфигурация и отмирание практик. COVID-19, будучи заболеванием инфекционной природы, закономерно сказался на профилактическом гигиеническом поведении населения. Уровень приверженности протективным практикам в первую волну пандемии среди россиян был высоким – согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в начале апреля 2020 г. 76% респондентов ограничили контакты с окружающими, 58% следили за гигиеной рук, в т. ч. использовали антисептики, 30% носили медицинскую маску10. При ответе на вопрос о том, как информанты заботились о своем здоровье в пандемию, типичным является перечисление указанных мер: «маску носил, скопления людей избегал, лишний раз на улицу не выходил, руки часто мыл» (муж., 68 л., женат, Нижний Новгород).
Анализ поведения россиян после пандемии выявил три варианта трансформации данных практик. Первый вариант – их опривычивание (хабитуализация), закрепление в «человеческой обыденности» [Бергер и др., 1995]. Сами информанты используют слово «привычка» для характеристики повседневных рутинных действий: «Это все вошло в привычку […] Обработка рук и держание в сумке антисептика на данный момент стабильно присутствует в моей жизни. Также я стараюсь не касаться поручней в общественном транспорте и вообще не касаться поверхностей. Избегаю огромных скоплений людей, стараюсь соблюдать дистанцию и ни с кем не иметь плотного тактильного контакта, тем более с незнакомыми мне людьми» (жен., 20 л., не замужем, Новосибирск), «Мытье рук уже осталось тоже как привычка» (жен., 46 л., замужем, 2 детей, Пермь). Второй вариант – отмирание практик с сохранением их внешних атрибутов. Это сохранение может быть связано как с инертностью, замедленным реагированием человека на динамику внешней среды («И у нас, кстати, очень долго, наверное, года три, даже когда пандемия немного стихла, у нас дома стояла бутылка водки с дозатором, которым можно опрыскивать руки. Она, по-моему, до сих пор стоит, уже выдохлась, но до сих пор стоит» (жен., 23 г., не замужем, Пермь), так и с сохранившейся внутренней скрытой тревожностью и неосознанным желанием приобрести уверенность в завтрашнем дне («Мы [в пандемию] поставили столы отдельно для клиентов, и так и оставили, на этом же месте […], чтобы разговаривать с людьми, меньше контакт чтобы был, на всякий случай» (муж., 44 г., женат, 2 детей, Новосибирск), «В машине лежат маски до сих пор. Я, честно сказать, как бы там ни было, иной раз смотришь, на японцев или китайцев. Они привыкли с этим, они в масках. Наверное, они правильно это делают все-таки» (муж., 50 л., женат, 2 детей, Новосибирск), «Маски у меня все лежат, на случай если там вдруг чего» (жен., 38 л., разведена, 1 ребенок, Нижний Новгород). Третий вариант – полный отказ от практик пандемийного периода: «Даже из головы он [коронавирус] вылетел. Просто перестали защищаться, перестали маски носить… Везде же так стало…» (жен., 42 г., замужем, 2 детей, Новосибирск), «Вот во время короны я часто пытался сдержать себя, чтобы не трогать лицо, очки. Даже поправлял очки аккуратней, максимально отодвинуть касание рукой лица. А сейчас в принципе уже ушло, и я забыл об этом» (муж., 26 л., не женат, Новосибирск). Опрос ВЦИОМ, проведенный в марте 2022 г., показал, что большинство россиян не хотели бы «взять с собой в постковидное будущее» ни одну из реализовывавшихся в период пандемии практик профилактики заболеваний11. Отказ от популярных в период пандемии гигиенических практик связан с их тесной ассоциацией с коронавирусной инфекцией. Данные практики воспринимались как специфические, направленные на противодействие распространению конкретного вируса, а приверженность им определялась паническими настроениями и страхом заболеть [Ali et al., 2023]. Спад заболеваемости и смертности от коронавируса, отмена жестких ограничений привели к снижению уровня напряженности в общества и восприятию профилактики как «избыточной», «ненужной». Переложения типичного для «острой» стадии пандемии гигиенического поведения на иные ситуации высокой эпидемиологической напряженности (например, сезонный грипп) не произошло.
К быстрому отказу от практик самосохранения, характерных для пандемийного периода, привело и их изначальное восприятие многими россиянами как «навязанных извне». Решения органов власти, направленные на обеспечение коллективного иммунитета, расценивались гражданами как формы принуждения к нежелательным действиям – вакцинации [Глазков, 2022], ношению масок и соблюдению карантина [Андреева, Лукьянова, 2022], что создавало отталкивающий эффект, усугублявшийся невозможностью следования ряду предписаний и слабостью контроля их исполнения [Макушева, Нестик, 2020]. Согласно опросу, проведенному в апреле 2020 г. исследовательским холдингом ROMIR в партнерстве с GALLUP INTERNATIONAL по заказу Фонда развития гражданского общества, 37% россиян называли те или иные ограничительные меры чрезмерными12. В августе 2020 г., по данным Фонда «Общественное мнение», почти половина россиян (47%) не доверяли официальной информации о ситуации с коронавирусом в России13. В целом именно доверие государству являлось значимым фактором выбора индивидами протективных стратегий поведения в период пандемии [Karakulak et al., 2023].
Ограничения передвижения и социальных контактов в период пандемии привели к реконфигурации ряда практик заботы о здоровье, закрепившихся в своем измененном виде и в постпандемийный период. Так, невозможность посещать спортзалы и фитнес-клубы в условиях локдауна побудила людей искать альтернативные способы сохранения привычного уровня физической активности оказавшиеся впоследствии удобными и для постпандемийной жизни: «До пандемии я даже не думала о том, что заниматься можно дома. Мы как-то даже не задумывались об этом. Во время пандемии часто я занималась спортом дома. Я даже коврик себе купила именно во время пандемии […] и сейчас я занимаюсь дома йогой» (жен., 23 г., не замужем, Пермь), «Я начала заниматься домашним спортом, те же упражнения делать, которыми я до сих пор сейчас занимаюсь» (жен., 35 л., разведена, 1 ребенок, Новосибирск). Большое количество появившихся в пандемию онлайн-платформ и приложений для домашнего фитнеса, адаптированных под различных потребителей, действующих как «цифровой личный тренер», а также групповые онлайн-тренировки, запущенные классическими фитнес-клубами, стали значимым фактором, определившим закрепление практик домашних занятий физической культурой и спортом [Valeriani et al., 2023].
Развитие цифровых технологий в сочетании с высокой нагрузкой на систему здравоохранения и ограниченной мобильностью граждан определило также интенсивную институционализацию телемедицины в период пандемии [Shaver, 2022]. В интервью речь шла об освоении новых форм взаимодействия с врачом в ситуации болезни – общении по телефону, в социальных сетях и с помощью мессенджеров («Они [участковые врачи] перешли на новый уровень и использовали элементы телемедицины. Конкретно мой участковый был молодой специалист, и я находился в постоянном контакте с ним путем переписки в мессенджерах и созвона. Но это, возможно, только мне повезло, не у всех такие молодые и продвинутые были специалисты» (м., 32 г., женат, Нижний Новгород)) и об активизации поискового поведения в Интернете («Начал читать какие-то там форумы, чтобы узнать, как не заразиться, каких мест лучше избегать, в целом читать свежие новости по поводу коронавируса» (м., 21 г., не женат, Новосибирск). Однако практики предоставления медицинских услуг на расстоянии после пандемии не стали распространенными. Согласно опросу, проведенному Аналитическим центром НАФИ в июне 2022 г., только 17% россиян когда-либо пользовались телемедицинскими услугами, хотя уровень готовности получать те или иные услуги в формате телемедицины по сравнению с 2017 г. вырос на 19% (с 61 до 80%)14.
Заключение. Пандемия COVID-19, актуализировавшая заботу о здоровье на всех уровнях, заставившая государства и рядовых граждан пересмотреть привычные стратегии здоровьесбережения, сегодня является «завершенным опытом», причины которого ушли в прошлое [Козеллек, 2016]. Большинство не столкнувшихся с тяжелой формой протекания коронавирусной инфекции, перевернувшей жизнь «с ног на голову», не вписали пандемию в свою «автобиографическую память» [Brown, 2016]. Период пандемии воспринимается как «прошедший шок», а практики, релевантные ситуации высокой эпидемиологической и социальной напряженности, не находят отражения в вернувшейся «старой нормальности».
Публичный дискурс о пандемии, характеризовавшийся ожиданиями серьезных изменений после ее окончания, в т. ч. в отношении переосмысления значимости здоровья, оказал влияние на декларируемые ценности. Эмпирические данные демонстрируют консенсус различных социальных групп касательно важности заботы о здоровье, приоритета здоровья по отношению к другим аспектам жизни, признания «повышения внимания к здоровью» в качестве эффекта пандемии. Однако существенного роста самосохранительной ориентации в повседневном поведении россиян не прослеживается. Наблюдаемые изменения в поведении в сфере здоровья имеют во многом разнонаправленный характер.
Пандемия усилила определенные тренды в отношении населения к своему здоровью, наблюдавшиеся и ранее – распространение идеологии хелсизма, цифровизацию практик заботы о здоровье, рост внимания к психоэмоциональному благополучию и ментальному здоровью [Богомягкова и др., 2022]. Так, ограничение мобильности и высокая нагрузка на систему здравоохранения дали толчок развитию телемедицины, невозможность посещения спортзалов и распространение фитнес-приложений и онлайн-платформ для дистанционных тренировок – освоению практик «домашнего фитнеса».
Несмотря на отмирание большинства специфических гигиенических практик, ориентированных на профилактику заражения коронавирусной инфекцией, их атрибуты в повседневной жизни россиян сохраняются. Причина не только в человеческой инертности, но в подсознательной настороженности («на всякий случай»), недостаточной уверенности в будущем, желании найти точки опоры в неопределенности. Пандемия COVID-19, вероятно, принципиально не сделала россиян более ответственными в отношении здоровья, но, несомненно, повлияла на их субъективное восприятие защищенности от внешних угроз.
1 Рекомендации для населения в отношении инфекции, вызванной новым коронавирусом (COVID-19) // Всемирная организация здравоохранения. URL: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public (дата обращения: 22.03.2024).
2 О рекомендациях для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах // Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php? ELEMENT_ID=15514 (дата обращения: 22.03.2024).
3 Asonye Ch. There’s nothing new about the ‘new normal’. Here’s why // World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/06/theres-nothing-new-about-this-new-normal-heres-why/ (дата обращения: 22.03.2024).
4 Антитабачный закон в России: десять лет без сигарет? // Всероссийский центр изучения общественного мнения. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/antitabachnyi-zakon-v-rossii-desjat-let-bez-sigaret (дата обращения: 22.03.2024).
5 Алкоголь на фоне пандемии // Всероссийский центр изучения общественного мнения. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/alkogol-na-fone-pandemii (дата обращения: 22.03.2024).
6 О престиже профессии врача и доверии медикам // Фонд «Общественное мнение». URL: https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14890 (дата обращения: 22.03.2024).
7 Выборочное наблюдение состояния здоровья населения // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области. URL: https://33.rosstat.gov.ru/folder/61245 (дата обращения: 22.03.2024).
8 Полностью авторский методический инструментарий.
9 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS- HSE) // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле и Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. URL: http://www.hse.ru/rlms и https://rlms-hse.cpc.unc.edu (дата обращения: 19.03.2024).
10 Защититься от коронавируса? Реально! // Всероссийский центр изучения общественного мнения. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zashhititsya-ot-koronavirusa-realno (дата обращения: 22.03.2024).
11 Прощай, COVID-19? Два года пандемии, адаптация и смена повестки // Всероссийский центр изучения общественного мнения. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/proshchai-covid-19-dva-goda-pandemii-adaptacija-i-smena-povestki (дата обращения: 22.03.2024).
12 Результаты всероссийского опроса ROMIR и GALLUP INTЕRNATIONAL об отношении населения к коронавирусу // Фонд развития гражданского общества. URL: http://civilfund.ru/mat/view/117 (дата обращения 18.04.2024).
13 (Не)доверие к официальной информации о коронавирусе // Фонд «Общественное мнение». URL: https://covid19.fom.ru/post/nedoverie-k-oficialnoj-informacii-o-koronaviruse (дата обращения: 18.04.2024).
14 80% россиян готовы пользоваться сервисами телемедицины // Аналитический центр НАФИ. URL: https://nafi.ru/analytics/80-rossiyan-gotovy-polzovatsya-servisami-telemeditsiny/ (дата обращения: 22.03.2024).
Об авторах
Наталья Александровна Лебедева-Несевря
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: natnes@list.ru
доктор социологических наук, доцент, профессор; кафедра социологии
Россия, ПермьСофья Юрьевна Шарыпова
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Email: sonia.eliseeva@bk.ru
кандидат социологических наук, старший преподаватель; кафедра социологии
Россия, ПермьСписок литературы
- Андреева Ю. В., Лукьянова Е. Л. Отношение к противоковидным мерам на промышленных предприятиях (на примере Ульяновской области) // Социологические исследования. 2022. № 8. С. 67–77. doi: 10.31857/S013216250020185–6. [Andreeva Ju.V., Lukyanova E. L. (2022) Attitudes Toward Coronavirus Protection Measures in Enterprises (on the Example of the Ulyanovsk Region). Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 8: 67–77. (In Russ.)]
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. [Berger P., Lukman T. (1995) The social construction of reality. A treatise in the sociology of knowledge. Moscow: Medium. (In Russ.)]
- Богомягкова Е. С., Орех Е. А., Глухова М. Е. Цифровые технологии в практиках заботы о здоровье жителей Санкт-Петербурга // Социологические исследования. 2022. № 10. С. 145–155. doi: 10.31857/S013216250018705–8. [Bogomiagkova E. S., Orekh E. A., Glukhova M. E. (2022) Digital technologies in the healthcare practices Of St. Petersburg residents. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 10: 145–155. (In Russ.)]
- Глазков К. П. В погоне за коллективным иммунитетом: прививочные стратегии россиян в контексте различных форм принуждения к вакцинации // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 3. С. 301–326. doi: 10.14515/monitoring.2022.3.2110. [Glazkov K. P. (2022) Chasing herd immunity: vaccination strategies of Russians in the context of various forms of enforcement to vaccination. Monitoring obschestvennogo mneniya: ekonomicheskie i socialnye peremeny [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 3: 301–326. (In Russ.)]
- Козеллек Р. «Пространство опыта» и «Горизонт ожиданий» – две исторические категории // Социо- логия власти. 2016. № 28(2). С. 149–173. [Koselleck R. (2016) The “space of experience” and the “Horizon of Expectations” are two historical categories. Sotsiologiya vlasti [Sociology of Power]. No. 28(2): 149–173. (In Russ.)]
- Макушева М. О., Нестик Т. А. Социально-психологические предпосылки и эффекты доверия социальным институтам в условиях пандемии // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 6. С. 427–447. doi: 10.14515/monitoring.2020.6.1770 [Makusheva M. O., Nestik T. A. (2020) Socio-psychological preconditions and effects of trust in social institutions in a pandemic. Monitoring obschestvennogo mneniya: ekonomicheskie i socialnye peremeny [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 6: 427–447. (In Russ.)]
- Ali A. S., Yohannes M. W., Tesfahun T. (2023) Hygiene behavior and COVID-19 pandemic: opportunities of COVID-19-imposed changes in hygiene behavior. Inquiry. Vol. 60: 469580231218421. doi: 10.1177/00469580231218421.
- Bojanowska A., Kaczmarek Ł. D. et al. (2021) Changes in values and well-being amidst the COVID-19 pandemic in Poland. PLoS ONE. Vol. 16. No. 9: e0255491. doi: 10.1371/journal.pone.0255491.
- Brown N. R. (2016) Transition theory: a minimalist perspective on the organization of autobiographical memory. Journal of applied research in memory and cognition. Vol. 5. No. 2: 128–134. doi: 10.1016/j.jarmac.2016.03.005.
- Cicovacki P., Salomé Lima N. (2022) Our common post-covid-19 pandemic future: a return to “normal” or a creation of the new “normal”? Ethical Thought. Vol. 22. No. 1:112–123. doi: 10.21146/2074-4870-2022-22-1-112-123.
- Corpuz JCG. (2021) Adapting to the culture of ‘new normal’: an emerging response to COVID-19. Journal of public health. Vol. 43. No. 2: e344-e345. doi: 10.1093/pubmed/fdab057.
- Davis N., Forbes B., Wylie-Rosett J. (2009) Nutritional strategies in type 2 diabetes mellitus. The Mount Sinai journal of medicine. Vol. 76. No. 3:257–268. doi: 10.1002/msj.20118.
- Folayan M. O., Abeldaño Zuñiga R. A. et al. (2023) A multi-country survey of the socio-demographic factors associated with adherence to COVID-19 preventive measures during the first wave of the COVID-19 pandemiс. BMC Public Health. Vol. 23. No. 1: 1413. doi: 10.1186/s12889-023-16279-2.
- Getachew E., Adebeta T. et al. (2023) Digital health in the era of COVID-19: Reshaping the next generation of healthcare. Frontiers in public health. No. 11:942703. doi: 10.3389/fpubh.2023.942703.
- Guèvremont A., Boivin C. et al. (2022) Positive behavioral change during the COVID‐19 crisis: The role of optimism and collective resilience. Journal of consumer behaviour. No. 10.1002/cb.2083. doi: 10.1002/cb.2083.
- Hu Y., Lü W. (2022) Meaning in life and health behavior habits during the COVID-19 pandemic: Mediating role of health values and moderating role of conscientiousness. Current psychology. No. 6: 1–9. doi: 10.1007/s12144-022-04020-y.
- Karakulak A., Tepe B. et al. (2023) Trust in government moderates the association between fear of COVID-19 as well as empathic concern and preventive behaviour. Communactions Psychology. No. 1: 43. doi: 10.1038/s44271-023-00046-5.
- Leach M., MacGregor H. et al. (2021) Post-pandemic transformations: How and why COVID-19 requires us to rethink development. World development. No. 138: 105233. doi: 10.1016/j.worlddev.2020.105233.
- Manuti A., van der Heijden B. et al. (2022) Editorial: how normal is the new normal? individual and organizational implications of the COVID-19 pandemic. Frontal psychology. No. 13: 931236. doi: 10.3389/fpsyg.2022.931236.
- Metin Ö., Dolma M. (2023) How has the pandemic affected social values? From the perspective of preservice teachers, is it erosion or gain? Shanlax international journal of education. Vol. 11. No. S1: 109–121. doi: 10.34293/education.v11iS1-Jan.5814.
- Narasimhan M., Allotey P., Hardon A. (2019) Self care interventions to advance health and wellbeing: a conceptual framework to inform normative guidance. BMJ. No. 365: l688. doi: 10.1136/bmj.l688.
- Patin A., Ladner J., Tavolacci M.-P. (2023) Change in university student health behaviours after the onset of the COVID-19 pandemic. International journal of environmental research and public health. Vol. 20. No. 1: 539. DOI: 10.3390/ ijerph20010539.
- Schönweitz F., Zimmermann B. M. et al. (2024) Solidarity and reciprocity during the COVID-19 pandemic: a longitudinal qualitative interview study from Germany. BMC Public health. Vol. 24. No. 1: 23. doi: 10.1186/s12889-023-17521-7.
- Shaver J. (2022) The state of telehealth before and after the COVID-19 pandemic. Prim care. Vol. 49. No. 4: 517–530. doi: 10.1016/j.pop.2022.04.002.
- Shi L. (1998) Sociodemographic characteristics and individual health behaviors. Southern medical journal. Vol. 91. No. 10: 933–941. doi: 10.1097/00007611-199810000-00007.
- Valeriani F., Protano C. et al. (2023) Analysing features of home-based workout during COVID-19 pandemic: a systematic review. Public health. No. 222: 100–114. doi: 10.1016/j.puhe.2023.06.040.
- WHO guideline on self-care interventions for health and well-being, 2022 revision. (2022) Geneva: World Health Organization.