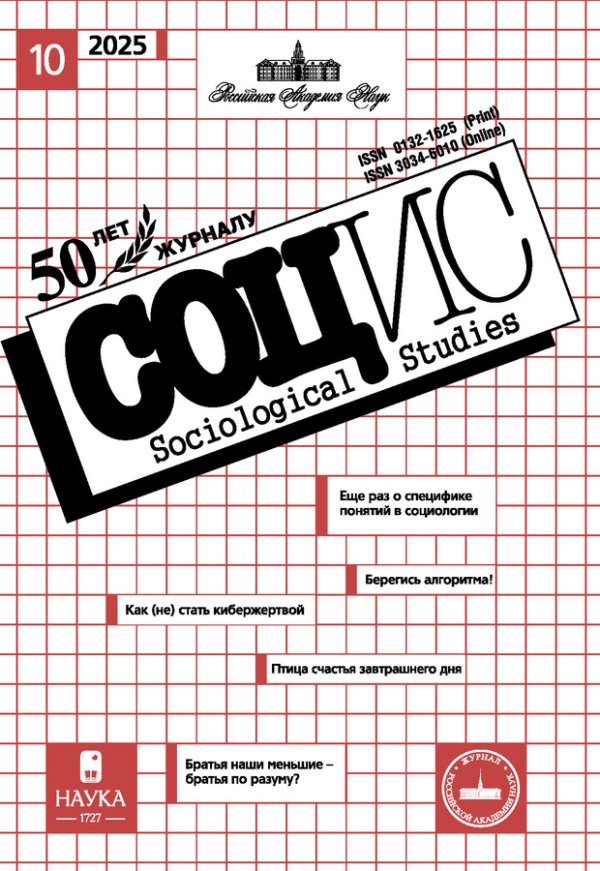Расколдовывание западного мейнстрима
- Авторы: Мартьянов В.С.1
-
Учреждения:
- Институт философии и права УрО РАН
- Выпуск: № 6 (2024)
- Страницы: 53-64
- Раздел: СОЦИАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-1625/article/view/263305
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524060058
- ID: 263305
Полный текст
Аннотация
Изменение глобальной социальной онтологии влечет за собой неизбежную трансформацию нормативной модели самоописания модерного общества (общества модерна) в социальных науках. В условиях достижения разнообразных пределов роста (емкость глобальных рынков, демография, экология, массовая занятость и т. д.) актуализируется поиск и легитимация альтернативных социальных иерархий и принципов распределения ресурсов, которые осложняются стагнацией ресурсной базы человечества и присвоением интеллектуальных рент и инфраструктурных (технологических, военных, экономических) преимуществ размывающимся меньшинством. Эти фоновые тенденции ведут к а) неизбежной трансформации доминирующих представлений о том, что является социальной, экономической, политической нормой, и б) критической рецепции нормативных самоописаний западных обществ, которые в силу безусловного доминирования Запада представлялись как идеал общественного устройства для всех остальных. Альтернативой западному мейнстриму все чаще становятся понятия и концепции, описывающие будущее вне идеологически нагруженных и все менее релевантных моделей либеральных демократий и саморегулируемых рынков, которые противоречиво и весьма ограничено были реализованы в исторической практике самих западных обществ. Глобальная дискуссия об универсальных социальных нормах обусловлена социально-политическим и экономическим контекстом, повсеместно фиксирующим для большинства граждан неравенства и несправедливости де-факто олигопольных рынков и элитарных демократий, с различной интенсивностью охватывающих все современные общества. Расколдовывание (М. Вебер) нарратива либерально-рыночных демократий подтверждается усилением национализма, протекционизма, популизма, повсеместным сжатием социального государства и восстаниями меньшинств, в том числе в странах Запада, обнаруживая все большее расхождение социальной теории, идеологии и онтологии в обосновании конца истории, оказавшегося ее новым, постзападным поворотом.
Ключевые слова
Полный текст
Долгосрочное ослабление Запада и кризис европоцентризма в социальных науках. Появление и институциализация социальных наук во многом порождены необходимостью описания незавершенной исторической ситуации Модерна. Принципиально иное состояние социума возникло в связи с военно-экономическим подъемом Европы и обусловлено нормализацией быстрых социальных перемен (еретических и патологических с позиций феодально-сословного общества), рыночного типа ресурсных обменов, появлением публичной сферы, гражданского общества, фоновыми процессами урбанизации, индивидуализации, секуляризации, институциональной дифференциации и т. д. Цели познания (выявления закономерностей) нового общественного состояния и его нормализации совпали с европейским правом первородства в формировании гражданских наций (предмет социологии), территориальных государств (предмет политологии и права) и транснациональных рынков (предмет экономики). Всё это на определенный период истории обеспечило привилегированное положение Запада в мире, фактическое тождество Запада, Модерна, социальной нормы, блага и прогресса. Однако в условиях актуальной трансформации социально-экономической онтологии принципы и версии глобального Модерна постепенно разотождествляются с обобщенным Западом. Он превращается в определенную специфику внутри глобального Модерна, одновременно влияя на общий упадок нормативных и универсалистских иерархий и самоописаний модерных обществ в социальных науках в их западном каноне.
Исторически дух капитализма возник в Европе, ускорив инвестиции в технологии и их масштабирование в эпоху великой географической экспансии, создавшей предельно асимметричную, сверхприбыльную и контролируемую европейцами мировую систему центр-периферийного обмена. Экспансия Запада была основана на ограниченном действии технологических преимуществ, постепенно перенимаемых остальным миром, что вело к неизбежному падению нормы прибыли и росту сопротивления бенефициарам мировой колониальной системы. Однако временные преимущества Запада были положены в основу тезиса о естественном и бесконечном прогрессе и социально-политических форматах, которые его обеспечивают. Первоначально европейский колониализм, ситуативно чередуя режимы торговли (включая работорговлю), грабежа и захвата земель и народов, исходил из концепции ничьей земли (terra nullius) [Спиридонова, 2022: 17–18]. Вскоре выяснилось, что на ничьей земле существуют народы и культуры, способные осваивать модерные технологии/институты и оказывать возрастающее сопротивление. Появилась необходимость идеологически обосновать насилие, грабежи, эксплуатацию и оправдание двойных стандартов во взаимодействиях метрополий с колониями. С этой целью была создана система социального знания и образования, где колонизаторы становятся субъектами общественного блага, синонимом прогресса и цивилизации, а колонии – варварства, отсталости и заблуждений. Социальные науки для Запада и не-Запада были придуманы в виде двух отдельных номенклатур. «Институционализация истории и трех номотетических дисциплин – экономики, социологии и политической науки – в последней трети XIX и первой половине XX века приняла форму университетских дисциплин, в рамках которых западный мир изучал себя» [Валлерстайн, 2016: 309]. Для остального мира были придуманы ориенталистика, занимавшаяся незападными цивилизациями, и антропология, чьим предметом стали колонии и зависимые от западных метрополий территории.
Европейцы не питали иллюзий относительно временного характера своего мирового колониального господства. Все больше колоний обретали самостоятельность, военно-политическую и экономическую субъектность, а некоторые сравнялись, даже превзошли бывших колонизаторов в технологиях и доходах на душу населения. Соответственно, мейнстрим социальных наук, в центре которого сохраняются перспектива и координаты желательного взгляда на мировой порядок в интересах Запада, теряет былую магию, чаще становится предметом критики в деколонизирующих, цивилизационных и иных дискурсах не-Запада. В результате подъема новых незападных центров силы и передела сфер военного, экономического, культурного влияния устоявшиеся языки описания социальной реальности становятся все менее ясными и релевантными. Прогнозируемый на ближайшие десятилетия околонулевой рост развитых экономик [Smith, 2017: 161–184], умножение форматов экономических войн и военного столкновения в битве за ресурсы (идущие на смену идеальнотипической экономической конкуренции), снижение влияния Запада обострили проблему релевантности теорий и нарративов, образующих мейнстрим социальных наук. Все больше исследователей выступают с критикой мейнстрима, связанного с теориями рационального выбора и моделями экономического человека; концепциями естественного равновесия социума и рынка; универсальной эффективности теории игр; институциональными теориями, призванными легитимировать конкретно-исторический социальный порядок как нормативный или единственно возможный, несмотря на вызовы и внутренние противоречия [Макклоски, 2015; Шапиро, 2011; Куиггин, 2016; Пикетти, 2016 и др.]. Задачи идеологического оправдания слабеющей гегемонии начинают преобладать над целями научного познания. Радикальные трансформации позднемодерного общества являются экзистенциальным и методологическим вызовом социологии, которая «возникла как научная дисциплина в эпоху индустриальной современности и уже давно выводит свои основные концепции из этой структуры. Это также станет испытанием для политического дискурса, который долгое время управлялся “проектом модерности” и его идеей всеобщего прогресса» [Reckwitz, 2020: 310].
Под мейнстримом социальных наук понимаются идеологические представления и во многом детерминируемые ими концептуальные схемы, связанные с нормативным характером самоописаний современных западных обществ, прежде всего США и Западной Европы для всех других обществ. Эти самоописания а) опираются на военную, политическую, технологическую и экономическую мощь; б) поддерживаются пулом авторитетных научных институций, журналов и интеллектуалов, включая нобелевских лауреатов, будучи усилены перекрестными цитированиями; в) представляются как релевантные для западных социальных реалий и г) предлагаются незападным обществам в качестве достижимого идеала общественного устройства. В конечном итоге создается ситуация, когда «Просить гранты на исследования за пределами принятой экономической теории и ее инструментария примерно так же бесполезно, как Мартину Лютеру было бы бесполезно рассчитывать на гранты Ватикана» [Райнерт, 2011: 232]. Вместе с тем рост исключенных и маргиналов, изгоев и отверженных, а также возможностей контроля над ними имеют пределы, когда критическая масса несогласных начинает вырабатывать альтернативы мейнстриму.
В конце концов, Лютер основал свой мейнстрим, а до этого мейнстримом в Римской империи стало само христианство. Все более спорные тезисы а) о монополии Европы на генезис современной науки/технологий и б) о Западе как олицетворении Модерна/Современности в противовес отсталому Востоку/Югу/Незападу имели идеологический подтекст, особенно в годы холодной войны [Поскетт, 2024]. Неразрешимая методологическая проблема состоит и в том, что в социальных теориях поиск истин и обоснование общественных закономерностей неотделимы от идеологических притязаний на нормативные интерпретации представлений об общественном благе (идеале) и способах его достижения в условиях Модерна: «одни претендуют на “универсальность” своих ценностей, другие настаивают на их “уникальности”. И те, и другие исходят из своего морального превосходства. Россия и Китай больше не готовы мириться с западными претензиями на универсальность… Мировые элиты активно используют терминологию ценностей, но в действительности борются за власть»1. Недоверие к мейнстримным нарративам возрастает вследствие растущего зазора между требованиями научной релевантности и их явно идеологическими функциями: «Повсеместный упор на математическую и логическую строгость позволил экономической науке добиться внутренней последовательности, которой нет ни в одной другой социальной науке. Но мало пользы в том, чтобы последовательно ошибаться. Экономика должна отказаться от модели совершенно рационального, дальновидного и исключенного из общества агента, решения которого были предметом анализа в течение десятилетий» [Куиггин 2016: 241].
Методологическая ограниченность мейнстримных подходов основана и на специфичном эмпиризме, когда социальная реальность разделяется на герметичные части, которые не предполагают выхода за отдельные локальные матрицы [Jameson, 1971: 306– 417]. Научные истины становятся частными истинами отдельных дисциплин, не способных к системному критическому объяснению и обобщению социальной реальности. Аксиомами распространяемого на все социальные науки экономического империализма являются естественное равновесие социальных систем, рациональность взаимодействующих субъектов и стабильность предпочтений. Эти аксиомы релятивны, так как социальное, экономическое и политическое равновесие не бывает естественным, оно пересматривается и устанавливается как временный компромисс преимуществ и уступок социальных групп в итоге переговоров. Реальное воспроизводство общества подтверждает исходную взаимозависимость политики, истории, экономики и культуры [Ефимов, 2014]. В результате возникает ключевая для социальных наук проблема утраты способности к объяснению фундаментальных общественных изменений и их закономерностей, что когда-то объявлялось в качестве их главной задачи. Господствующий идеологический нарратив превращается в норматив социальной науки, стремящийся остановить историю, избавиться от альтернатив, невыгодных бенефициарам социального порядка [Мартьянов, 2003: 235]. Он выражает преимущественно интересы социальных сил (наций, классов, корпораций, социальных слоев), заинтересованных в сохранении имеющегося политического и экономического порядка, в приостановке опасного социального реформирования и экспериментирования.
В социальных науках убеждению в идентичности общества его господствующему нормативному описанию как неотъемлемой части социального порядка противостоят концепции, доказывающие несоответствие реального общества его описаниям, вскрывающим их ангажированность партикулярной властной элитой в пользу более справедливых альтернатив. На уровне ценностных систем этот динамичный механизм самоописания повторяется в виде оппозиции идеологий, описывающих общество с позиций доминирующих классов, и утопий, являющихся описаниями общества в перспективе восходящих классов [Манхейм, 1994: 7–276]. Альтернативные самоописания чреваты переворотами и революциями, они «взываются» утопиями, принадлежащими социальным силам, которые хотели бы расширить свои права и возможности, получив контроль над своей судьбой. В результате легитимация социального порядка осуществляется в виде оправданий статус-кво, таких как модели естественного равновесия и спонтанного порядка, производные от принципов термодинамики. Подобная исследовательская позиция позволяет обходить вопрос об основаниях социального порядка, концентрируя внимание на проблемах индивидуальной и коллективной адаптации к наличному социальному режиму, которому приписывается статус естественного, природного и саморегулируемого. Уверенность мейнстрима в сложившемся социальном порядке как нормальном и должном не позволяет ответить на вопросы об истинных причинах накапливающихся изменений, предлагая метафорически считать их социальной болезнью, провалом реформ, эффектом зависимости от предшествующего развития, социокультурной травмой или временными отклонениями от нормы.
Тем не менее последние десятилетия демонстрируют нарастание разнообразных отклонений всех обществ от простых прогрессорских моделей, позволяющих выстроить их всемирную моральную (идеологическую) иерархию, на которой потом основываются иерархии властно-институциональные. Повышение частотности объяснительных метафор архаизации и упадка оправдывается обобщенным нарративом гражданского ремонта/институциональной ловушки/социокультурной травмы. Этот нарратив, несмотря на множество значимых противоречий, внутренних конфликтов и институциональных дисфункций, предполагает, что мейнстримная модель социального порядка не нуждается в принципиальных изменениях, тем более в альтернативах. Поскольку рост наблюдаемых отклонений и непривычных тенденций, плохо поддающихся качественному описанию и выявлению категориальным словарем западного мейнстрима, являются лишь локальными и временными кризисами, отклонениями от институциональной колеи.
Мейнстрим, первоначально сложившийся в контексте классового-индустриального Модерна, теряет убедительность, превращается в слабеющий защитный нарратив, призванный убедить, что капитализм, рынок и демократия испытывают временные трудности. Причем, если для стран центра мироэкономики предназначена идея совершенствования, ремонта или креативной настройки Модерна, то для полу- и периферии политические приоритеты остаются в виде догоняющей модернизации, в которой Ахилл никогда не догонит черепаху. Достижение историко-пространственных пределов расширения и интенсивности обменов внутри капиталистической миросистемы, а также тотальной коммодификации социума одновременно становится кризисом легитимации глобальной иерархии обществ, основа которой – метафора совершенного расширяющегося рынка/демократии, генерирующего бесконечный прирост спроса и прибыли, гражданских прав и возможностей.
Нарратив Запада в виде нормативной риторики демократии, рынка, свободы, общества открытого доступа, инклюзивных институтов и т. д. входит объективно в противоречие с экономическими и политическими интересами неправильных обществ [Чанг, 2018]. Все чаще незападные общества отказываются от вмешательства в свои дела внешних прогрессоров и цивилизаторов, когда под видом демократизации (политические перевороты, цветные революции), просвещения и помощи оформляется их военная, политическая, экономическая и т. д. зависимости. Претензии западного мейнстрима на универсальность дискредитируются множащимися практиками двойных стандартов, когда под предлогом установления демократии и обеспечения прав человека осуществляется вторжение в Югославию, Ирак или Ливию. Гораздо менее демократичные Нигерия, Пакистан или Уганда, возглавляемые лояльными Западу лидерами, получают статус союзников.
В результате понятийный лексикон мейнстрима утрачивает способность к убедительному описанию незападных и западных обществ. Например, в России и во многих других странах с так называемыми авторитарными режимами присутствие авторитаризма (как его понимают политологи либерального толка) с точки зрения «обычных людей» неочевидно и почти незаметно в повседневной жизни: «…у большинства респондентов если и есть претензии к власти, то они почти исключительно касаются провалов в социальной и экономической политике. Репрессии и ограничения свобод осуждает крошечное меньшинство – в основном образованные жители Москвы и Санкт-Петербурга» [Клеман, 2018: 76]. Высокая чувствительность отдельных социальных групп к ограничению политических свобод является ошибкой экстраполяции, когда интересы и образ жизни слоев начинают приписываться большинству, распространяться на всё общество в качестве нормативных и/или должных.
Готовность большинства россиян и мирового большинства граждан незападных стран жить в несовершенном обществе (которое является таковым в кривых зеркалах западного мейнстрима) дискредитируется. Стереотипны отсылки к патернализму и примитивности советского человека, институциональной инерции, попытки инфантилизации путинского большинства и т. д. Однако в сравнительном межстрановом контексте миф о личной и гражданской неразвитости россиян рассеивается. Это демонстрируют данные о высокой степени индивидуализма, рациональности и секуляризации образа жизни россиян, сопоставимой с европейским уровнем2. При этом меньшинство (лидеры мнений, активисты блогосферы, пикейные жилеты, некоммерческие и негосударственные организации с непрозрачным финансированием и т. д.) инициативно возлагает на себя функции политического просвещения отсталого большинства, воображаемого представительства его интересов. Политические интеллектуалы с их бескомпромиссным и заёмным у внешних культуртрегеров языком истины (термин С. Кордонского) часто опираются на поверхностные и стереотипные данные, сомнительные нормативные схемы, рисуемые по осям координат: архаика/современность, рабство/свобода, тоталитаризм/демократия, план/рынок, сводимых к ключевой оппозиции добра/зла. Это не является особостью публичного пространства или социальных наук российского общества. «В результате “конфликт цивилизаций” подменяет собой идеологическую и политическую борьбу. Ровно так же обстоят дела в США и во многих странах. Выяснение, кто в наибольшей степени выражает “моральные” качества, заменило идеологические дебаты во всем мире» [Клеман, 2018: 81].
Соответственно, мейнстрим, питавшийся интерпретацией прогресса, сведенного к экспансии рыночной метафоры во все сферы человеческой деятельности, обнаруживает ее технологические, исторические, идеологические, демографические, экологические и иные пределы, свидетельствующие в том числе о фундаментальном противоречии рынка и демократии как синонимов [Валлерстайн и др., 2015]. Моральная перспектива мейнстрима, опирающаяся на конструирование универсальных иерархий, в которых большинство современных обществ являются неполноценными, уже не может опираться на естественное превосходство Запада, каким оно казалось еще совсем недавно. Марксизм, миросистемный анализ, социальный конструктивизм, постколониализм и иные влиятельные течения убедительно опровергают этот тезис, показывая историчность и рукотворный характер любого социально-политического и экономического порядка, образуемого совместной деятельностью людей: «Эпоха американского доминирования уходит, но оказывает сопротивление по прежним, хорошо знакомым проектно-нарративным канонам. Как внутри западных обществ, так и за их пределами оппозиция “либеральному” миропорядку объявляется автократической, фашиствующей и подлежащей низвержению во имя лучшего будущего» [Цыганков, 2022: 12].
Безусловно, в исторических условиях расширения рынка и демократии регулятивные элементы сословно-государственного патримониализма отступают благодаря подъему массовой субъектности и формированию публичной сферы. Это вовсе не означает, что дарообменные, патрон-клиентские и семейно-родственные практики исчезают как типы социальных коммуникаций, а выборные процедуры становятся чем-то принципиально б�льшим, чем механизмом легитимации и ротации элит. Наоборот, институты, классифицируемые мейнстримом как архаичные и приписываемые отсталым обществам, могут оставаться сильны в формате закрытых внутриэлитных взаимодействий в самих странах Запада, определяющих последующие публичные решения, к легитимации которых лишь впоследствии подключаются широкие массы граждан. Исходная проблема умолчания состоит в том, что рынок, конкуренция и демократия существуют преимущественно во внешней среде семейств/фирм/партий/институтов, но не внутри них, где царит совсем другая регуляция – план, иерархия, дисциплина, все то, что является негативной характеристикой для плохого правления, неправильных элит и репрессивных политических институтов. Соответственно, можно попытаться выстраивать все общественные отношения согласно метафоре прогрессивного и саморегулируемого рынка, но в конечном счете зайти в тупик в связи с необходимостью поддержания внеэкономических условий существования самого рынка, которые являются вовсе не рыночными [Коуз, 1995: 11–32].
Перечисленные выше типы нерыночной социальной регуляции прекрасно сосуществуют в любом социальном порядке на разных уровнях и в разных локусах с демократией и рынком. Это превращает попытки выстроить иерархическую классификацию современных социальных порядков в бессмысленную редукцию, в которой бинарные оппозиции привилегированного/ущербного делят социальные порядки современных обществ исключительно на условные аналоги рая и ада (демократия и тоталитаризм, рынок и плановая экономика, цивилизация и варварство, современность и архаика, прогресс и застой и т. д.). Подобная задача в сложной земной жизни очевидно не решаема. Паллиативный выход мейнстрима из этого противоречия состоит в идеологическом, чрезвычайно избирательном и поверхностном взгляде на конкретные политические порядки, способном легитимировать политические интересы отдельных субъектов лишь на ограниченном отрезке времени.
Модерное общество в призме конфликта понятийных описаний. Набирающие силу глобальные контуры общества без потребности в массовом труде и с растущими слоями лишних людей (в сложившейся структуре экономики и общественно-политических приоритетов) обусловливают все меньшую убедительность описания большинства обществ, включая Россию, как культурных и институциональных отклонений от идеального типа демократии и рынка, поскольку отклоняются от нормативных описаний мейнстрима все модерные общества, в том числе западные, и чем дальше, тем решительнее. Вместе с тем растет признание того, что и рынок, и демократия накопившиеся структурные проблемы автоматически разрешить не смогут, так как являются инструментами, а не самим решением назревших проблем. Поэтому все менее релевантную прогрессорскую оптику западного мейнстрима можно трансформировать, если рассмотреть новейшую историю не как иллюстрацию развития нормативной модели либеральной демократии/рынка, а как альтернативное ей эволюционное изменение субъектов, источников и принципов распределения ресурсов в обществе [Фишман и др., 2019]. Универсальный контроль ресурсов власти, статуса, собственности составляет все более значимую оппозицию описательным механизмам конкурентной рыночной стратификации. В публичном дискурсе назревает необходимость в обсуждении усиления рентного характера позднемодерного общества и порождаемого им типа социальных отношений, который связан с моделью дифференцированного общества привилегий, структурируемого на основании неравной ценности граждан с точки зрения государства/номенклатуры/властной элиты. Общее движение к глобальному будущему все чаще описывается понятиями, которые не связаны с метафорами рынка, будь то версии коммунизма, нового Средневековья, трансгуманизма, господства технологий искусственного интеллекта и т. д.
Таким образом, нарратив о западной гегемонии утрачивает убедительную глобальную историю успеха в виде постоянно расширяющегося круга социальных бенефициаров рынка и демократии. Любой нарратив историчен и сначала является денотативным (описательным), затем претендует на прескриптивность (обязывающий, нормативный характер), а в конце становится перформативным (стирающим грань между языком и миром, где высказывание совпадает с действием). Перформативная стадия как, например, в случае с советским официальным нарративом, свидетельствует о стадии деградации и закостенения, все меньшей релевантности в отношении меняющегося социального мира и нарастающей тавтологичности используемых понятий [Юрчак, 2014: 62–67]. В настоящее время аналогичная ситуация развертывается и с западоцентричным нарративом социальных наук, который все чаще оборачивается своей негативной стороной в виде недоступности государства всеобщего благосостояния, ограниченности представительных демократий конкурентными элитами, фоновых процессов прекаризации (неустойчивой и негарантированной трудовой занятости) [Прекарная занятость…, 2021], обострения конкуренции социальных групп и национальных сообществ за внерыночный передел конечных ресурсов на разных уровнях капиталистической миросистемы. На глобальном уровне кризис классово-рыночной модели стратификации общества, распределения ресурсов, функционирования институтов и нормативных моделей описания выражается в: а) неспособности западных элит поддерживать прежнюю центр-периферийную модель и обеспечивать глобальную экономическую и политическую регуляцию, в том числе через подконтрольные транснациональные союзы; б) растущем разочаровании в нормативных либерально-демократических порядках граждан западных обществ, все чаще сталкивающихся с негативными издержками глобализации у себя дома (рост неравенства, безработица, утечка капитала, обострение конкуренции, нисходящая социальная мобильность, миграция, рост этнорелигиозного напряжения); в) вызовах со стороны незападных обществ, стремящихся установить альтернативные иерархии и занять более справедливое положение в глобальном мире в соответствии со своим возросшим военным, демографическим, экономическим и политическим весом.
Россия и иные незападные центры глобального влияния в социальных классификациях Запада априори не будут демократическими, свободными, рыночными, либеральными, прогрессивными, привлекательными и т. д. Эти негативные оценочные суждения подтверждаются всевозможными глобальными рейтингами, основанными, как правило, на субъективных мнениях, оценках ангажированных экспертов и зависимых от внешнего финансирования организаций [Иванов, 2015]. Классификации, заложенные в эти рейтинги, являются самоучреждающими. Согласно внутренним критериям, они будут достигать непротиворечивых результатов и доказательных оценок, которые запрограммированы создателями подобных классификаций. Сопротивляться им могут только другие субъекты и классификации, создающие альтернативные образы социальной реальности и языки ее описания.
В настоящее время происходит восстановление политической субъектности центров силы не-Запада. Конец истории оказался лишь ее очередным поворотом, за которым все финальные политические теории вновь обнаруживают своих далеких от универсальности корпоративных, классовых, национальных и цивилизационных бенефициаров. Контроль избранными обществами нормативных описаний модерных обществ исключительно посредством привилегированных членов бинарных оппозиций (и вменение всем остальным ущербных и негативных противоположностей) с целью обоснования своего идеологического и морального превосходства становится неубедительным в ситуации критической переоценки привычных метафор и ценностных иерархий, организующих мейнстримное мышление. Очевидный, но явно ошибочный путь преодоления мейнстрима состоит в создании обратного карго-культа (магического подражания колонизаторам), основанного на простом переворачивании бинарных кодов, когда отклонения становятся достоинствами, а маргинальные и периферийные феномены превращаются в новые социальные нормы. Это может обретать форму отстаивания уникальности, самобытности и возврата к воображаемой традиции (как правило, полностью оторванной от традиционного образа жизни), противопоставленных чуждой Современности внешних прогрессоров. В результате и колониальное мышление в виде карго-культа Запада, и тотальное отрицание любых его достижений в контексте уникальности любой незападной цивилизации, суверенной демократии и духовных скреп оказываются одинаково ущербны для содержательного описания общества, в котором мы живем здесь и сейчас. Более плодотворной и убедительной представляется ориентация социальных наук на выявление не столько дифференцирующих отличий внутри Модерна, сколько общих фоновых закономерностей воспроизводства социально-политического и экономического порядка всех модерных обществ в капиталистической миросистеме.
Незападные центры силы все чаще выступают субъектами альтернативного научного и идеологического описания глобального социального порядка и новейших версий Модерна. В ситуации обострения глобальной конкуренции нарастает всеобщее желание усилить собственную культурную аргументацию (мягкую силу) и объявить версии Модерна/Современности своих соперников ограниченными. Например, описать нацию-государство лишь как особую политическую форму Запада, которой могут противостоять восходящие центры силы, описываемые в виде отдельных цивилизации (Китай, Индия, Россия, Иран, Турция и т. д.). При этом цивилизационно-исторические дискурсы наций-цивилизаций действительно убедительно описывают культурные ограничения и процессуальные недостатки западной модели Модерна, а также собственные домодерные культурные традиции. Однако, когда возникает потребность в следующем шаге, который заключается в описании собственной цивилизационной Современности как альтернативной западоцентризму, возникают значимые понятийные и методологические затруднения [Наумкин, 2020].
Запрос на обновление научных языков описания общества выражается в выработке базовых консолидирующих понятий, описывающих социальное устройство современного общества, и формировании научных и идеологических конвенций относительно их релевантного применения в меняющемся глобальном мире. Тенденция проявляется в многочисленных концепциях с приставками нео-, пост-, мета-, альтер- и умножающимися примерами отклоняющихся от прокрустова ложа культурной нормы практик, процессов и обществ, призванных скорее спасти мейнстрим от назревших изменений, чем предложить альтернативу, поскольку альтернативы могут отталкиваться только от действительно базовых понятий – власти, собственности, силы, территории, технологий, политического сообщества интерпретируемых как ресурсы политических субъектов. Это позволяет социально-политической мысли вновь вернуться к фундаментальному вопросу о принципах воспроизводства социального порядка и прагматических критериях распределения ограниченных благ взамен прогрессорства, абстрактного индивидуализма, теорий рационального выбора и количественной математизации, с помощью которых социальные науки мимикрируют в аналог естествознания на службе мировых гегемонов.
Заключение. Трансформация иерархического миропорядка и общей социальной структуры современных обществ обусловливает принципиальные перемены системы социального знания, в значительной степени связанные с расколдовыванием, десакрализацией его ценностно-институционального ядра, ориентированного – помимо научного объяснения общественных закономерностей – на нормативное обоснование особых интересов и глобальной гегемонии Запада. Анализ совокупности наблюдаемых фоновых социальных изменений позволяет обнаружить ряд устойчивых тенденций и сформулировать некоторое выводы.
Во-первых, альтернативный язык описания закономерностей глобального мира формируется новыми социальными группами и усиливающимися политическими сообществами. Причем не только теми, которые являются прогрессивными, но и теми, которых доминирующий дискурс еще/уже не видит, либо идеологическим образом относит к патологии, исключению, отсталости и архаике.
Во-вторых, социальные группы и отдельные общества ведут поиски принципов нового общественного порядка, позволяющего интегрировать лишние, эксплуатируемые, игнорируемые классы и общества, составляющие большинство человечества, в пост-западоцентричную версию глобального миропорядка. Таков потенциальный многополярный мир, в котором есть достойное место всем современным обществам, имеющим гораздо больше сходств, чем идеологически утрируемых культурно-исторических мифов и различий. Это предполагает отказ от поверхностных бинарных иерархий, от противопоставлений добра и зла, прогресса и отсталости, демократии и тоталитаризма, индивидуализма и коллективизма, плана и рынка, Запада и Востока и т. д., которые все чаще обнаруживает пределы способности к объяснению и легитимации наблюдаемых общественных закономерностей как внутри конкретных обществ, так и фоновых тенденций в масштабе всего человечества.
В-третьих, в условиях исчерпания интеллектуальных стандартов западного мейнстрима расширяется вариативность пространств гетерархии (одновременность различных источников и типов легитимной власти) и гетеротопии (параллельное сосуществование разных пространственных способов организации социума). Естественным образом растет признание автономии альтернативных критериев релевантности, нормативности и справедливости разных способов организации совместного сосуществования людей или исторически сложившихся типов коллективностей (или градов в терминологии [Болтански, Тевено, 2013]), составляющих в совокупности внутренне конфликтное и динамичное модерное общество.
В-четвертых, разрыв ложной синонимичности между западной и мировой наукой отменяет необходимость ритуального обращения к внешней фигуре Запада, воплощающей каноны и стандарты мировой науки в качестве объекта туземно-провинциального карго-культа [Соколов, Титаев, 2013]. Аналогичным образом восприятие российских социальных наук как органичной части мировой науки больше не требует удостоверения этого факта магическими посредниками в системе европоцентристских координат. Это является способом обретения российскими социальными науками необходимой степени интеллектуальной автономии, завершения провинциального состояния, которое в постсоветский период искусственно поддерживалось теориями модернизации и транзита как необходимости бесконечного перехода к недостижимым нормам/идеалам/общественным состояниям, чьи критерии во многом контролировались внешними прогрессорами. Обобщенный Запад перестает быть и привилегированным актором, и социальным идеалом, становясь лишь одним из субъектов выработки универсального в глобальном масштабе. Подобная ситуация создает эффективные возможности для российского обществознания, связанные с выработкой оригинальных конкурентных идей и концепций, адресованных всему человечеству и имеющих в силу этого высокие шансы быть услышанными вовне.
1 Цыганков А. Двойной стандарт постмодерности: конфликт ценностей и международное соперничество. 2022. URL: https://globalaffairs.ru/articles/standart–postmodernosti/ (дата обращения: 25.04.2024).
2 World Values Survey. URL: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp (дата обращения: 25.04.2024).
Об авторах
Виктор Сергеевич Мартьянов
Институт философии и права УрО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: martianov@instlaw.uran.ru
доктор политических наук, директор
Россия, ЕкатеринбургСписок литературы
- Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии градов. М.: НЛО, 2013.
- Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Т. IV. Триумф центристского либерализма, 1789. М.: РФСОН, 2016.
- Ефимов В. М. Как капитализм, университет и математика сформировали магистральное направление экономической дисциплины // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН. 2014. Т. 14. № 2. С. 5–51.
- Иванов В. Г. «Charts power» – «Рейтинговая сила» как инструмент мягкой силы и экономическое оружие: технологии использования и стратегии противодействия. М.: Инфра-М, 2015.
- Клеман К. В чем проблема с авторитаризмом? // Неприкосновенный запас. 2018. № 5. С. 76–88.
- Коуз Р. Природа фирмы // Теория фирмы: Сб. ст. / Под ред. В. М. Гальперина. СПб.: Эконом. школа. 1995. С. 11–32.
- Куиггин Дж. Зомби-экономика. Как мертвые идеи продолжают блуждать среди нас. М.: ВШЭ, 2016.
- Макклоски Д. Риторика экономической науки. М.: Ин-та Гайдара, 2015.
- Манхейм К. Идеология и утопия. Диагноз нашего времени М.: Юристъ, 1994.
- Мартьянов В. С. Метаязык политической науки. Екатеринбург: УрО РАН, 2003.
- Наумкин В. В. Модель не-Запада: существует ли государство-цивилизация? // Полис. Политические исследования. 2020. № 4. С. 78–93.
- Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.
- Поскетт Дж. Незападная история науки. Открытия, о которых мы не знали. М.: Альпина Паблишер, 2024.
- Прекарная занятость: истоки, критерии, особенности / Под ред. Ж. Т. Тощенко. М.: Весь мир, 2021.
- Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. М.: ВШЭ, 2011
- Соколов М., Титаев К. Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. 2013. № 19. С. 239–275.
- Спиридонова В. И. Контуры многоцивилизационного мира // Проблемы цивилизационного развития. 2022. Т. 4. № 2. С. 5–32.
- Фишман Л. Г., Мартьянов В. С., Давыдов Д. А. Рентное общество: в тени труда, капитала и демократии. М.: ВШЭ, 2019.
- Цыганков А. П. Глобальный конфликт позднего модерна: логика и пределы эскалации // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. № 6. С. 10–21.
- Чанг Х. Д. Злые самаритяне. Миф о свободной торговле и секретная история капитализма. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018.
- Шапиро И. Бегство от реальности в гуманитарных науках. М.: ВШЭ, 2011.
- Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: НЛО, 2014.
- Jameson F. Towards Dialectical Criticism // Marxism and Form: Twentieth Century Dialectical Theories of Literature. Coll. of art. Princeton University Press. 1971. P. 306–417.
- Reckwitz A. The Society of the Singularities. Cambridge; МА: Polity, 2020.
- Smith J. The Global South in the Global Crisis // Journal of Labor and Society. 2017. No. 2. P. 161–184.