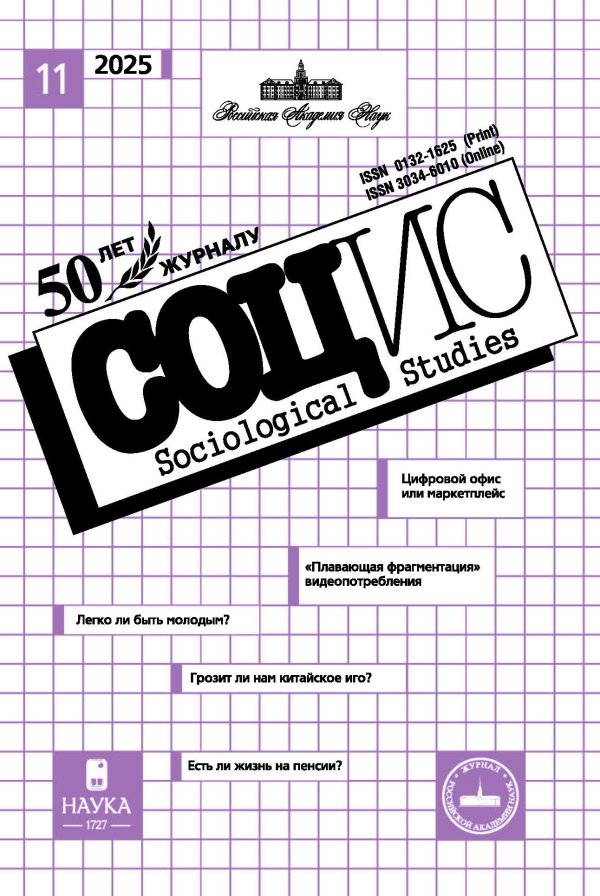Мыслить против империи: aнтиколониальная мысль как социальная теория
- Авторы: Го Д.1
-
Учреждения:
- Чикагский университет
- Выпуск: № 1 (2024)
- Страницы: 15-27
- Раздел: ТЕОРИЯ. МЕТОДОЛОГИЯ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-1625/article/view/257017
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524010028
- ID: 257017
Полный текст
Аннотация
Cоциология родилась на рубеже ХIХ–ХХ вв. в мире колониальных империй как часть и опора их политики и культуры. Настоящая статья является попыткой привлечь внимание к антиколониальной социальной мысли, выросшей рядом с социологией метрополий, но маргинализованной ею. Возникнув из идеологии антиколониальных движений, антиколониальная социальная мысль ХIХ–ХХ вв. была плодом усилий разных мыслителей (А. Мабини, У. Дюбуа, Ф. Фанон, А. Кабрал и др.). Их подходы предлагают оригинальное видение общества, социальных отношений, социальной структуры, дают аналитически полезные подходы, в частности, к социальной личности, социальной солидарности и роли глобальных отношений. Антиколониальная мысль – это альтернативный корпус социологической мысли, к которому нужно обращаться на пути к её деколонизации.
Ключевые слова
Полный текст
Вступление. В самом конце ХIХ в., в 1899 г., некий Аполинарио Мабини1 писал об обществе: «Общество – ассоциация людей, объединенных для взаимопомощи, чтобы каждый мог пользоваться максимумом возможного благосостояния, что недостижимо усилия- ми одного человека без помощи других… Человек в одиночку не живет, не строит дом, не шьет одежду и не добывает пищу, другие нужные вещи» [Mabini, 1931: II, 22, 68].
Это определение кажется достаточно банальным, однако в нем примечательны два аспекта. Во-первых, А. Мабини пробует теоретизировать «общество» в то время, когда в Европе и США многие делали то же, – примерно в 1899 г., шестью годами после создания кафедры социологии Чикагского университета и присуждения Корнеллским университетом первой в США степени доктора социологии. Примерно тогда же начали выходить «Американский социологический журнал» и «Социологический ежегодник» Э. Дюркгейма – год после выхода первого учебника социологии Ф. Гиддингса «Элементы социологии» [Giddings, 1898]. <…>
Во-вторых, А. Maбини, однако, никак не связан с упомянутыми событиями в США и Европе; он писал на Филиппинах. <…> Мабини входил в революционное правительство <…>, объявившее Филиппины независимой республикой. Это правительство возглавило выступления сначала против колониального господства Испании, а в 1899 г. против войск США, пытавшихся установить американский суверенитет над архипелагом. Maбини называли «мозгом» Филиппинской революции. <…> Короче, он был антиколониальным активистом и мыслителем, стремившимся создать новую страну, задушенную Соединенными Штатами – одной из стран, где тогда складывалась научная дисциплина социология.
<…> Социологи Чикагской школы создавали программу социологии в дни высадки их соотечественников на Филиппинах, Дюркгейм и другие социологи Европы создавали новые важные журналы, а филиппинский революционер Мабини думал об обществе, о его теории. Он теоретизировал общество не ради публикации в журнале британских или американских социологов. Он думал и писал об обществе, чтобы теоретически понять, почему общество восстает против колониального господства; он хотел знать об обществе то, что поможет создать хороший постколониальный строй.
Мысли о Мабини стали, можно сказать, программой моей статьи. Эта статья не о нем конкретно, а об антиколониальной мысли и социальной теории, точнее – об антиколониальной мысли как мысли социальной. Считая А. Мабини частью более общего течения социальной мысли ХIХ–ХХ вв. в мире колоний и за его пределами, я в этом течении вижу богатый свод работ и идей об обществе, который надо возродить и ценить сегодня, хотя доминирующая социология метрополий в целом отвергает этот корпус мысли: мол, это – не «настоящая» социология.
Для понимания моего экскурса нужно, прежде всего, немного истории социологии. После исторического экскурса я представлю корпус текстов и идей, который называю «антиколониальным», поясняю некоторые его параметры и ключевые мысли ученых, а затем обращусь к конкретным идеям об обществе и смежным темам, предложенным этим корпусом. В заключение поясню ряд отличий моего подхода от схожих попыток глобализовать социальную теорию и социологию. Полагаю, что проект возрождения антиколониальной мысли может стать частью – особой частью – других современных проектов.
Oт социологии в империях к антиколониальной мысли. При изучении истории социологии нас учат, что социология создана в Великобритании, других странах Европы и США как ответ на индустриализацию и ее проблемы. Но для понимания моей позиции нужна иная история – история, ставящая социологию в контекст не столько индустриализации, сколько империализма [Connell, 1997].
Социальная наука сегодня живет в рамке имперской мысли. <…> В других научных трудах я показал, что социология, как мы ее знаем сегодня, и всё социальное знание рождены в империи и для империи [Go, 2013c; 2016b: 1–14; 66–101; 2020]. Уже само понимание «социального» как пространства между природой и духовной сферой, возникшее в европейской мысли ХIХ в., рождено и принято мужскими элитами Европы в попытке понять, как реагировать на социальные выступления, сопротивление и восстания рабочих, женщин, народов колоний [Borch, 2012]. Например, в США одна из первых книг со словом «социология» на обложке, изданная Дж. Фицхью в 1854 г. под заголовком «Социология для Юга, или Провал свободного общества», прямо использует социальные идеи для оправдания рабства на Юге Соединенных Штатов [Fitzhugh, 1854; Morris, 2022: 6–9].
Институционализация социальных дисциплин на рубеже ХIХ–ХХ вв. еще больше привязала социальную мысль к империи. Это было время роста и укрепления империй. Как показала Р. Коннелл [Connell, 1997], ранняя социология отражала интересы империй новой формации, мировоззрения белых мужских элит растущих центров имперских метрополий. Значит, и вопросы, ставившиеся социологией начала ХХ в., отражали интересы и категории этих элит и имперской власти в широком смысле. Так, теория ассимиляции начала ХХ в. отразила озабоченность белых элит вторжением небелых «орд» [Jung, 2009]. <…> Боязнь социальных беспорядков; близость социологии к социальному дарвинизму; внимание к так называемой негритянской проблеме США; оптика ориентализма и эссенциализма в обсуждении М. Вебером и Э. Дюркгеймом иных культур – во всех этих вопросах и не только в них социология отражала интерес имперских центров и укоренившееся мировоззрение метрополий, то есть то, что я назвал «имперской точкой зрения» [Go, 2016b: 75].
Сегодня социология другая. Но многие её аспекты все еще несут печать истории империй. <…> Это видно, например, в нашей эпистемологии и методах, часто универсализирующих опыт Европы как некий «образцовый кейс» [Krause, 2021]. Эта долгая история рассмотрена в [Go, 2016b: 75–101]. Скажу лишь, что структуру имперской эпистемы хранят все разделы социологической мысли метрополий; эту структуру следует считать наследием имперского прошлого социологии.
Но нужен и набросок иных историй социальной мысли. Один из них – история антиколониальной мысли, история, начавшаяся не с империй, а с сопротивления им. Рост империй Британии, других стран Европы и США натолкнулся на сопротивление, отпор, противодействие. В тогдашнем мире на консолидацию империй и институционализацию имперской социологии народы колоний везде ответили сопротивлением разных видов – движениями за реформы и за независимость [Go, Watson, 2019]. <…> Эти движения сыграли ключевую роль в крахе колониальных империй во второй половине ХХ в. Не менее важно то, что они породили настоящий взрыв новых идей. <…> Хотя антиколониализм был движением политическим и экономическим, он затронул и социальную мысль: идеи, концепты, теории общества, социального, социальных отношений. Если в метрополиях устои социологии и социальной теории отражали имперские эпистемы, то антиколониальная мысль предложила взгляды на скрытые основания империй.
Антиколониальных мыслителей много <…>. Эта пестрая эклектичная группа породила очень разные идеи. Но, несмотря на различия, у мыслителей антиколониализма есть общие базовые характеристики. Большинство этих мыслителей родились и жили в колониях <…>. Наиболее известные из них – Аполинарио Мабини и Хосе Рисаль на Филиппинах, Эугенио Мария де Остос в Пуэрто-Рико, Франц Фанон и Эме Сезер на Мартинике. К ним бы я добавил президента Ганы Кваме Нкруму, руководителя антиколониальной борьбы в Португальской Гвинее Амилкара Кабрала2, вьетнамского антиколониального активиста Нгуен Ань Ниня, мартиникскую сюрреалистку С. Сезер3. Это лишь некоторые из них.
Многие учились в столицах империй <…> [Goebel, 2015; Matera, 2015]. Например, Хо Ши Мин и Франц Фанон 4 <…> учились в Париже, Хосе Марти и Хосе Рисаль – в Испании, К. Нкрума и С.Р.Л. Джеймс, многие другие лидеры антиколониализма жили в Лондоне. Часть антиколониальных мыслителей действовала во «внутренних колониях» метрополий. Афроамериканский социолог и политик У. Дюбуа, в основном работавший в США, – яркий тому пример; другой пример – Лаура Корнелиус Келлогг, активистка борьбы за права индейцев США, родившаяся в резервации племени онейда в Висконсине5.
Антиколониальная мысль возникла в разных социальных и профессиональных группах. Некоторые антиколониальные мыслители были настоящими учеными, преподавали в школах и университетах: не только У. Дюбуа, но и индийский социолог Радхакамаль Мукерджи6, алжирский социолог Абдельмалек Сайяд (соратник П. Бурдье), ливанский теоретик Махди Амель. Многие были журналистами и писателями; некоторые – активистами, политическими лидерами: Кваме Нкрума в Гане, Педро Альбису Кампос в Пуэрто-Рико и многие другие. Важно, что антиколониальная социальная мысль обычно рождалась не как научный текст, а как текст журналистов, памфлет политиков, в речах, <…> песнях уличных активистов.
Отсюда – еще одна важная черта этой пестрой коллекции противников колониализма. Несмотря на отсутствие у многих формальной принадлежности к социальной науке, их идеи и знания о мире, не замечаемые совсем или игнорируемые социологией империй, тем не менее важны и значимы. Они порой выдвигали новаторские идеи общества, социального, социальных отношений, на которых можно учиться. К тому же это была социология, содержавшая потенциально генерализируемые концепты и теории. Иначе говоря, антиколониальная социальная мысль предлагает не просто конкретные идеи, касающиеся только лишь народов колоний или расовых различий, а более широкие взгляды на общество.
Поэтому считать антиколониальную мысль социологией и социальной теорией – значит принимать приглашение к экспериментам. Изначально социологические мышление и практика были подчинены метроцентризму, разрабатывали понятия исходя из интересов и забот элит имперских метрополий, для них и в их интересах, применяя все это к остальному миру [Connell, 2007; Go, 2016b]. <…> А что если идти другим путем?
Концептуализируя социальное. <…> В произведениях антиколониальных мыслителей я вижу минимум три подхода к концептуализации общества и/или социальных отношений.
Вернусь к началу статьи. А. Мабини определял общество как «ассоциацию людей, объединившихся для взаимопомощи». Что это значит? Читая всю его статью, видишь, что Мабини мыслит общество как некую цепочку взаимообменов и обязательств, которые и создают социальные отношения: «Человек в одиночку не живет, не строит дом, не шьет одежду и не добывает пищу, другие нужные вещи. Ему приходится объединяться с другими людьми, занимающимися разными профессиями, чтобы путем обмена продуктами соответствующих отраслей каждый мог удовлетворить свои многочисленные потребности» [Mabini, 1931: II, 22–23]. Этот язык обмена, конечно, вторит теории обмена шотландских просветителей, не в последнюю очередь Адама Смита, а также версиям европейской тео- рии социального договора. Мабини, профессиональный юрист, мог ознакомиться с этими теориями, изучая право в Маниле [Majul, 1996]. Но едва ли следует видеть в его концепции общества второсортную версию этого течения мысли. Если Мабини и усвоил ряд «обменных» идей шотландского Просвещения и теории общественного договора, он их творчески переформулировал под влиянием испанского католицизма и реалий сельского патрон-клиентелизма. <…>
Если шотландские просветители выражали индивидуализм и подчеркивали рыночный обмен, Мабини теоретизирует взаимные обязательства как естественное право, существующее до и выше индивидов. Точнее, он считает взаимные обязательства членов общества выражением естественного права разума [Mabini, 1931: II, 22]. Поэтому, по Мабини, общество несводимо к рынку, где эгоисты-индивиды меняют материальные продукты, он не считает общество победой над состоянием анархии (по Гоббсу). Общество скорее начинается серией взаимных обменов и обязательств, рассматриваемых как права, поддерживаемые разумом. У Мабини исполнение социальных обязательств есть исполнение естественного права, и эти исполнения образуют социальное (см. подробнее: [Go, 1999: 342–345]).
Творчески переформулировав европейские понятия обмена и социального договора в антиколониальной борьбе, Мабини полагал, что колонизаторы – сначала Испания, потом США – преступили естественное право, поскольку их действия лишены взаимности. Они присвоили что-то у филиппинского общества, не дав ничего взамен. Они нарушили требования разума. Поэтому их свержение легитимно, как и замена новой властью, которая восстановит нормальную работу общества, лучше обеспечит мирный процесс взаимообмена обязательствами [Mabini, 1931: II, 24]. Тем самым социальная теория Мабини выступает как оправдание революции против империй.
<…> Антиколониальная мысль <…> разнородна – при ряде сходств. Разнородность частью коренится в различии социальных контекстов, форм колониализма и отсюда – различий в антиколониальной борьбе. Например, Мабини теоретизировал общество в контексте испанского колониального меркантилизма, привязавшего аграрное общество Филиппин к экстрактивной форме колониального господства7. Другие народы колоний имели дело с иными системами власти и колониальной логикой, решали иные проблемы доминирования, каждая из них требовала своих подходов, проблем, вопросов. Туземные народы под давлением поселенческого колониализма не имели дела с меркантилистским извлечением прибыли, их просто лишали собственности, сгоняли с земель [Coulthard, 2014; Wolfe, 2016]. В результате в антиколониальной мысли есть второй подход к концептуализации общества: общество – не ряд взаимообменов и обязательств людей, а скорее ряд скрытых отношений между людьми, природой и духовным миром.
Возьмем в качестве примера работы Лауры Корнелиус Келлогг. Одна из создателей Общества американских индейцев (1911–1923), которое было первой общенациональной организацией по защите прав американских индейцев, управляемой самими индейцами, она была мотивирована борьбой за возврат земель и за автономию коренных американцев. В пылу этой борьбы она формулирует взгляды на социальные отношения как на неразрывную связь с природой и с духами.
У Келлогг общество индейцев до прихода колонизаторов серьезно отличалось от «естественного состояния» Гоббса. В этом обществе краснокожий «брат богов» живет с «прекрасным течением вод» и «великими лесами». <…> Келлогг пишет, что племена индейцев-ирокезов объединялись в XVI–XVIII вв. в Лигу пяти племен, связанных воедино не общими экономическими или политическими интересами, а кличем орла: «Каждый народ свободен сам по себе как свободен человек». Но «когда орел в вышине над долинами и домом народов бросит клич, тогда они – одна душа, одно сердце, один человек» [Kellogg, 2015 (1920): 73]. По мысли Л. Келлогг, единство общества достигается призывами, материальным явлением духов в сфере природы; она не отделяет человека, духов и землю друг от друга.
<…> Келлогг писала во времена господства Чикагской школы, представлявшей общество как ряд ассоциаций людей на основе сходства их интересов [Small, 1900; 1904]; отношения людей с землей и богами при этом «вынесены за скобки». В противовес Келлогг и другие «туземные» мыслители в антиколониальной борьбе против изъятия земель выдвигали понятие общества как сложной ткани взаимозависимости духов, людей и природы, важнейшая часть которой – земля. Речь шла о плотной взаимозависимости элементов, признать которую от нас сегодня требует экологическая социология [Connell, 2007: 200]. Как видим, задолго до попыток Б. Латура [Latour, 2005] заставить нас теоретизировать социальное как «сборку» людей, природы и материальных объектов, Келлогг и «туземные» антиколониалисты формулировали схожие подходы.
Keллогг не одинока в этом видении общества. Еще одна версия этой идеи есть в работах индийского антиколониального социолога Радхакамаля Мукерджи. В трудах 1920- х гг. он близок к тому, что можно считать некоей «экологической» теорией социального. В отличие от ранней Чикагской школы и антропологических экологий того времени Мукерджи предложил более критичную точку зрения. В одной из первых работ он писал: «Человек и регион [природа] нераздельны, это взаимозависимые сущности». <…> Он прямо противопоставил свою концепцию «человеческому экологичному» подходу, который, по его словам, «почти целиком занят биотическими факторами, воздействием человека на человека, нередко забывая деревья и животных, земли и воды…» Он настаивал: нужна социология, изучающая не только «сокровенные экологические взаимоотношения человека, но… также… его тесный союз с целым рядом экологических сил, его участие в консервации земель, управлении лесами и реками, в приручении и использовании домашнего скота, контроле насекомых, бактерий, паразитов» [Mukerjee, 1930: 286].
Этот способ осмыслять социальные отношения <…> питал его страстную критику колониализма в Индии и во всем мире. Опередив на полвека латиноамериканские теории зависимости8, Мукерджи критиковал капитализм за принудительное «втискивание» слабых обществ в глобальное разделение труда стран-эксплуататоров, вынудивших страны-колонии существовать в системе экспортных монокультур. Эта система кабалы «бесчеловечней прежней системы домашнего рабства». Она опустошительна для экологии. «Труд, – говорил он, – деморализован стадным скоплением на плантациях людей, навербованных в деревнях… Не просто игнорируются привычные агрикультуры и животноводство, растет истощение почв из-за культивирования монокультур» [Mukerjee, 1926: 203]. Он назвал это «медленной инъекцией яда в их (колониальных обществ) систему бессовестными деятелями цивилизованных стран» [Mukerjee, 1926: 240]. Так новая концепция социального шла рука об руку с критикой колониализма.
Tрeтий набор идей о социальном, рожденный антиколониальной мыслью, – видение современного общества как системы господства с расколом по расовой линии. В этой концептуализации расовое деление и господство – ключевые формы структур и логики социального. Франц Фанон рисует общество Алжира под властью Франции фундаментально расколотым по расовым линиям, состоящим из <…> расово привилегированных и расово униженных. Во времена, когда неодюркгеймианские теории общества Т. Парсонса акцентируют социальное сплочение и интеграцию, Фанон видит общество разделенным на миры колонизаторов и колонизованных, поселенцев и «туземцев». Он писал, что колонизованный мир, «манихейский мир» отдельных пространств, – это мир, разделенный на отсеки. «Линия раздела, граница представлена казармами и полицейскими участками. “Туземный” сектор не дополняет сектор европейский… Строго по логике Аристотеля он следует законам взаимоисключения. Примирение невозможно» [Fanon, 1968 (1961): 3–4].
Во всех своих трудах Ф. Фанон <…> исследовал, как расовый раздел общества отражает экономические противоречия, созданные властями колоний, как он структурирует социальное пространство, какой мощный психологический эффект оказывает на колонизаторов и колонизуемых. Этот взгляд на колониализм и его последствия если и не влиял на ранние труды П. Бурдье по социологии колониального Алжира, то определенно был предисловием к ним [Go, 2013a].
Aмилькар Кабрал, революционер из Гвинеи-Биссау и Кабо-Верде, высказал схожие мысли в своих работах о том, что называл «социальной ситуацией» в африканских владениях Португалии. Он описал «социальную ситуацию» как «полную расовую сегрегацию за исключением контакта на работе, – в интересах колонизаторов. За малыми исключениями – в ЮАР – социального контакта семей африканцев и европейцев нет» [Cabral, 1979: 22]. Заведения типа кафе и баров, которые социология метрополий изображает местами социальной интеграции и отдыха, – привилегия исключительно европейцев. «Любой африканец, осмелившись посетить одно из этих мест, должен быть готов столкнуться с унижением» [Cabral, 1979: 23]. Вообразим Кабрала читающим Т. Парсонса, Э. Дюркгейма о социальных институтах как пространствах, функционирующих ради социального сплочения. Он возразил бы: «Да, они функциональны, но для кого?» Вообразим Кабрала читающим М. Фуко и задающим вопрос: «Да, власть дисциплинирует. Всех ли одинаково?» <…>
Находки антиколониальных мыслителей могут казаться применимыми лишь к колониальным и постколониальным обществам, казаться слишком частными, чтобы быть релевантными всей социологии. Эта видимость – одна из тех причин, почему социология метрополий игнорирует антиколониальную мысль на том основании, что она лишена обобщающего характера. Но применимы ли эти идеи только лишь к колониальным и постколониальным обществам? Так думать неверно.
Во-первых, как уже сказано, эти якобы локальные находки – сами по себе важные новации. Социология метрополий игнорировала специфику колониальных и постколониальных обществ. В социологии метрополий общества – это модерн или до-модерн, развитые или примитивные, капиталистические или докапиталистические общества. В ней нет колониальных обществ как особой формы общества или обществ в их собственной логике. Доминируя, социология метрополий не предлагала никакой теории колониальных или постколониальных обществ, хотя подавляющее большинство стран мира были колониями. В лучшем случае она считала эти общества местами скоплений темных масс, ждущих от белых спасения, или преходящими эпизодами эволюционных схем модернизации. Налицо достойная сожаления тенденция изучать колониальные и постколониальные общества через призму лишь теорий и концептов, основанных на опыте метрополий, – теория модернизации, веберовские патримониализм и бюрократия, построенные по модели индустриальной Великобритании марксистские теории9. Антиколониальные мыслители, такие как Ф. Фанон и А. Кабрал, внесли важную коррективу.
Во-вторых, даже кажущийся специфичным анализ антиколониальными мыслителями расово разделенных обществ тем не менее релевантен анализу и обществ метрополий. Возьмем социолога У. Дюбуа, борца за права афроамериканцев США. Подобно взглядам Фанона, его теория видит американское общество расово разломленным. <…> Ученые считают это творческим вкладом Дюбуа в понимание всех видов обществ современности [England, Warner, 2013]. <…> Такое понимание современного общества как расово расколотого – отнюдь не узкий концепт, особенно с учетом современного мира, сформированного в своих основах колониализмом и расовым разделением.
С учетом роста расовой дифференциации многих метрополий мира антиколониальные концепции социального как расово расколотого будут актуальны и для обществ метрополий, и для колонизованных обществ. <…> Например, городская этнография, чувствительная к расовым неравенствам, игнорируемым современными социологиями метрополий, может быть полезной в анализе пространств современных городов и социальных отношений в них повсюду [Go, 2020: 95–96].
Социальная self10, солидарность и глобальное. Антиколониальная мысль предлагает – кроме общих концепций социального – также набор других концептов и теорий, перспективных видов описательной социологии. <…> Сосредоточусь только на трех проблемных темах.
Первая тема связана с социальной самостью (self) и социальной идентичностью. Если Дж. Г. Мид и Ч. Кули в начале ХХ в. теоретизировали self (самость) как самодостаточную индивидуальность, а К. Маркс и Э. Дюркгейм предлагали понимать ее через концепты отчуждения и аномии, то антиколониальные теоретики формулируют подходы, вытекавшие из иной концептуализации общества. Пример – ранние труды Уильяма Дюбуа. Его теория строится вокруг того, что не предлагали теоретики метрополий и европейские философы: self как продукт маргинализации и расизма. Известной мыслью о «двойном» сознании Дюбуа заставляет нас видеть в расовой self отражение социального тела. <…> «Странная вещь – раздвоенное сознание, – писал У. Дюбуа. – Чувствуешь, что ты всегда смотришь на себя глазами других, измеряешь свою душу рулеткой мира, глядящего на тебя с презрением и жалостью. Ты всегда чувствуешь двойственность – американец и негр: две души, два сознания, два непримиримых устремления, два конфликтных идеала в едином теле черного, чья упорная сила только и удерживает его от разрыва на части…» [DuBois, 1897: 194].
Здесь есть некое сходство с марксистскими теориями отчуждения, хотя и не сводимое к ним. Расколотая self Дюбуа – продукт не отчужденного труда, а социальной дискриминации и природы раздвоенного общества. <…> Дюбуа передал чувство двойного сознания, опираясь на личный опыт: «…Благодаря долгому обучению, непрестанному принуждению, ежедневному опыту я был цветным человеком в Белом мире; этот Белый мир… следил неуклонно и бдительно за тем, чтобы я держался в рамках. Все это делало меня физически ограниченным и провинциальным в мыслях и мечтах. Я не мог пошевелиться, не мог действовать, жить без тщательного учета реакции моего белого окружения» [1903: 135–136]. <…>
Такие теории самости (self) отражают особый опыт колонизованных, маргинальных расовых субъектов. Социологам метрополий об этом опыте нечего сказать. Эти теории также отразили то, как конкретные социальные структуры расово разделенных обществ производят не только свои формы субъективности, но и связанные с ними экзистенциальные дилеммы социального самосознания. Сюзанна Сезер, мартиникская антиколониальная сюрреалистка, сторонница негритюда, высказывала сходные идеи в эссе «Болезнь цивилизации» (1942). <…> Она переформулировала психоаналитические категории Фрейда, понимая колониальную субъектность как трагическое условие стремления подражать европейской цивилизации и «превращаться» в белых. «Самое серьезное, – пишет она, – это то, что стремление к имитации, совсем недавно лишь слегка осознаваемое, поскольку оно было механизмом защиты от угнетающего общества, сейчас сместилось в сферу пугающих тайных сил бессознательного» [Césaire, 2012: 32]. Эта дилемма, считает она, есть продукт истории карибских обществ – сегрегации, не допускавшей ассимиляции черных в белое общество (даже запретившей черным одеваться как белые). Созданная таким способом социальная структура предложила черным своеобразную дилемму: «…фундаментальной целью цветных стала ассимиляция. И с сокрушающей силой в их сознании происходит катастрофическая путаница: освобождение означает ассимиляцию» [Césaire, 2012: 31].
Вторая тема – социальная солидарность. У социологов метрополий эта тема ключевая. Дюркгейм и его современники (например, Л. Буржуа, теоретик солидаризма) считали солидарность спасением от социальной дезинтеграции. Дюркгейм [Durkheim, 1984] назвал органическую солидарность продуктом нормально функционирующей социальной системы с высоким разделением труда. У К. Маркса солидарность по своей сути была солидарностью классовой, основанной на месте человека в разделении труда [Marx, Engels, 1978: 79–81]. Идеи Maркса и Дюркгейма схожи, несмотря на внешнюю разницу, так как коренятся в современном разделении труда. Иное дело антиколониальные теории солидарности.
Начнем с трудов гаитянского мыслителя и политика Антенора Фирмина (1850–1911). Наиболее известна его книга «О равенстве человеческих рас» (1885), где он, в пику «Очерку неравенства человеческих рас» А. Гобино, критиковал научный расизм [Firmin, 2000]. В то же время, как показал Д. Холли [Holley, 2021], А. Фирмин критиковал и европейский дискурс солидарности. Статью «Европейская солидарность» он начинал с солидарности как формы патриотизма: «По мере прогресса цивилизации у людей создается и постепенно крепнет чувство солидарности. <…> Это чувство есть лишь тогда, когда достигнуто моральное единство. <…> Высокое чувство связи, его можно называть патриотизмом, объединяет всех невидимой связью и обеспечивает работу социального тела» [Firmin, 2000: 379]. Здесь А. Фирмин близок Дюркгейму и Спенсеру <…>, но затем его статья делает поворот: <…> он полагает, что всё зависит от расы. Прикрываясь идеологией расизма, «европейские нации естественно стремятся объединиться ради господства над всем миром, над другими расами… Не лежит ли вопрос расы в основе этих выбросов солидарности»? [ibid.: 384–387]. То есть он аналитически превращает солидарность из желаемого состояния социальной связи, способной решать проблемы современности, в орудие угнетения, коренящееся в расовом господстве.
Вслед за А. Фирмином ряд антиколониальных мыслителей переделали концепцию солидарности, акцентировав иное – связи, выкованные антиколониальной борьбой. Через несколько лет после выхода книги Фирмина филиппинцы-интеллигенты в Мадриде, известные как ilustrados («просвещенные»), создали национальную организацию и газету, названную La Solidaridad. Вскоре А. Мабини заговорит о солидарности и единстве в борьбе с испанским империализмом: «Пока есть национальные границы, созданные и охраняемые эгоизмом рас и династий.., вы должны объединяться прочной солидарностью целей и интересов, быть сильными, не только бороться с общим врагом, но и реализовать все цели жизни человека» [Mabini, 1931: I, 107]. Позже Ф. Фанон использовал концепт антиколониальной солидарности, добавив к нему критику марксистских подходов. В малоизвестной статье «Алжирский конфликт и африканский антиколониализм» (1957) он заявил: «Необходимый ответ на умную тактику колониализма – стратегическая солидарность оккупированных французскими войсками территорий. Сегодня мы можем оценить иллюзорность знаменитой доктрины органической солидарности пролетариата колониальных стран с народами колоний. Реально теория антиколониализма формируется [только] сегодня, а все эти ранее выдвинутые тезисы оказались полностью ложными. В своей борьбе народы колоний в сущности должны рассчитывать [только] на своих колониальных братьев» [Fanon, 2019: 565].
Ф. Фанон критикует посыл марксистов о классовой основе солидарности. Как утверждали Фанон и его современник Э. Сезер [Césaire, 2010 (1956)], такие посылы не учитывают деления на расы. Фанон тоже добавил глобальное измерение к концепту солидарности, подчеркнув единство всех народов колоний. Если Фирмин ранее критиковал концепт солидарности за его функцию объединения белых европейцев и если Мабини позднее использовал этот концепт, говоря о верности нации в разгар антиколониальной революции, Фанон применяет его к глобальному движению транснационального альянса колонизованных. Это тоже новая формулировка концепта солидарности, разрыв с версиями Дюркгейма и Маркса. В антиколониальном репертуаре солидарность – не естественный продукт разделения труда, а скорее сила в борьбе против Другого и продукт ее. Оппозиция и борьба, не разделение труда, вырабатывают единую идентичность и чувства связи.
Aналогично подходил к солидарности А. Кабрал. Кроме планов в политике, Кабрал теоретизировал солидарность (иногда он говорил о «единстве») как чувство народов колоний, созданное борьбой против колониального господства <…> [Cabral, 1979: 33].
Третья тема – глoбальная иерархия и взаимозависимость обществ. С одной стороны, социология основана на эндогенном нарративе развития Западной Европы, укорененном в социальных теориях классиков и их методологическом национализме. Эти теории игнорируют (как и наш базовый нарратив) тот факт, что глобальные отношения в форме империй и колоний являются определяющими для современных обществ и глобального модерна [Go, 2016b: 83–91]. И. Валлерстайн [Wallerstein, 1974] выразил эту мысль в теории глобального общества как единой иерархической мир-системы. По аналогии, постколониальные социологи настаивают на рассмотрении обществ в виде сети тесно взаимосвязанных национальных историй [Bhambra, 2007].
Но антиколониальные мыслители давно поднялись выше теорий эндогенного развития и методологического национализма [Magubane, 2016]. Изучая империи и колониализм, они смогли усмотреть в империи и колониализме не только определяющие силы, но и глобальные связи, глобальные отношения господства, игнорируемые социологией метрополий. Антиколониальными мыслителями давно предложены глобальные нарративы модерна. От работ С.Р.Л. Джеймса [James, 1989 (1963)] о Французской и Гаитянской революциях XVIII века до работ сюрреалистки С. Сезер [Césaire, 2012] о влияниях глобального рабства и до теории колониализма и неразвитости Махди Амеля [Amel, 2021] – эти и многие другие работы как раз и предлагают версии глобальной исторической социологии, к чему призывают некоторые социологи последних лет. <…> Не случайно И. Валлерстайн в мемуарах [Wallerstein, 2002: 359] пишет, что его теория мир-системы частично вдохновлена Фаноном.
В заключение – несколько пояснений. Во-первых, из сказанного следует, что мой проект задуман в продолжение недавних попыток переосмыслить социологический канон и европоцентристские основы социологии [Alatas, Sinha, 2017; Connell, 2007; Morris, 2022]. Надеюсь, к антиколониальной мысли отнесутся серьезнее, ведь она предлагает альтернативную критическую социологию. Но, в отличие от некоторых недавних попыток переделать канон, моя цель – продвинуть антиколониальную мысль, а не заменить прежний канон мыслителей (Маркс, Вебер, Дюркгейм и т. д.) некими иными гениальными мыслителями. Скорее, если мы вообще хотим переделать канон, надо отказаться от модели «горы Рашмор»11, возвышающей отдельные личности, а напротив, обратиться к более широкому набору идей, традиций, организованных вокруг определенных тем [Bobo, 2015]. В моей статье обсуждены разные мыслители, но я не пытаюсь глубоко разбирать идеи кого-то одного. Это – попытка обнаружить определенную традицию социальной мысли.
Во-вторых, в изучении традиции антиколониальной мысли моя цель – не обнаружить набор социологических идей или дискурсов вне доминирующей европоцентристской рамки, восходящей к европейскому Просвещению. Антиколониальная мысль <…> существует в контексте критической схватки с англо-европейскими империями, с их точкой зрения и дискурсами. Фанон, к примеру, не отвергал Маркса, Фрейда, Сартра. Он критиковал их, заимствовал у них, творчески усваивал. То же относится почти ко всем другим антиколониальным мыслителям, которых мы встретили. Можно сказать, что критическое усвоение, не игнорирование или слепое неприятие, – одна из главных творческих характеристик антиколониальной мысли.
«Раскопки» антиколониальной мысли ради альтернативной социологии не означают необходимости <…> утверждать, будто теория, концепт или социологическая идея обязательно истинны уже потому, что созданы антиколониальным мыслителем, как и не должны полагать, что конвенциональная социология, созданная в метрополиях империй, обязательно предлагает неправду. <…> Мы можем признать всякое знание частичным, но потенциально истинным, коренящимся в самостоятельных точках зрения, и тем не менее возможно объективным [Go, 2016a; Go, 2016b: 162–173]. Эпистемная цель моего проекта <…> – не заменить одну точку зрения другой, а умножать их.
Наконец, проект восстановления антиколониальной мысли частично вдохновлен схожими проектами социологического знания (отличаясь от них), пытающимися преодолеть «североцентризм» и «европоцентризм» социальной мысли и социальной теории. Эти проекты, иногда именуемые «незападной социологией», «альтернативным дискурсом», «деколониальными» или «глобальными социальными теориями», важны [Alatas, 2006; Bhambra, 2014; Connell, 2007; Mignolo, 2011; Sousa Santos, 2014]. Они помогли революцио- нализировать социальное мышление. Но их проблема <…> – в онтологичной посылке, будто мир делится на особые эссенциализированные географические пространства (Север, Юг, «Запад», «не-Запад»); и эти пространства прямо наложены на культуры и формы знания. Некоторые попытки создать проект «Южной теории», например, используют этот сомнительный посыл как главный критерий. Имплицитный смысл его в том, что если мыслитель жил в стране глобального Юга, или происходит из него, или из любой «не-западной» страны, его знание обязательно оппозиционно к доминирующей «западной» социологии и поэтому должно считаться альтернативным знанием. В то же время <…> всякий мыслитель из «глобального Севера», живущий в «глобальном Севере», должен быть отвергнут.
Этот подход весьма проблематичен и своей онтологией мира, и посылкой, будто географическая локация непосредственно детерминирует знание. Интересно, что такой критерий делает У. Дюбуа негодным на роль альтернативного социологического канона, как и упомянутую Л. Келлогг, поскольку они провели большую частью жизни в США. Средневековый арабский мыслитель Ибн Хальдун (1332–1406) объявлен критиком, предложившим альтернативу европейской социологии, на том основании, что он представляет «ближневосточную» точку зрения, хотя точка зрения Хальдуна вовсе не критична. Ибн Хальдун был придворным ученым, его концепции ассабии и циклов формирования государства выражают точку зрения династической власти, стремящейся сохранить и продлить свое правление [Khaldun, 2015]. Его точка зрения – тоже державная и имперская, хотя «не-западная». Не утверждаю, что ранее названный критерий включения надо отвергать с порога. «Мукаддимы» Ибн Хальдуна – действительно сильный и важный текст, но его автор – не обязательно противник точки зрения власти европейских империй. Если это и критическая альтернатива, то лишь в минимальной мере. <…>
Не буду делить мир на географические регионы, где знание одной стороны выше другой. В отличие от геоэпистемного эссенциализма, мой интерес к антиколониальной мысли связан с онтологией глобальной иерархии, исторически созданной колониализмом и империями12. Мой проект не считает, будто Ф. Фанон, А. Мабини или другие упомянутые выше авторы предлагают более богатые социальные идеи, могущие служить частью критической альтернативы в социологии, так как написаны там, что сегодня считается «глобальным Югом» или «не-западным миром». Вопрос – в потенциальной плодотворности предлагаемых ими альтернатив в социологии, укорененных в точках зрения акторов, маргинальных в глобальных иерархиях. Пространство антиколониального маркируется не эссенциальной позицией географии (расы), а реляционной позицией опыта, подчинения, отстранения и борьбы. Если социология империй вобрала в себя опыт, интересы и заботы элит метрополий англо-европейского центра, то антиколониальные социологии вобрали в себя точку зрения угнетенных народов, голоса и ум которых маргинализированы как якобы второстепенные, не предлагающие никакого ценного социального знания. Отсюда заключение: восстановить антиколониальную мысль – значит восстановить альтернативу имперской социологии и ее имперской точке зрения. <…>
Пер. с англ. Н.В. Романовский
Романовский Николай Валентинович, д. ист. н., проф., гл. науч. cотр. Института социологии ФНИСЦ РАН; проф. Российского государственного гуманитарного университета, Москва, Россия (socis@isras.ru).
1 Источник: Go J. Thinking against empire: Anticolonial thought as social theory // British Journal of Sociology. 2023. Vol. 74, No. 3: 279–293. Публикуется с небольшими сокращениями. Ключевые слова добавлены переводчиком. Автор статьи, американец филиппинского происхождения, специализируется по проблемам (пост)колониальной социологии. См. статьи: Го Дж. Бурдьё, Алжир и постколониальная социология // Социологические исследования. 2019. № 4. С. 86–98; Го Дж. Три неувязки в теории расового капитализма // Социологические исследования. 2021. № 6. С. 14–23.
Аполинарио Мабини (1864–1903) – филиппинский революционер и политический деятель, один из руководителей Филиппинской революции (1896–1898), завершившейся освобождением от Испании и провозглашением Филиппинской республики. Став ее премьер-министром и министром иностранных дел, А. Мабини выступал против захвата Филиппин армией США, был арестован и выслан из страны (Прим. ред.).
2 Амилкар Кабрал (1924–1973) – руководитель революционной борьбы 1960–1970-х гг. за освобождение Португальской Гвинеи (ныне – Кабо-Верде и Республика Гвинея-Бисау), один из ведущих антиколониальных лидеров Африки, ориентировавшихся на поддержку СССР. Убит в результате заговора (предположительно организованного португальскими спецслужбами) незадолго до завоевания независимости (Прим. ред.).
3 Сюзанна Сезер (1915–1966) – писательница и антиколониальная активистка, жила и работала на Мартинике. Известна как автор опубликованных в 1940-х гг. эссе, посвященных колониализму на Карибах. Жена леворадикального политика и писателя Эме Сезера, который добился для Мартиники статуса департамента Франции, был одним из основоположников негритюда (Прим. ред.).
4 Франц Фанон (1925–1961) – ведущий теоретик глобального антиколониального движения ХХ в., один из идейных вдохновителей движения новых левых. Марксистской концепции о единстве эксплуатируемых в борьбе с эксплуататорами, независимо от расы и этничности, противопоставлял точку зрения о солидарности народов колоний против колониальных стран. В 1950-х гг. был идеологом борьбы за освобождение Алжира от колониализма Франции (Прим. ред.).
5 Лаура Корнелиус Келлогг (1880–1947) – активистка движения индейцев США за свои права в 1920–1930-х гг. Её попытки объединить протестные движения индейцев-ирокезов и судебным путем добиться возвращения их земель и восстановить их права на самоуправление потерпели провал, но стали основой протестных судебных исков индейских племен США во второй половине ХХ в., частично успешных (Прим. ред.).
6 Радхакамаль Мукерджи (1889–1968) – мыслитель и социолог Индии ХХ в., профессор экономики и социологии Университета Лакхнау, участник движения за независимость Индии от британского колониализма (Прим. ред.).
7 Форма колониализма, когда из колонии выкачивают ресурсы, частично сохраняя местные самоуправление и землепользование (Прим. ред.).
8 Сложившаяся в 1950-е гг. в работах латиноамериканских экономистов и социологов (Р. Пребиш, Ф. Кардозу, С. Фуртадо и др.) теория, согласно которой отсталость и политическая нестабильность развивающихся стран – в значительной степени результат их (полу)колониальной интеграции в мировое хозяйство на условиях, выгодных высокоразвитым западным странам (Прим. ред.).
9 Автор статьи не упомянул традицию марксистского обществоведения СССР, в рамках которого с 1920-х гг. происходило обсуждение (например, в рамках дискуссий об «азиатском способе производства») качественных различий западных и «восточных» обществ (Прим. ред.).
10 Понятие, в русскоязычной литературе обозначаемое как «самость», – личностное самосознание, социально-психологическая целостность индивида (Прим. ред.).
11 В этой горе в Южной Дакоте вырублены портреты четырех самых знаменитых президентов США.
12 Разница такова: oнтология геоэпистемных подходов видит мир состоящим из разных регионов и культур, они связаны с формами знания. Моя же онтология утверждает: (a) мир выстроен из глобальной социоэкономической и геополитической иерархии, создававшихся веками империй и колониализма, и (б) социальная наука, какой мы ее знаем, создавалась внутри и для самых «верхов» этой иерархии. Эта иерархия не точно совпадает с регионами, «культурами» и странами, пересекая их.
Об авторах
Джулиан Го
Чикагский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: jgo34@uchicago.edu
профессор социологии
США, ЧикагоСписок литературы
- Alatas S. F. (2006) Alternative discourses in Asian social science: Responses to Eurocentrism. Sage Publications.
- Alatas S. F., Sinha V. (2017) Sociological theory beyond the canon. London: Palgrave Macmillan.
- Amel M. (2021) Arab Marxism and national liberation. Brill.
- An Ninh N. (2012) The ideal of Annamese youth. In: G. E. Dutton, J. S. Werner, J. K. Whitmore (eds). Sources of Vietnamese tradition. Columbia University Press: 382–389.
- Barkawi T., Murray C., Zarakol A. (2021) The united nations of IR: Power, knowledge and empire in global IR. Paper presented at the Annual Meetings of the International Studies Association, April 6–9th.
- Bhambra G. (2007) Rethinking modernity: Postcolonialism and the sociological imagination. Basingstoke: Palgrave-MacMillan.
- Bhambra G. (2014) Connected sociologies. Bloomsbury.
- Bobo L. (2015) Bringing Du Bois back in: American sociology and the Morris enunciation. Du Bois Review: Social Science Research on Race. Vol. 12. No. 2: 461–467.
- Borch C. (2012) The politics of crowds: An alternative history of sociology. Cambridge University Press.
- Cabral A. (1979) Unity and struggle: Speeches and writings. Monthly Review Press.
- Césaire A. (2010) Letter to Maurice Thorez. Social Text. Vol. 28. No. 2: 145–152 [1956].
- Césaire S. (2012) The great camouflage: Writings of dissent (1941–1945). Wesleyan University Press.
- Connell R. (2007) Southern theory. Polity Press.
- Connell R. W. (1997) Why is classical theory classical? American Journal of Sociology. Vol. 102. No. 6: 1511–1557.
- Coulthard G. S. (2014) Red skin, white masks. University of Minnesota Press.
- DuBois W.E.B. (1897) Strivings of the Negro people. The Atlantic Monthly, 80 (August).
- DuBois W.E.B. (1903) The souls of black folk. Essays and Sketches. McClurg.
- DuBois W.E.B. (2005) The color line belts the world. In: Mullen B., Mullen C. (eds). W.E.B. Du Bois on Asia. University Press of Mississippi: 33–34.
- Durkheim E. (1984) The division of labor in society. Free Press.
- England L., Warner W. K. (2013) WEB Du Bois: Reform, will, and the veil. Social Forces. Vol. 91. No. 3: 955–973.
- Fanon F. (1967) Black skin, white masks. Grove Press [1952].
- Fanon F. (1968) The wretched of the earth. Grove Press [1961].
- Fanon F. (2019) Alienation and freedom. Bloomsbury Academic.
- Firmin A. (2000) The equality of the human races. Garland Publishing, Inc.
- Fitzhugh G. (1854) Sociology for the South, or, the failure of free society.
- Getachew A. (2019) Worldmaking after empire: The rise and fall of self-determination. Princeton University Press.
- Giddings F. H. (1898) The elements of sociology; a text-book for colleges and schools. The Macmillan Company.
- Go J. (1999) Colonial reception and cultural reproduction: Filipino elite response to US colonial rule. The Journal of Historical Sociology. Vol. 12. No. 4: 337–368.
- Go J. (2013a) Decolonizing Bourdieu: Colonial and postcolonial theory in Pierre Bourdieu’s early work. Sociological Theory. Vol. 31. No. 1: 49–73.
- Go J. (2013b) Fanon’s postcolonial cosmopolitanism. European Journal of Social Theory. Vol. 16. No. 2: 208–225.
- Go J. (2013c) Sociology’s imperial unconscious: The emergence of American sociology in the context of empire. In: G. Steinmetz (ed.), Sociology and empire. Duke University Press: 83–105.
- Go J. (2016a) Global sociology, turning South: Perspectival realism and the southern standpoint. Sociologica: Italian Journal of Sociology. Vol. 10. No. 2: 42.
- Go J. (2016b) Postcolonial thought and social theory. Oxford University Press.
- Go J. (2020) Race, empire and epistemic exclusion: Or the structures of sociological thought. Sociological Theory. Vol. 38. No. 2: 79–100.
- Go J., Watson J. (2019) Anticolonial nationalism: From imagined communities to colonial conflict. European Journal of Sociology. Vol. 60. No. 1: 31–68.
- Goebel M. (2015) Anti-imperial metropolis. Cambridge University Press.
- Holley J. (2021) Recovering the anticolonial roots of solidarity. SCRIPTS Working Paper No. 11.
- Itzigsohn J., Brown K. (2015) Sociology and the theory of double consciousness. Du Bois Review: Social Science Research on Race. Vol. 12. No. 02: 231–248.
- James C. L.R. (1989) The black Jacobins. Vintage [1963].
- Jung M.-K. (2009) The racial unconcious of assimilation theory. Du Bois Review. Vol. 2: 375–395.
- Kellogg L. C. (2015) Our democracy and the American Indian and other works. Syracuse University Press [1920].
- Khaldun I. (2015) The Muqaddimah. Princeton University Press.
- Krause M. (2021) Model cases. University of Chicago Press.
- Latour B. (1993) We have never been modern. Harvard University Press.
- Latour B. (2005) Reassembling the social. Cambridge University Press.
- Mabini A. (1931) La Revolución Filipina (Con Otras Documentos de la época). Complicados y publicados bajo la dirrección de Teodoro M. Bureau of Printing.
- Magubane Z. (2016) Following ‘the deeds of men’: Race, ‘the global,’ and international relations. In: J. Go, G. Lawson (eds), Global historical sociology. Cambridge University Press: 101–123.
- Majul C. A. (1996) Mabini and the philippine revolution. University of the Philippines.
- Marx K., Engels F. (1978) The Marx-Engels reader. W. W. Norton & Co.
- Matera M. (2015) Black London: The imperial metropolis and decolonization in the twentieth century. University of California Press.
- Mignolo W. (2011) The darker side of western modernity. Duke University Press.
- Morris A. (2022) Alternative view of modernity: The subaltern speaks. American Sociological Review. Vol. 87. No. 1: 1–16.
- Mukerjee R. (1926) Regional sociology. The Century Co.
- Mukerjee R. (1930) Ecological contributions to sociology. The Sociological Review. Vol. 22. No. 4: 281–291.
- Reed I. A. (2013) Theoretical labors necessary for a global sociology: Critique of Raewyn Connell’s southern theory. Political Power and Social Theory. Vol. 25: 157–171.
- Small A. W. (1900) The scope of sociology. VI. Some incidents of association. American Journal of Sociology. Vol. 6. No. 3: 324–380.
- Small A. W. (1904) The subject-matter of sociology. American Journal of Sociology. Vol. 10. No. 3: 281–298.
- Sousa Santos B. de (2014) Epistemologies of the South. Paradigm Publishers.
- Tarde G. (1898) Social laws: An outline of sociology. The Macmillan Co.
- Wallerstein I. (1974) The modern world-system. Academic Press.
- Wallerstein I. (2002) The itinerary of world-systems analysis; or, how to resist becoming a theory. In: Berger J., Zelditch M.Jr. (eds). New directions in contemporary sociological theory. Rowman & Littlefield.
- Wolfe P. (2016) Traces of History: Elementary structures of race. Verso Books.