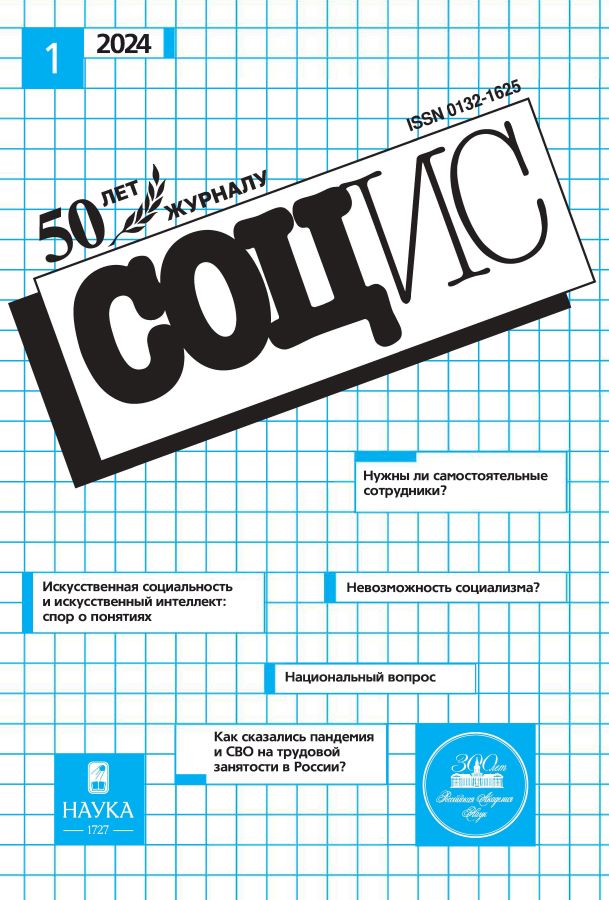On the question of fixing the national-language composition of the population in the All-Russian population census 2020–2021
- Autores: Gabdrakhmanova G.F.1, Alòs i Font H.2
-
Afiliações:
- Institute of History named after Sh. Mardjani
- University of Barcelona
- Edição: Nº 1 (2024)
- Páginas: 28-39
- Seção: DEMOGRAPHY. MIGRATIONS
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-1625/article/view/257018
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524010032
- ID: 257018
Texto integral
Resumo
The article carries out a critical analysis of the quality of the results of the questions of the 2020–2021 Russian population census on nationality, native language, knowledge of Russian and other languages, and language use. The study reveals the uneven distribution of “non-answers” by regions, between urban and rural areas, and age groups. The interpretation of the published census results is hampered by the quality of answers, lack of distinction between non-answers and negative answers to questions, and questionable grouping of nationalities and languages. Therefore, it is not possible to use the results of Russian language proficiency and knowledge of other languages in several of Russia’s federal subjects. The situation is aggravated by a sharp increase in the number of non-responses to the questions on nationality and language in the 2020–2021 census compared to the previous censuses. This hinders the analysis of these questions of the 2020–2021 census and the understanding of the dynamics of national and language processes in Russia using census statistics.
The article reveals foreign experiences of conducting censuses and statistical survey of the national and linguistic sphere. Many countries resort to various methods (including the use of surveys as a source of census), ways of assessing national, cultural affiliation, knowledge and proficiency of languages, ensuring the efficiency of fieldwork, and evaluating the quality of census data. They pay more attention to the methodological support of the national and language block of the census.
The authors call for a balanced use of the results of the national and language issues of the 2020– 2021 Russian population census in research work and in decision-making in the government national policy, since national and language relations in Russia are very sensitive for the country’s numerous ethnic communities.
Palavras-chave
Texto integral
В России, начиная с первой общегосударственной переписи 1897 г., национально- языковые вопросы были обязательными во всех переписях населения страны. Подданных Российской империи спрашивали о родном языке и вероисповедании, с помощью которых определялась их национальность. Советские переписные опросники содержали вопросы о национальной принадлежности и о родном языке. Переписи постсоветского времени стали единственным (из-за отмены записи в паспортах) масштабным статистическим источником о национально-языковой сфере России. Значение переписных сведений определяется запросом со стороны государственных органов на планирование и реализацию национально-языковой политики на общегосударственном и региональном уровнях. Они важны и для этносоциологов России, имеющих большой опыт изучения социальной структуры этнических общностей на материалах переписей [Социальное и национальное..., 1972; Социальное неравенство…, 2002] и использующих их при расчете выборок.
Перепись изучается и в аспекте ее инструментальной функции [Anderson, 2006]. Она признается властным капиталом [Тишков, 2003: 11], способом конструирования групп [Краснопольская, Солодова, 2016: 69], этнических идентичностей, операционализированных переписными процедурами [Варшавер, 2022: 201] и испытывающих субъективное влияние переписчиков [Фарахутдинов, Хайруллина, 2022], представлений опрашиваемых. Вопрос о качестве итогов переписи – насколько точна, непротиворечива полученная статистика и насколько точно она отражает характеристики общества – требует отдельного рассмотрения. Цель исследования – оценить качество данных Всероссийской переписи населения 2020–2021 гг. (ВПН-2020), полученных по национально-языковым вопросам.
Проблема обеспечения качества переписных данных в мировой практике. Перепись долго считалась самым надежным поставщиком знания об обществе. Это объяснялось всеохватностью опроса, стандартностью методик и инструментария [Китчин, 2017: 113]. В то же время опрос, проведенный среди представителей статистических организаций 109 стран в начале 2010-х гг. по заказу Статистической комиссии ООН, выявил, что ключевыми проблемами переписей являются огромные расходы на их проведение (67%), несвоевременность (42%), сомнения в качестве получаемых данных (39%), снижение показателя реагирования (39%), неоднозначное восприятие общественностью (37%), обеспечение конфиденциальности (32%)1. Европейская экономическая комиссия ООН указывает на значение для переписей мобильности населения, стремления властей к увеличению объема собираемых сведений и к их частому обновлению, растущих опасений населения по поводу конфиденциальности персональных данных. Поэтому некоторые социальные группы (особенно пожилые лица и уязвимые меньшинства) все чаще не участвуют в переписях, не отвечают на их вопросы2, что подрывает репрезентативность и качество получаемых данных.
Во время цикла переписей 2005–2014 гг. значительное число стран внесло серьезные методологические изменения в их проведение 3 [Bernard et al., 2013; Juran, Pistiner, 2016]. Некоторые государства перешли на сбор данных о численности и характеристиках населения из регистров. Другие используют комбинированную перепись, сочетая административные данные и репрезентативные опросы (прежде всего о культурной, этнической принадлежности, языках). Третья группа стран (например, Германия) поддержала обеспокоенность граждан по поводу защиты персональных данных и законодательно ограничила введение уникальных идентификаторов физических лиц и домохозяйств, использующихся для их увязки с регистрами.
Опросы, проводимые в рамках переписей, основываются на расширенной анкете (в Канаде так охватывается 25% населения) или на регистрах (в Испании опрашивается 10% населения, в том числе о знании и использовании языков). Инструментарий опросов в Австралии, Великобритании, Канаде и Испании содержит многочисленные национально-языковые вопросы, многовариантные ответы на них и методики измерения. Так, 35-страничная анкета Испании подразумевает ее обязательное заполнение, содержит шкалы для измерения знания языков4. Переписной инструментарий сопровождается четкими методическими пояснениями. В Канаде под «родным языком» понимается «первый язык, который человек выучил в детстве и которым он владел на момент опроса»5.
Способы измерения качества переписных данных. Ключевой задачей переписи является обеспечение ее качества. Мировая практика по ее решению различается между странами, но в целом сводится к разработке процедуры измерения качества входных данных, качества процесса и качества результирующей статистики6. При оценке входных данных переписей первостепенное внимание уделяется обследованию охвата населения (например, в Великобритании). Эта проблема не возникает до тех пор, пока доля неответивших во время сбора переписных данных не превысит определенный порог. В Англии и Уэльсе доля неответивших по переписи 2021 г. составила 3% населения, в некоторых округах достигла 12%7. Во время переписи населения Канады в 2021 г. доля неответивших домохозяйств составила 2% по стране, не превысила 3% в провинциях, но достигла почти 10% в Нунавуте (площадь Нунавута – 1,9 млн кв. км, численность населения – 37 тыс. чел.)8. Итоги переписи в Австралии 2021 г. содержат сведения о 4,2% неответивших по стране и 8,7% в ее Северной территории (площадь – 1,4 млн кв. км, население – 250 тыс. чел.)9.
В переписях объем «неответов» на вопросы о культурной, этнической принадлежности, языках, как правило, превышает общий показатель неответивших. В Канаде на вопрос о знании официальных языков не ответило 4,5% домохозяйств; языках домашнего общения – 4,3%; языках, используемых на работе, – 2,9%; родном языке – 4,6%; этническом, культурном происхождении – 3,5%. Различия между штатами незначительны, но показатели выше на территориях с меньшим и более рассредоточенным населением (показателен Нунавут)10.
Для устранения пробелов в данных и снижения погрешности, вызванной отсутствием ответов11, статистическое управление Канады прибегает к автоматизированному процессу импутации (условному расчету) ответов в случае их отсутствия или недействительности. Процент импутаций рассчитывается по каждому вопросу, штату/территории и размещается в Интернете. В Австралии индивидуальный показатель «неответов» на вопрос о происхождении был 6,2%, языке – 5,7%, религии – 6,9%. После импутации он снизился до 2,1, 1,6 и 2,8% (см. сноску 9).
Помимо учета «неответов» и общего уровня отвечаемости качество полученных в результате переписи опросных данных оценивается через валидность ответов, отсутствие смещений, сходство в распределении ответов, полученных разными методами [Мягков, Журавлева, 2011: 33–34]. В нашем исследовании опубликованные на сайте Федеральной службы государственной статистики результаты вопросов ВПН-2020 о национальности («Ваша национальная принадлежность?») и языках («Ваш родной язык?», «Владеете ли вы русским языком?», «Какими иными языками вы владеете?», «Какие [из языков] используете в повседневной жизни?») подверглись оценке с помощью следующих индикаторов: «охват населения переписью», «общий уровень “отвечаемости” и число “неответов”», «типы “неответов”», «смещение данных по регионам, городу-селу, возрасту опрошенных», «валидность ответов», «неопределенность вопросов-ответов», «несоответствие ответов о национальности и языке». Не претендуя на завершенность исследования, считаем, что проблематизация вопроса о причинно-следственных связях итогов ВПН-2020 может поспособствовать приращению «науки, идущей от данных» [Китчин, 2017], позволит проанализировать влияние социального контекста на качество переписных данных.
Анализ показателей качества переписных данных. Охват населения переписью – первый показатель качества данных, получаемых в ходе общенациональной переписи. О намерении принять участие в ВПН-2020, по данным ВЦИОМ, заявило 85% респондентов, не планировало это сделать 8% россиян12. Участие откладывала «студенческая молодежь..., которая была не в курсе переписи»13. Реальное участие россиян Левада-Центром* оценено в 57%, среди 18–24-летних – 48%. Показатель тех, кто не сообщил сведений о себе, назван «беспрецедентно высоким» и связывается прежде всего с отсутствием визита переписчика14. По мнению Ш. Ф. Фарахутдинова и Н. Г. Хайруллиной, ситуацию усугубила плохая организация работы переписчиков, недостаточный контроль за их работой, подбор в этом качестве студентов, не имеющих опыта коммуникации с разными аудиториями, негативная эпидемиологическая обстановка из-за COVID-19, индифферентность людей к мероприятию из-за снижения доверия к власти, низкая информированность россиян [Фарахутдинов, Хайруллина, 2022: 72–73].
Охват населения переписью оказался выше в городах с населением до 100 тыс. человек (71%). В Москве он составил 27% (см. сноску 14). Регионы по-разному включились в переписную кампанию [Мокин, Барышная, 2022].
Показатель участия в ВПН-2020 связывается экспертами с тем, что согласно Федеральному закону «О Всероссийской переписи населения» от 25.01.2002 № 8-ФЗ (далее – Закон) перепись в РФ признается общественной процедурой, а потому не предусматривает правовую ответственность граждан за неучастие в ней. Инерция советской установки об обязательности участия в переписях обеспечила, по данным фонда «Общественное мнение», 93% охват населения ВПН-2002 [Полян, 2004]. Она оказалась утерянной при ВПН-2020.
Последующее внесение поправок в Закон 15 предоставило возможность получения информации о населении России из административных источников. В перепись был введен принцип анонимности. Это вызвало экспертную критику из-за невозможности контроля полноты данных [Захаров, Вишневский, 2010: 14]. Увеличился риск двойного счета, «дописывания переписчиками недостающей информации на основе фантазий» [Андреев, 2012]. В случае отсутствия переписываемого или его отказа сообщать сведения достаточным стало включение в базу половозрастных сведений из регистрирующих организаций.
Высокие ожидания у организаторов ВПН-2020 были от онлайн-участия жителей страны через портал Госуслуги. К такой возможности среди планирующих переписаться намеревались обратиться 41% (около 35% опрошенных)16. Переписались через Госуслуги 29% принявших участие в ВПН-2020 (около 17% опрошенных), в Москве – 26–27% (по данным Левада-Центра), Санкт-Петербурге – 23%17. Регионы сильно отличаются по охвату населения переписью (пример – Республика Коми), что связано с долей лиц, не проживающих по месту регистрации и соответственно не сообщивших о национальности (см. там же). В 3 млн электронных записей, в которых указан язык, не прописана национальность (см. сноску 13).
Насколько правильно в переписи отражено население в целом? Проверим включение в ее итоги группы, порядок величины которой известен, – кейс индийских студентов из регионов с низкой иммиграцией. По данным ВПН-2020, в Марий Эл и Чувашии проживало 339 и 63 гражданина Индии соответственно, хотя только в медицинских вузах столиц республик в 2021/22 уч. г. обучалось около 1800 и 350 индийских студентов. Этот весьма специфический случай вызывает сомнения в способности переписи отразить иностранное и мобильное население.
Общий уровень «отвечаемости» и число «неответов». В таблице 1 показана динамика доли отсутствующих сведений по национально-языковым вопросам за последние три российские переписи. За исключением вопроса о национальности количество неответивших в опубликованных данных переписи не уточняется, а отрицательные ответы объединяются с неответившими (например, в случае знания русского языка отсутствуют различия между теми, кто заявил, что не знает его, и теми, кто не ответил на вопрос). Причиной объединения является отсутствие данных, позволяющих разграничить эти два случая.
Таблица 1
Доля отсутствующих сведений по национально-языковым вопросам во Всероссийской переписи населения 2002, 2010 и 2020 гг., чел., %
Показатели | 2002 | 2010 | 2020 | |||
чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
Все население | 145 166 731 | 100 | 142 856 536 | 100 | 147 182 123 | 100 |
Не указавшие… | ||||||
национальную принадлежность | 1 460 751 | 1 | 5 629 429 | 3,9 | 16 594 759 | 11,3 |
владение русским языком | 2 593 399 | 1,8 | 5 361 643 | 3,8 | 12 905 881 | 8,8 |
владение языками кроме русского | 1 420 544 | 1 | 4 544 001 | 3,2 | 12 056 452 | 8,2 |
родной язык* | – | – | 4 544 578 | 3,2 | 16 638 532 | 11,3 |
____________
Примечание. *В 2002 г. вопрос не задавался.
Источники: Всероссийская перепись населения 2002 г. Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство. Росстат. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17 (дата обращения: 02.05.2023). Всероссийская перепись населения 2010 г. Т. 4. Национальный состав и владение языками, гражданство. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 02.05.2023). Итоги ВПН-2020. Том 5. Национальный состав и владение языками. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie_yazykami (дата обращения: 02.05.2023).
В 2002 г. «неопределившиеся» с национальностью оказались в основном в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области (1 млн из 1,5 млн), в 2010 г. – еще в 10 регионах (более чем по 100 тыс. в каждом регионе) [Богоявленский, 2012: 5], в 2020 г. – в 16 субъектах страны (более чем по 100 тыс. неопределившихся в каждом субъекте). Одной из причин роста, по мнению экспертов, является увеличение числа граждан, отказывающихся от национально-языкового самоопределения. Некоторые не готовы говорить об этом частном обстоятельстве [Богоявленский, 2012: 5].
Очень серьезная проблема в итогах ВПН-2020 просматривается в части несоответствия показателей «неответов» и незнания русского языка. Согласно ВПН-2002 русским языком владело 97,6% населения и 98,2% тех, кто заявил о своей национальности, ВПН-2010 – 96,2 и 99,1%, ВПН-2020 – 91,3 и 98,3%. Число не знающих этот язык, по данным ВПН-2020, увеличилось по сравнению с ВПН-2010 в 2,4 раза. Однако полагаться на эту цифру нельзя из-за того, что процент «неответов» намного выше незнания русского языка.
Типы «неответов». Результаты ВПН-2020 оказались намного менее надежны и трудно сопоставимы с результатами предыдущих переписей из-за недоучета разных вариантов «неответов». Опубликованные итоги содержат сведения о тех, у кого «нет нацио- нальной принадлежности» (0,4% «неответов»), о «лицах, в переписных листах которых национальная принадлежность не указана» (11,3%) и об «отказавшихся отвечать на вопрос о национальной принадлежности» (они включены во вторую группу, таковых 4,8%). Доля неответов на вопрос о национальной принадлежности сопоставима с долей неответов на вопросы о знании языков. Если из количества «лиц, в переписных листах которых национальная принадлежность не указана», вычесть число лиц, «отказавшихся отвечать на вопрос о национальной принадлежности», и сравнить результат с числом лиц, «не указавших владение языком», разница составит менее 1 п. п. в 17 из 22 республик и менее 2 п. п. в 20 национальных субъектах страны (отличающиеся республики – Ингушетия и Дагестан). Результат вычитания из числа лиц с отсутствующими сведениями о национальной принадлежности доли респондентов, отказавшихся отвечать на вопрос о своей национальной принадлежности, оказывается довольно близок показателю о тех, чьи данные были получены из административных источников – 9,6 млн человек, но он выше заявленного Росстатом РФ – 9 млн человек18. Если по национальности существуют показатели, которые могут помочь в происхождении «неответов», то для языковых вопросов они отсутствуют.
Смещение данных по регионам, городу-селу рассмотрим на примере республик (табл. 2). В Коми доля лиц с отсутствующими сведениями о национальности составила 22,5%, в пяти республиках превысила 10%, в семи – от 6,2 до 9,5%, в 15 – составила менее 4,6%. В среднем доля лиц, у которых в переписных листах не указана национальность, в республиках оказалась в два раза ниже (5,7%), чем по стране. Доля «неответов» по родному языку составила 6,6% (по РФ – 11,3%), владению языками кроме русского – 5,2% (8,2%). Для сравнения: в Ульяновской области нет данных о национальности 15,9% населения, родном языке – 15,5%, владении языками – 12%; в Москве – 22,7, 23,8, 15,3% соответственно. Результаты национально-языковых вопросов среди горожан менее надежны, чем среди сельчан.
Таблица 2
Доля отсутствующих сведений по национально-языковым вопросам ВПН-2020 по республикам и РФ в целом, в %
Республики и РФ | Не указано… | |||||
национальность | родной язык | владение языками | ||||
город | село | город | село | город | село | |
По РФ в целом | 14 | 3,3 | 14,2 | 2,8 | 10,3 | 1,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3,6 | 1,4 | 6,1 | 0,7 | 0,8 | 1,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2,1 | 0,9 | 3,5 | 0,8 | 1,4 | 0,9 |
Республика Адыгея | 14,8 | 5,6 | 14,8 | 3,8 | 12,4 | 3 |
Республика Алтай | 11,3 | 3,9 | 11,5 | 3,8 | 10,5 | 3,1 |
Республика Башкортостан | 2 | 0,9 | 2,9 | 0,6 | 0,8 | 0,5 |
Республика Бурятия | 10,6 | 1,9 | 10,5 | 1,8 | 8,8 | 1,3 |
Республика Дагестан | 2,0 | 1,1 | 15,1 | 1,3 | 7,7 | 3,1 |
Республика Ингушетия | 4,6 | 2,4 | 5,8 | 3,1 | 6,4 | 6,2 |
Республика Калмыкия | 8,3 | 1,5 | 9,8 | 1,3 | 7,4 | 1,3 |
Республика Карелия | 13,9 | 2,2 | 13,2 | 1,9 | 12 | 0,5 |
Республика Коми | 28,2 | 2,9 | 27,4 | 2,4 | 25,6 | 1,6 |
Республика Крым | 11,8 | 4,4 | 10,9 | 3,7 | 7 | 2,2 |
Республика Марий Эл | 12,3 | 2,5 | 13,1 | 3,1 | 10 | 1,5 |
Республика Мордовия | 5,5 | 2 | 6 | 1,1 | 3,3 | 0,4 |
Республика Татарстан | 3,1 | 0,8 | 3,6 | 0,6 | 2,5 | 0,6 |
Республика Тыва | 10,1 | 1,6 | 9,7 | 0,8 | 9,8 | 1,6 |
Республика Саха (Якутия) | 21,8 | 0,7 | 22,6 | 0,8 | 20,4 | 2,3 |
Республика Северная Осетия – Алания | 9,2 | 0,5 | 11,6 | 0,8 | 8,2 | 0,8 |
Республика Хакасия | 26,1 | 3,2 | 25,9 | 3,1 | 24 | 1,5 |
Удмуртская Республика | 20,8 | 2,2 | 20,4 | 1,9 | 19,3 | 1,1 |
Чеченская Республика | 0 | 0 | 1,7 | 0,9 | 1,4 | 1,5 |
Чувашская Республика | 13,6 | 2 | 13,6 | 2,1 | 9,9 | 1,3 |
____________
Источник: Итоги ВПН-2020. Том 5. Национальный состав и владение языками. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie_yazykami (дата обращения: 02.05.2023).
При рассмотрении распределения «неответов» о владении языками в зависимости от возраста выделяются четыре группы. В возрастных группах 10–19 лет и старше 60 лет доля не ответивших на вопросы ниже, чем в среднем по стране (по 6,9% в обеих когортах против 8,2% в среднем по населению). Напротив, в возрастной когорте 20–39 лет ситуация обратная (9,5% неответивших). Тенденция является общей для регионов, но может иметь некоторые различия. Например, в Москве, где доля неответивших значительно выше, чем в среднем по стране, различия по возрастным группам не столь заметны19.
Обозначенные различия усложняются при сравнении с предыдущими переписями. Изучим количество говорящих на удмуртском языке в Удмуртии. По данным ВПН-2010, их было 247 259 человек, ВПН-2020 – 215 070. Снижение составило 17,8%. Если вместо сравнения абсолютных данных сопоставить процент говорящих от общего числа ответивших на вопрос о знании языков (кроме русского), то падение составит 5,4%. Однако если учесть неравномерное распределение «неответов» между городскими и сельскими жителями (соответственно 19,3 и 1,1%, табл. 2), то разница составит 16,1%20. Она объясняется тем, что говорящие на удмуртском языке проживают преимущественно в селах, а охват сельского населения гораздо выше, чем городского. Поэтому в случае необходимости составления аналогичных расчетов для России в целом, особенно для распространенных языков народов страны, важно учитывать особенности данных по регионам.
Валидность ответов. Увеличение числа «неответов» и их неравномерное распределение не объясняют всех различий в итогах ВПН-2020 по сравнению с ВПН-2010. Например, в 2010 г. в Москве 15,6% населения, указавшего владение языками, знало английский язык [Борисович, 2017: 32]. В 2020 г. таких оказалось 5,8%, хотя количество людей, указавших владение языками по двум переписям, практически не изменилось (около 11 млн). Население стало по-другому понимать, что такое владение английским языком? Или во время переписи использовались иные критерии определения количества «указавших владение языком»? Отсутствие ответов на эти вопросы делает невозможным сравнение динамики полиглотизма между двумя последними переписями. В 2010 г. в Москве респонденты, ответившие на вопросы о знании языков, в среднем владели 1,23 языка, 2020 г. – 1,1. Трудно поверить, что москвичи за последние 11 лет стали меньше знать языки, особенно английский.
Неопределенность вопросов-ответов. Определение национальности и родного языка во время переписей в России осуществляется по усмотрению респондента. Вопрос о том, что он подразумевает под этими терминами, приводит к проблеме неопределенности ответов. Часть участников ВПН-2020 вопрос о национальности восприняла как способ узнать об их идентификации с этнической группой. Другими он воспринялся с национально-гражданским смыслом (206 081 человек назвали себя россиянами, еще 652 387 человек указали «РФ»). Появление надэтнических самоназваний объясняется некоторыми экспертами снижением значимости этнической идентичности21.
Неточными с точки зрения фактического знания языков оказываются сведения о родном языке. Как показывают опросы для немалого числа населения России, он приобрел значение идентичности, языка национальности [Дробижева, Рыжова, 2015: 17], а не языка, на котором они говорили в детстве. Эту проблему, на первый взгляд, решают переписные вопросы о владении русским языком и иными языками народов России, иностранными языками. Однако указанные вопросы дихотомичны – респондент сам решает, какой уровень знаний необходим для владения языком. Такой же характер имеет введенный в ВПН-2020 вопрос об использовании языков. Достаточно пассивного использования языка? Или необходимо говорить на нем на ежедневной основе? Является ли школьный учитель иностранного языка повседневным пользователем языка, если он использует его исключительно в учебном процессе? Отсутствие разъяснения переписного вопроса затрудняет интерпретацию ответов.
Несоответствие ответов о национальности и языке проверим на примере выходцев из арабских стран, проживающих в Республике Чувашия (500 чел., по данным ВПН-2020) и представляющих собой группу с четкими культурными границами. Принимая во внимание возможность присутствия национальных и языковых меньшинств среди выходцев из арабских государств (берберов, курдов, езидов), можно ожидать близкие показатели по доле лиц арабской национальности и родного арабского языка в этой республике. Однако перепись зафиксировала лишь почти 400 арабоговорящих человек и 300 тех, чей родной язык арабский22. Подобные несоответствия могут быть вызваны плохой проверкой данных, не выявившей неправильные или отсутствующие ответы в анкете переписи.
Обработка данных. ВПН-2020 зафиксировала в России 1658 наименований национальностей. В графу «прочие национальности» отнесены ответы 109 891 респондента. Среди этнонимов встречаются самоназвания детей из смешанных браков (русско-греки, сахаляры), «новые» этнические общности (русич, советский, старовер, орловец, землянин), разные наименования одной этнической общности (башкирцы-башкиры-башкорт-башкурт), ранее бытовавшие самоназвания народов и родоплеменных сообществ. Созданный лоббистскими группами информационный фон во время переписи привел к тому, что люди под давлением пересматривали самоопределение или переходили в нейтральный статус (см. сноску 21). Так произошло в Астраханской области, когда часть татар переписали ногайцами23.
Анализ данных осложняет предусмотренная переписным инструментарием возможность указания второй национальности. Однако в опубликованных результатах учитывается только первый ответ. Исключением стали коренные малочисленные народы РФ, в отношении которых «учитываются все лица, указавшие соответствующую национальную принадлежность в качестве любого (первого или последующего) ответа на вопрос о национальной принадлежности» (см. сноску 18). Заложенное в ВПН-2002 и использованное в ВПН-2020 стремление отдельных экспертов к выявлению множественной этнической и языковой идентичностей россиян [Этнография…, 2003; Степанов, 2001] оценивается некоторыми исследователями как неудачный способ использования дорогостоящей переписи для научного экспериментирования [Полян, 2004].
Список национальностей России, использованный при обработке ВПН-2020, включает 194 народа и практически повторяет инструментарий переписей 2002 и 2010 гг. В спис-ке национальностей, использованном в ВПН-2002, в ряде этнических групп были выделены самостоятельные общности, однако в отношении других народов этот принцип не использовался [Исхаков, 2002], избирательный подход сохранился и в ВПН-2020. Например, к испанской национальности отнесены каталонцы и галисийцы, а баски обособлены как отдельный народ. ВПН-2020 зафиксировала 372 языка, из них 155 языков народов России. В списке несуществующие языки – европейский, азиатский, среднеазиатский, стран СНГ, народов Севера, финно-угорский, канадский, швейцарский, монегаскский, сенегальский, камерунский, полинезийский и др. Зафиксирован язык программирования, носители которого считают, что могут на нем говорить, видимо, из-за особенностей инструкции к переписи (см. там же). Число «новых» языков увеличилось с 10 в 2010 г. до 45 в 2020 г. Самый крупный новый «дагестанский» язык (19 тыс. ответов) является загадкой для специалистов (см. сноску 13). Некоторые языки объединены в один – каталанский и испанский, лангедокский и французский, гасконский и баскский. ВПН-2020 зафиксировала людей, умеющих говорить (не только читать!) на латыни, древнегреческом, древнеегипетском, авестийском, половецком, старославянском, недешифрованном этрусском языке. Подобный абсурд реже встречается в данных о родных языках, хотя и там зафиксированы габонский, латинский, старославянский языки.
Выводы. Исследование выявило ряд неточностей и противоречий в результирующей статистике ВПН-2020 о национальном и языковом составе России. Перепись оказалась существенно менее достоверным опросом, чем предыдущие всероссийские переписи, а потому требуется осторожное обращение с ее итогами при научно-аналитической работе и реализации государственной национальной политики.
Итоги ВПН-2020 показали резкий рост числа не ответивших на национально-языковые вопросы. Их доля намного выше, чем в Австралии, Великобритании, Канаде. Сложности для анализа представляют неравномерные распределения «неответов» в территориальном и возрастном разрезе, валидность ответов (как, например, со знанием иностранных языков в Москве), неразделенность отсутствия ответа и отрицательного ответа на вопросы (что затрудняет использование данных о владении русским языком), сомнительная группировка национальностей и языков.
Анализ опыта зарубежных стран проведения переписей выявил его разнообразие и динамику в организации полевых работ для обеспечения их эффективности. Государства стали включать в переписи опросы, расширили способы измерений, начали активно публиковать обширную информацию о качестве переписных данных. ВПН-2020 стала для России первой попыткой масштабного включения во входные данные сведений из административных источников (регистров). Требуется дальнейшее ее критическое осмысление по каждой переписной переменной, включая национально-языковые вопросы. Это крайне важно для чувствительной в России сферы национально-языковых отношений, в которую включены многочисленные этнические сообщества страны.
1 С. 7. Доклад Соединенных Штатов Америки о Всемирной программе переписи населения и жилищного фонда 2010 года. ООН, Экономический и социальный совет, Статистическая комиссия, 6 декабря 2011. URL: https://unstats.un.org/unsd/statcom/43rd-session/documents/2012-2-Censuses-R.pdf (дата обращения: 05.05.2023).
2 С. 15. Statistics Finland, Turkish Statistical Institute. (2015) In-depth review of diversification of population census methodology and sources. Genève: United Nations Economic Commission for Europe. URL: https://unece.org/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2015/October/03-In-Depth_Review_on_Censuses__Finland_Turkey_.pdf (дата обращения: 05.05.2023).
3 См.: Рекомендации Конференции европейских статистиков по проведению переписей населения и жилищного фонда 2020 года. Женева: Европейская экономическая комиссия ООН, 2015. URL: https://unece.org/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_RU.pdf; Руководящие принципы использования регистров и административных данных в целях переписей населения и жилищного фонда.
4 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas 2021. URL: https://www.ine.es/metodologia/cuestionario_ECEPOV.pdf (дата обращения: 20.05.2023).
5 Statistics Canada. Dictionary, Census of Population, 2021. Mother tongue. URL: https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/definition-eng.cfm? ID=pop095 (дата обращения: 20.05.2023).
6 Руководящие принципы использования регистров и административных данных в целях переписей населения и жилищного фонда. Женева: Европейская экономическая комиссия ООН, 2018. URL: https://unece.org/DAM/stats/publications/2018/ECECESSTAT20184_R.pdf (дата обращения: 20.04.2023).
7 Office for National Statistics. Maximising the quality of Census 2021 population estimates. URL: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/methodologies/maximisingthequalityofcensus2021populationestimates (дата обращения: 11.08.2023).
8 Statistics Canada. 2021 Census of Population collection response rates. URL: https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/response-rates-eng.cfm (дата обращения: 11.08.2023).
9 Australian Bureau of Statistics. 3.3 Response rates. URL: https://www.abs.gov.au/census/about-census/census-statistical-independent-assurance-panel-report/33-response-rates (дата обращения: 11.08.2023).
10 Statistics Canada. Ethnic or Cultural Origin Reference Guide, Census of Population, 2021. URL: https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-500/008/98-500-x2021008-eng.cfm (дата обращения: 11.08.2023).
11 Statistics Canada. Languages Reference Guide, Census of Population, 2021. URL: https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-500/003/98-500-x2021003-eng.cfm (дата обращения: 07.08.2023).
12 Всероссийская перепись населения – 2021. ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/vserossiiskaja-perepis-naselenija-2021 (дата обращения: 04.05.2023).
13 Казакова Д. Когда мы увидели потерю 600 тысяч татар, тоже удивились: Росстат предлагает искать их в «неответах». Бизнес online. URL: https://www.business-gazeta.ru/article/584255 (дата обращения: 01.06.2023).
14 Участие россиян в переписи. Левада-Центр. URL: https://www.levada.ru/2021/12/21/uchastie-rossiyan-v-perepisi/ (дата обращения: 01.06.2023). *АНО «Левада-Центр» внесена Министерством юстиции РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
15 Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 293-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
16 Всероссийская перепись населения – 2021. ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/vserossiiskaja-perepis-naselenija-2021 (дата обращения: 04.05.2023).
17 Перепись населения 2020 // Демоскоп Weekly. 30 ноября – 14 декабря 2021. № 923–924. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2021/0923/perep01.php#2 (дата обращения: 01.06.2023).
18 Всероссийская перепись населения 2020 г. Методологические пояснения. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Tom5_Metodolog_VPN-2020.docx (дата обращения: 02.05.2023).
19 Итоги ВПН-2020. Том 5. Табл. 12. Владение языками населением разных возрастных групп. Росстат. URL: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Frosstat.gov.ru%2Fstorage%2Fmediabank%2FTom5_tab12_VPN-2020.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (дата обращения: 02.05.2023).
20 По данным ВПН-2020, в Удмуртии насчитывается 43 655 носителей удмуртского языка в городах и 159 626 в селах, при том, что в городах ответили на вопрос о знании языков 80,7% населения, в селах – 98,8%. При пересчете процента говорящих на удмуртском языке от общего числа ответивших на вопрос о знании языков (кроме русского) в городах можно предполагать 54 074 носителей удмуртского, в селах – 161 355, всего – 215 419 чел. (см. Итоги ВПН-2020. Том 1. Табл. 4. Численность городского и сельского населения по полу по субъектам Российской Федерации. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Tom1_tab-4_VPN-2020.xlsx; Итоги ВПН-2020. Т. 5. Табл. 4. Владение языками и использование языков населением. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Tom5_tab4_VPN-2020.xlsx (дата обращения: 02.05.2023). Для 2010 г. эквивалентные расчеты дают 256 810 чел. (см. Итоги ВПН-2010. Том 4. Табл. 7.47. Владение языками населением наиболее многочисленных национальностей по субъектам Российской Федерации. Удмуртская Республика. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-07.rar (дата обращения: 02.05.2023). Потери составляют 16,1%.
21 Колебакина-Усманова Е. «Идентифицировали себя как россияне»: Росстат объяснил «потерю» 590 тысяч татар. Бизнес онлайн. URL: https://www.business-gazeta.ru/article/583782 (дата обращения: 01.06.2023).
22 Итоги ВПН-2020. Том 5. Национальный состав и владение языками. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie_yazykami (дата обращения: 02.05.2023).
23 «Врагом стала пандемия ковида»: как ВКТ объяснил «потерю» 600 тысяч татар. Бизнес онлайн. URL: https://www.business-gazeta.ru/article/579311 (дата обращения: 01.06.2023).
Sobre autores
Gulnara Gabdrakhmanova
Institute of History named after Sh. Mardjani
Autor responsável pela correspondência
Email: medi54375@mail.ru
Dr. Sci. (Sociol.), Head of the Department of Ethnology
Rússia, KazanHèctor Alòs i Font
University of Barcelona
Email: hectoralos@gmail.com
External Collaborator, Center for Sociolinguistics and Communication Research
Espanha, Barcelona, CataloniaBibliografia
- Anderson B. (2006) Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. London; New York.
- Andreev E. M. (2012) On the accuracy of the results of Russian population censuses and the degree of trust in various sources of information. Voprosy statistiki [Bulletin of Statistics]. No. 11: 21–35. (In Russ.)
- Bernard B., King T., Valente P. (2013) The Modern Census: Evolution, Examples and Evaluation. International Statistical Review. No. 81. doi: 10.1111/insr.12036.
- Bogoyavlensky D. (2012) Census 2010: ethnic profile. Demoscop Weekly [Demoscope Weekly]. No. 531– 532. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0531/demoscope531.pdf (accessed 20.05.2023). (In Russ.)
- Borisovich K.Yu. (2017) Languages of Moscow according to the 2010 census. Rodnoy Yazyk [Mother Tongue]. Vol. 7. No. 2: 24–44. (In Russ.)
- Drobizheva L. M., Ryzhova S. V. (2015) Civic and ethnic identity and perception of the preferable state in Russia. POLIS. Politicheskie issledovaniya [POLIS. Political Studies]. No. 5: 9–24. (In Russ.)
- Ethnography of the census – 2002. (2003) Ed. by E. Filippova, D. Arel, K. Gusef. Moscow: Aviaizdat.
- Farahutdinov Sh.F., Hajrullina N. G. (2022) All-russian population census 2020–2021: censusists’ point of view. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 10: 66–73. (In Russ.)
- Iskhakov D. M. (2002) A look at the All-Russian census from Tatarstan (In response to the article by Sokolovsky S. V. “The Tatar problem” in the All-Russian population census). Ab Imperio [Ab Imperio]. No. 4: 235–249. (In Russ.)
- Juran S., Pistiner A. (2016) The 2010 Round of Population and Housing Censuses (2005–2014). Statistical Journal of the IAOS. Vol. 33. No. 2: 399–406. doi: 10.3233/SJI-160282.
- Kitchin R. (2017) Big data, new epistemologies and paradigm shift. Sociologiya: 4M [Sociology: 4M]. No. 44: 111–152. (In Russ.)
- Krasnopol’skaya I., Solodova G. (2016) National census as an instrument of nation building in the postindustrial age. Mir Rossii [Universe of Russia]. Vol. 25. No. 1: 55–78. (In Russ.)
- Mokin K. S., Baryshnaya N. A. (2022) Population census as a form of fixing territorial identity in youth assessments. Vestnik Povolzhskogo In-ta upravleniya [Bulletin of the Volga Institute of Management]. Vol. 22. No. 2: 62–72. (In Russ.)
- Myagkov A.Yu., Zhuravleva S. L. (2011) Experimental assessment of data quality in a telephone interview. Sociologiya: 4M [Sociology: 4M]. No. 32: 26–52. (In Russ.)
- Polyan P. (2004) Preparation, conduct and some qualitative results of the 2002 All-Russian population census. Demoscop Weekly [Demoscope Weekly]. No. 155–156. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0155/analit01.php (accessed 20.04.2023). (In Russ.)
- Social and national. Experience of ethno-sociological research based on the materials of the Tatar ASSR. (1972) Yu. V. Harutyunyan (ed). Moscow: Nauka. (In Russ.)
- Social inequality of ethnic groups: ideas and reality. (2002) Ed. by L. M. Drobizheva. Moscow: Academia. (In Russ.)
- Stepanov V. V. (2001) Russian Census 2002: Ways of Measuring the Identity of Large and Small Groups. Issledovaniya po prikladnoj i neotlozhnoj etnologii [Studies in Applied and Urgent Ethnology]. No. 145. Moscow: IEA RAN. (In Russ.)
- Tishkov V. A. (2003) Population censuses and identity construction. In: On the way to the census. Moscow: Aviaizdat: 9–38. (In Russ.)
- Treviño Maruri R., Domingo A. (2020) ¿Adiós al censo en España? Elementos para el debate / Goodbye to the Spanish Census? Elements for Consideration. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. No. 171: 107–124. doi: 10.5477/cis/reis.171.107.
- Varshaver E. A. (2022) Trapped in Double-Irrelevancy: (Re)-Production of Ethnicity in Interactions between Census-Takers and Their Respondents Based on Results of Observations during 2021 All-Russian Census in Dagestan. Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i social’nye peremeny [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 4: 199–221. doi: 10.14515/monitoring.2022.4.2150. (In Russ.)
- Zakharov S. V., Vishnevsky A. G. (2010) What does Russian demographic statistics know and what does it not know. Voprosy statistiki [Bulletin of Statistics]. No. 2: 7–17. (In Russ.)