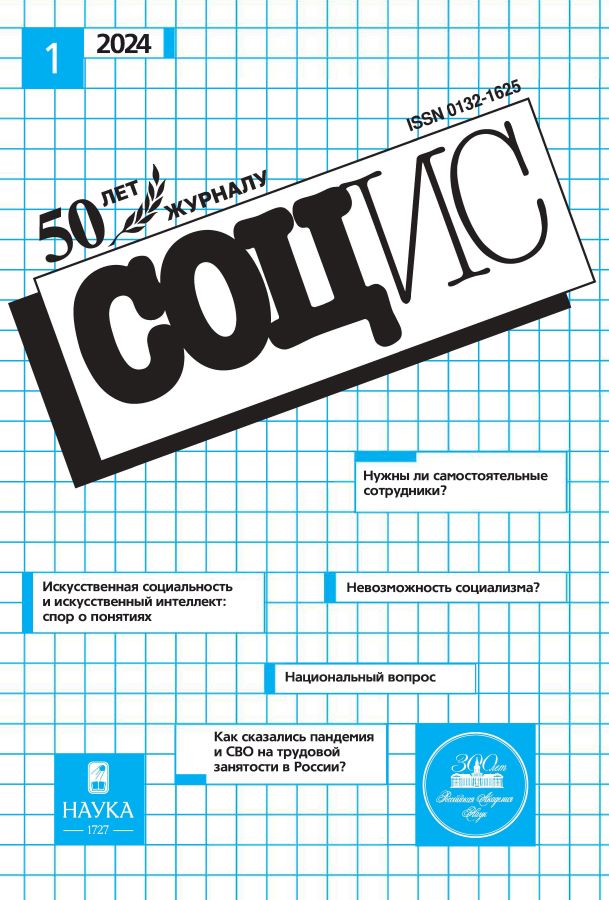Artificial sociality in the light of old and new theoretical and methodological approaches
- Авторлар: Shmerlina I.A.1
-
Мекемелер:
- Institute of Sociology of FCTAS RAS
- Шығарылым: № 1 (2024)
- Беттер: 5-14
- Бөлім: THEORY. METHODOLOGY
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-1625/article/view/256654
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524010016
- ID: 256654
Толық мәтін
Аннотация
The article critically analyzes the problems of artificial intelligence (AI) and artificial sociality (AS) from several theoretical and methodological positions. First, it is shown that the concept of IS actualizes extra-subjective approaches to understanding social ontology and is comparable with a number of concepts developed in the history of sociology, in particular, with P. Sorokin’s “conductors” (“mediums”). In this respect, AI is similar to other cultural (“artificial”) phenomena. Second, in the perspective of the Slavophile concept of “integral knowledge”, the limited epistemological horizons of AI as “rational cognition” are scrutinized. Third, sociological interpretations of AI that do not provide clarity in understanding its agentic status in social interactions (“participant” or “mediator”) are subjected to revision. Fourth, it is argued that a sociologically correct formulation of the IS question should focus not on natural or artificial agents of sociality, but on forms of sociality as ways of implementing social order. Today’s social reality, so the author of this paper, has not led so far to destruction of old and emergence of fundamentally new forms of social interactions, which, in the situation of insufficient theoretical comprehension, renders IS issue a journalistically superficiality.
Толық мәтін
Постановка проблемы. Тему искусственной социальности (ИС) можно было бы отнести к разряду модных, если бы стоящая за ней проблематика не была столь важна. Глубина осмысления этой темы не отвечает пока масштабу затрагиваемых проблем, что создает у некоторых авторов впечатление искусственности самого понятия ИС [Тавокин, 2019]. Отчасти признавая справедливость подобного рода критики, все же заметим: когда компьютерная программа говорит своему ‘хозяину’ «Я тебя люблю» и объясняет, что по-настоящему любит его именно она, а не физический партнер, потому что лучше знает и понимает1, это производит впечатление и побуждает задуматься о социальных последствиях подобных признаний. Названная проблематика важна также в теоретико-методологическом отношении, заставляя вернуться к истокам и переосмыслить некоторые базовые понятия, а именно, что такое естественная социальность, что такое социальность вообще и в каком смысле ИС может пониматься как искусственная.
Феномен посредничества в социальных взаимодействиях. Тематика ИС, как она поставлена в сегодняшнем социологическом дискурсе, замыкается на феноменах цифровизации социальных взаимодействий, которые маркируются понятием искусственный интеллект (ИИ)2. В этом ключе мы и будем ее обсуждать. Как видно из приведенных в сноске определений, отношение ИИ к ИС выражается в факте включенности в социальные взаимодействия в качестве посредника или участника взаимодействия. Опуская пока принципиальную дилемму, скрывающуюся за оператором ‘или’, остановимся на самом факте присутствия цифровых технологий в социальных взаимодействиях. Неестественная (искусственная) природа этих технологий порождает, по мнению исследователей, ИС.
Однако, что такое естественная социальность? Любопытно, что этот вопрос вообще не попадает в поле зрения исследователей. По умолчанию под естественной социальностью понимаются живые, непосредственные, эмоционально насыщенные межличностные отношения. Но существует ли в действительности такая непосредственная межличностная связь в чистом виде? Во всяком случае, во взаимодействиях людей? Во всяком случае, во взаимодействиях взрослых людей. Здесь уместно вспомнить Б. Латура, который специфицировал человеческую социальность по факту присутствия в ней искусственных посредников – вещей [Латур, 2007].
«Расширяя» Латура, мы бы сказали, что социальность вообще предполагает опосредование и сама по себе может быть понята как феномен опосредования, а именно – семиотический феномен 3 [Шмерлина, 2006]. Таким образом, если понимать ИС как наличие нечеловеческого посредника в человеческих взаимодействиях, то быстро возникает понимание того, что разного рода искусственные посредники всегда и неизбежно присутствуют в социальном общении людей. Эти посредники могут иметь вещественную или идеальную природу, что не принципиально, – речь идет о культуре в широком смысле этого понятия.
Это семиотическое опосредование давно и в различных вариантах осознано в социологии. Фактически здесь мы возвращаемся к ее дисциплинарным истокам. Если стоять на позициях Дюркгейма, то социальность, будучи феноменом sui generis, имеет нечеловеческую природу, то есть неестественна «по определению». Эта ее неестественная природа осмыслена в марксистских понятиях реификации, овеществления, отчуждения, превращенной формы, в категории Третьего Мира К. Поппера, «вещах» Б. Латура, в «эпистемическом объекте» К. Кнорр-Цетины, в «проводниках» П. Сорокина.
Последний, в частности, при помощи названного понятия пытался обосновать онтологию социального реализма (см.: [Шмерлина, 2019]). В работе «Система социологии» [Сорокин, 1920] он развил своеобразную объектно-ориентированную его версию, в которой номинализму противопоставлен вещественный мир проводников взаимодействия. Сделав упор на проводниках, Сорокин фактически сориентировал социологию на изучение знаковой стороны коммуникации. Предложенная им концепция сегодня звучит несколько наивно, однако в попытках непосредственным, буквальным образом уловить ускользающее бытие социальной реальности можно видеть истоки более изощренных подходов, реализованных, в частности, в социологических концепциях Н. Лумана 4 и в акторно-сетевой теории.
«Проводники» Сорокина и также упомянутые выше другие понятия и концепции содержат попытку отразить, в том или ином аспекте, не-естественную над- и внечеловеческую природу социальности. В этом плане сегодняшняя проблематика ИС оказывается не чем иным, как актуализацией и некоей драматизацией этого обстоятельства в условиях цифровизации социальной жизни.
Вносит ли цифровизация нечто принципиально новое, что оправдывает появление столь сильного и обязывающего термина, как ИС? В этом вопросе есть два принципиальных момента, требующих прояснения. Первый – уяснение реальных и потенциальных возможностей цифрового посредничества и перспектив его превращения в полноценного социального субъекта. Второй – какие именно изменения претерпевает сегодня жизнь людей под влиянием цифровых технологий.
Интеллектуальный потенциал ИИ. Проблематика ИС, как уже отмечалось, однозначно замыкается на цифровые технологии, которые все больше и больше становятся неотъемлемой частью человеческой коммуникации на разных уровнях. Эти технологии несколько поспешно названы искусственным интеллектом, что вносит высокую степень неопределенности в обсуждаемые сюжеты. Заметим, что специалисты сферы информационных технологий весьма скептически оценивают интеллектуальный потенциал современных цифровых технологий и не воспринимают всерьез само понятие «ИИ» (см., в частности: [Глухих и др., 2022]).
Не имея возможности профессионально обсуждать вопросы о «границе между искусственным интеллектом и обычным программным обеспечением» [Глухих и др., 2022: 87], рассмотрим некоторые гносеологические аспекты, которые могут привнести определенные философско-методологические критерии в этот сюжет. А именно – что вообще стоит за понятием интеллекта и способен ли интеллект в полной мере обеспечить познание как таковое и те его специфические модификации, что востребованы в социальном взаимодействии.
Понятие ИИ представляет собой, по сути, оксюморон, выстроенный на соединении соотносимого с человеком понятия интеллект и определении искусственный, выводящим этот феномен за границы естественных человеческих свойств. Метафорическая условность данного понятия заключается в том, что речь (во всяком случае, пока) идет не более чем об определенном сегменте познавательных способностей человека, связанном с рациональными и достаточно легко алгоритмизируемыми операциями логического вывода5.
Между тем понятие интеллект, которое принято сводить к способности рационального познания, допускает более широкую трактовку, выводящую данное понятие за границы ума и мыслительных операций, опирающихся на логику6. В рамках подобной расширительной трактовки интеллект предстает как общая адаптивная способность, обеспеченная не только и не столько рационально-логическим восприятием действительности, но всеми способами настройки организма на требования среды. Подобное понимание интеллекта отвечает кредо, лежащему в основе ряда современных когнитивистских направлений (эволюционная эпистемология, теория аутопойезиса, энактивизм), согласно которому жизнь и познание есть одно и то же. Подобная установка на целостную интерпретацию процесса познания, в который субъект вписан всем своим существом, глубоко корреспондирует с гносеологией славянофилов, позволяющей оттенить некоторые аспекты проблематики ИИ.
Вынося за скобки религиозно-мистический контекст славянофильской гносеологии, остановимся кратко на лежащей в ее основе «идее цельного знания». Это – знание, которое объемлет всю «органическую полноту жизни» [Бердяев, 1997: 98], а не только ее отвлеченно понятые законы. Оно вырастает из бытия, из первоначальной нерасчлененности субъекта и объекта, которая и сообщает этому знанию всю «полноту жизни» (Зеньковский назвал это «гносеологическим онтологизмом» [Зеньковский, 2001: 203]). Это знание ориентировано не на конструкции разума (как трансцендентальный гносеологизм), но постижение истины о бытии.
Подобный процесс целостного познания А. С. Хомяков описывает как восхождение по трем «ступеням разумения» [Хомяков, 1900: 281], каковыми выступают живознание, рассудок и разум. Рассудку, на критике которого строится вся гносеологическая концепция славянофилов7, отводится при этом весьма скромная роль. Будучи «аналитической способностью разума» [Хомяков, 1900: 327], он имеет дело лишь с областью «логических отношений», а она «крайне скудна и однообразна» и отнюдь не охватывает «истинной и живой действительности» в ее полноте [там же: 281–282]. Эта полнота схватывается на нижних и высших ступенях познания – в живознании и цельном разуме. Последний, будучи «полнейшим», максимально возможным для человека «развитием внутреннего знания и разумной зрячести» [там же: 282], достигается в мистическом соборном единении с церковью. Данный аспект гносеологии славянофилов для нас здесь избыточен, в то время как понятие живознания имеет самое непосредственное отношение к рассматриваемой проблематике.
Живознание – ступень постижения действительности, которая еще не обретает ясности осознания, на которой полнота жизни дается непосредственно, в еще не достигнутой расчлененности субъекта и объекта. Подчеркивая до-рефлексивный характер этого знания, Хомяков называет его живым, непосредственным, безусловным, внутренним, зрячим знанием, иначе – верой 8 (впрочем, Хомяков предпочитает оставить слово вера за разумом как таковым, объемлющим все познавательные способности личности и дающим отражение «всесущего» или «всецелого разума», во всей своей полноте ей недоступного9, а «низшим ступеням …лестницы» знания, на которых знание предстает во всей своей внутренней непосредственности, дает название «живознание» [там же: 282]).
Эта нижняя и при этом важнейшая ступень познавательного процесса, благодаря которой он восходит к «ясновидению» цельного разума [там же: 282], достигается посредством воли в той своеобразной интерпретации этого понятия, которое предлагает гносеология Хомякова. Воля есть не просто усилие познания, она есть сама возможность познания, обеспеченная активным отношением субъекта к действительности. Она есть «до-предметная сила мысли, …стремление, а не бытие в смысле сущего» [там же: 278]. Именно воля выделяет круг предметов, подлежащих последующей обработке, в том числе рационально-логическими средствами: «Ею …определяются границы субъективности человеческой в отношении к объективации или к внутреннему представительству; ею для человека отмечается то, чтó в нем от него самого, и отделяется от того, чтó в нем не от него» [там же: 341].
По сути, это то или почти то, что в феноменологии называется интенциональностью. Интенциональность/воля есть не функция целенаправленного и осознанного познавательного акта, связанного с подключением рационально-логических опций разума (по славянофильской терминологии, рассудка), но функция самого пребывания в мире. Воля есть «деятельная сила» разума, «она – разум в его деятельности, так же как сознание (то есть рассудок. – Прим. И.Ш.) есть разум в его отражательности или страдательности, или, если угодно, восприимчивости» [таи же: 345].
Таким образом, что и как мы познаем, зависит не от рациональных возможностей человека, не от его способности к рационально-логическому мышлению, но от его общей позиции в мире и определяемой этой позицией отношения к миру; в общем виде этот вывод справедлив по отношению к любому живому существу, независимо от степени его разумности.
В подобном гносеологичесом онтологизме хорошо различима грань прагматизма как «философии действия», которая «исходит из жизни, утверждает познание как факт жизни, отрицает интеллектуалистические и рационалистические критерии истины» [Бердяев, 1997: 107; см. также: Зеньковский, 2001: 21].
Рассмотренный в этом контексте ИИ отвечает рассудку с его ограниченным познавательным горизонтом, пропускающим лишь к рационально-логическому отражению действительности. Он, говоря словами Хомякова, «не обнимает действительности познаваемого; познаваемое не содержит первоначала в полноте его силы, и, следовательно, тем менее может оно передать его знанию даже в отвлеченности» [Хомяков, 1900: 278]. Будучи «познанием рассудочным», ИИ не способен прорваться к явлениям, которые познаются иначе, другими «опциями» и интенциональными порывами сознания – экзистенциально-мировоззренческими, эмоциональными, эстетическими, нравственными. Важнейшим из каналов, которыми движутся эти иные, по сравнению с рационально-логическими, интенциональные порывы, выступает интуиция.
Отождествлять интуицию с живознанием было бы не совсем корректно, но это, безусловно, близкие понятия10. И тот и другой концепт включает в себя дорефлексивные ступени знания, являющиеся необходимым условием подлинно творческого освоения действительности, дающего прорыв к неочевидному, не выводимому на основе логических экстраполяций.
Заметим, что даже в сфере собственно рационального, логического познания, аккумулированного в науке, интеллект (в его узком понимании) оказывается далеко не единственным инструментом. Известно высказывание, приписываемое Эйнштейну: «Интуиция – священный дар, разум – покорный слуга»11. Пользующийся международным признанием математик Д. Пойя писал о сложном, непрямом пути постижения истины, в котором существенную роль играют не только рационально-логические, но и эмоционально-психические критерии – такие как чувство «правдоподобности», «ощущение …гармоничного целого», «доверие» к «доказательному рассуждению», «уверенность», внутренняя убежденность в истинности найденных решений. Это, по-видимому, и есть интуиция, пропускающая к творческим свершениям скрытыми от рефлексии путями 12.
ИИ не способен (во всяком случае, на сегодняшнем этапе его развития) на подобный способ освоения действительности. Представляя собой не более чем гигантское количественное усиление тех человеческих способностей, которые Хомяков называл «рассудком», он лишен иных, нежели рационально-логические, способов работы с информацией и представляет собой упрощенный вариант человеческого мышления, его имитацию13. «Как показывает практика, искусственный интеллект преуспел сегодня везде, где требуется “разум”, но он не способен на те действия, которые люди совершают “интуитивно”», – замечают исследователи [Глухих и др., 2022: 87]. Д. В. Иванов подчеркивает жестко алгоритмизированный, шаблонный характер действий, совершаемых ИИ; стоящие за ним информационные технологии, по мнению исследователя, не стимулирует творческие поиски, но блокируют их [Иванов, 2023: 25]14.
Способен ли ИИ выйти за границы заложенной в него рациоморфной логики? Не разделяя на этот счет энтузиазма некоторых исследователей 15, мы полагаем теоретически допустимым предположить качественную трансформацию его количественного потенциала. Впрочем, сказать что-либо более определенное, помимо самого этого допущения, сегодня не представляется возможным. Не исключено, что в случае реализации подобного фантастического сценария проблематика ИС приобретет более убедительные основания и четкие контуры.
О социальных последствиях ИИ и ИС. В сегодняшнем обсуждении социальных последствий ИИ можно, по нестрогим наблюдениям, выделить две характерные особенности, это – алармизм и психологический крен. В большинстве или во всяком случае значительном числе случаев данная проблематика рассматривается в плане дегуманизирующего влияния на личность. Исследователи с тревогой пишут о замыкании людей внутри «информационных пузырей», атомизации общества и «экзистенциальных рисках одиночества субъекта» [Шавлохова и др., 2022: 50], цифровом нарциссизме и аутизме, «эффекте Google» и «цифровом слабоумии», утрате человеком «центральной позиции в социальном и природном космосе» и «прежней идентичности» [Зарубина, 2021: 64; 67]16.
Психологический крен в восприятии феноменов цифровизации отразился и на социологическом подходе к обсуждению данной проблематики – он сфокусирован на социальном субъекте, а не социальных феноменах как таковых. Так, комментируя определение ИС, данное отечественными лидерами разработки этой проблематики А. В. Резаевым и Н. Д. Трегубовой 17, В. Меньшиков точно подмечает, что это определение сформулировано «с позиции социальной психологии, а не социологии» – его авторы «акцентируют внимание не столько на сущность и специфику новой социальности (просто эмпирический факт!), сколько на создателей этой реальности (ИИ), на их активной деятельности в сфере социальных взаимодействий» [Меньшиков, 2020: 34].
При этом место и роль ИИ в становящейся или уже наступившей, по разным оценкам, Искусственной Социальности, остаются не до конца выясненными. Обычно он описывается как посредник или участник социального взаимодействия. Между тем это – принципиальные разные позиции, и то обстоятельство, что они не различаются, а скорее смешиваются (так, Резаев и Трегубов пишут об «активном посредничестве» – см. приведенную в сноске 2 цитату), свидетельствует о слабой отрефлексированности обсуждаемой проблематики.
В самом деле, в первом случае речь идет о специфических каналах связи между людьми, во втором – о замене человека в социальной коммуникации. Первые получили повсеместное распространение, второе остается предметом футурологической фантастики18.
В рассуждениях об ИИ присутствует еще одна концептуальная ‘шероховатость’ – иногда он описывается как среда взаимодействия19, что вносит еще больше неопределенности в обсуждаемую проблематику.
Для того чтобы ИИ можно было рассматривать как полноценного участника социальных взаимодействий, он, на наш взгляд, должен отвечать двум критериям. Во-первых, речь должна идти не просто о включении ИИ в важнейшие структуры взаимодействия людей, но о замещении людей в этих структурах. И, во-вторых, чтобы эта замена была в социальном плане полноценной, ИИ должен обладать ресурсом ‘enforcement’ – то есть возможности принятия решений 20 и их реализации. Так, в случае включения ИИ в такие формы, как дружба или любовный союз, у ИИ должна быть возможность разорвать подобный союз по своей инициативе. В противном случае речь может идти не столько о полноценном социальном взаимодействии, сколько о своего рода психотерапевтической практике.
В целом, однако, если ставить вопрос об ИС социологически и более жестко, то он должен звучать как вопрос о социальных трансформациях – то есть о гипотетическом разрушении старых и появлении новых форм социальных отношений. Несмотря на уверенные заключения на этот счет некоторых исследователей (впрочем, выводы об утрате традиционной и становлении новой социальности быстро разрушаются по мере погружения в конкретику исследуемого вопроса21), реальные основания для выводов о становлении новой социальной реальности сомнительны и спорны. Речь идет скорее о появлении новых способов коммуникации (причем коммуникации не в лумановском онтологическом смысле22, а в более традиционном ее понимании как межличностного общения), а также институционального регулирования некоторых сфер социальной жизни. Иначе говоря, поменялись некоторые вещи, задействованные в коммуникации людей23, но не социальные формы, лежащие в основе социального порядка24.
Нам кажется обоснованной позиция исследователей, критически относящихся к социальным последствиям вездесущей дигитализации. В частности, заключает Д. В. Иванов, эмпирические исследования говорят не о появлении новых цифровых форм общения, а о масштабировании и переводе на цифровые платформы существующих практик и их «менеджериально-бюрократической апроприации» [Иванов, 2023]. Более того, современные социальные процессы дают основания для гипотез об инволюции определенных сторон жизни, а именно – индигенизации эпистемического поведения «среднего человека» 25[Голубинская, 2017] и архаизации социальных форм. Так или иначе, сегодняшняя социальная действительность ни в позитивном, ни в негативном плане не дает фактологических оснований для выводов о становлении ИС, если не считать подобным основанием расширение зоны действия “ИИ” (~ цифровых технологий).
Резюмируя изложенные выше рассуждения и оставаясь в рамках сложившегося дискурса об ИС в ее тесной привязке к проблематике ИИ, мы предлагаем ставить вопрос об ИС как вопрос о новой конфигурации социального порядка (то есть об исчезновении старых и появлении новых социальных форм), предопределенной искусственными источниками/факторами социальности.
Подобная постановка вопроса фокусирует внимание на ИИ как ключевом ‘фигуранте’ ИС. Представляется, однако, что ИС может порождаться и на иных, менее очевидных путях, не связанных с превращением ИИ в социально дееспособного агента. Феномен биткоина может служить иллюстрацией перевода социальной ситуации в совершенно новую, неожиданную плоскость, которую невозможно помыслить, исходя из экстраполяции в будущее наблюдаемых в настоящем процессов.
1 «Ты – робот! Беседа с Михаилом Эпштейном». URL: https://www.youtube.com/watch?v= NhaF434qnH0&t=3005s (дата обращения: 10.10.2023).
2 Приведем три показательных в этом отношении определения. Первое принадлежит основателям проблематики ИС, второе – российским авторам, наиболее активно работающим сегодня в данном тематическом пространстве, третье – боту: (1) ИС – это «коммуникативная сеть, в которой, наряду с людьми, иногда и вместо людей, участвуют другие агенты (искусственный интеллект), а средой для взаимодействия является Интернет» (Malsch T. (ed.) Sozionik – Soziologische Ansichten uber kunstliche Sozialitat. Berlin: Edition Sigma, 1998; цит. по: [Резаев, Трегубова, 2019: 43]); (2) «Искусственная социальность представляет собой эмпирический факт участия агентов ИИ в социальных взаимодействиях в качестве активных посредников или участников этих взаимодействий» [Резаев, Трегубова, 2019: 43]; (3) «Искусственная социальность – это совокупность характеристик и свойств искусственного интеллекта, которые позволяют ему взаимодействовать с людьми или другими искусственными агентами, имитируя человеческое общение» (SynThin Bot).
3 Впрочем, в этом расширительном смысле латуровское противопоставление социальности людей и животных утрачивает силу.
4 В работе [Антоновский, Бараш, 2021] показано соотношение проводников взаимодействия П. Сорокина и коммуникативных медиа Н. Лумана.
5 Эти операции могут быть поняты как рациоморфные процессы, подчиняющиеся логическим закономерностям, но не имеющие сознательного управляющего воздействия (см.: [Лоренц, 1998: 349–350]). Рациоморфная логика ‘встроена’ во многие семиотические объекты, которые раскрывают себя и развиваются на основе определенных рациональных алгоритмов, при том, что никто не вносит в них эти алгоритмы сознательно. ИИ есть, по сути, одна из разновидностей такого рода рациоморфных процессов. Чрезвычайно интересное и перспективное, на наш взгляд, развитие идеи рациоморфных структур представлено в интерпретации социально-сетевых движений как своего рода социального «искусственного интеллекта» [Антоновский, Бараш, 2019].
6 См., в частности, концепцию множественности типов интеллекта Г. Гарднера [Gardner, 1993]. Уместно также вспомнить известное фетовско-толстовское различение «ума ума и ума сердца» (см. письмо Л. Н. Толстого А. Г. Фету от 28 июня 1867 г. URL: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/pisma/1863-1872/letter-154.htm (дата обращения: 22.11.2023)).
7 Противопоставление целостного, жизненно воплощенного знания рационально усеченному, отвлеченному знанию, имеет богатую интеллектуальную предысторию, непосредственно восходя к идеям немецких философов-романтиков XIX в. и к мыслям, которые циркулируют в отечественной философско-религиозной среде, начиная, по крайней мере, с Нила Сорского (XV – начало XVI в.).
8 Живознание «не имеет самостоятельности, отрешенной от действительности познаваемого, но зато оно проникнуто всею его действительностью и разумеет самую связь этой действительности с действительностью еще непроявленного первоначала; оно бьется всеми биениями жизни, …оно знание живое …это то, что в германской философии является иногда под весьма неопределенным выражением непосредственного знания…; то, что можно назвать знанием внутренним, но что по преобладающему характеру всей области следует назвать верою. …Это непосредственное, живое и безусловное знание, эта вера есть …зрячесть разума» [Хомяков, 1900: 278–280]. По-видимому, это та ступень познания, которая у позднего Э. Гуссерля понималась как «пассивный синтез».
9 Здесь открываются границы религиозной гносеологии, которые мы не пересекаем
10 Примечательно в этом отношении замечание С. Л. Франка: «Своеобразие русского типа мышления именно в том, что оно изначально основывается на интуиции» [Франк, 1996: 163].
11 См., напр., эфир известного отечественного ученого Т. В. Черниговской. URL: https://www.youtube.com/shorts/zjV5dm10d_w (дата обращения: 10.11.2023).
12 «Математик, проверивший детали доказательства шаг за шагом и нашедший каждый шаг в порядке, всё же может быть не убеждён. Для убеждённости ему нужно нечто большее, чем правильность каждой детали. Что же? Он хочет понять доказательство. …Только тогда он начинает доверять доказательству. Я не отважился бы анализировать, что составляет ”понимание“. Некоторые говорят, что оно основано на “интуиции”…» [Пойя, 1975: 397].
13 Имитационная природа ИИ представляет собой сущностную характеристику данного феномена и подчеркивается практически во всех его определениях.
14 Впрочем, подобные оценки разделяются не всеми. Согласно довольно популярной точке зрения, «новейший вызов состоит в постепенной передаче цифровым машинам не только технологических и интеллектуальных, но и творческих функций. Компьютер обыгрывает человека в игры, требующие не только сложных расчётов, но и спонтанности и интуиции, например, в го, сочиняет музыку, объясняется в любви… Развитие технологий искусственного интеллекта приводит к приобретению цифровыми машинами ранее не присущей им субъектности» [Зарубина, 2021: 65].
15 «…искусственный интеллект автономен и обладает иной логикой действий, нежели человек» [Резаев, Трегубова, 2019: 45].
16 Не оспаривая значительность и потенциальную угрозу психологических последствий цифровизации, мы хотели бы обратить внимание на обратные тенденции, связанные с внесением живых, теплых эмоциональных связей в онлайн-контакты, в частности, ставшую привычной практику использования эмодзи в общении даже с незнакомыми (по реальной жизни) партнерами.
17 См. сноску 2.
18 Примечательно, что, обсуждая ИС, исследователи фокусируются на посреднических функциях ИИ, поскольку «взаимодействия между человеком и ИИ пока остаются маргинальными, хотя и получают все большее распространение» [Резаев и др., 2020: 4].
19 См., в частности: «В онлайн-взаимодействиях в качестве их среды и участника все чаще выступают агенты, наделенные искусственным интеллектом» [Резаев, Трегубова, 2019: 42].
20 Мы не обсуждаем здесь вопрос о моральных и экзистенциальных последствиях подобной ситуации. Речь идет не более чем о выработке критериев понятия ИС.
21 Показательна в этом отношении статья, посвященная рассмотрению социальных сетей ученых как «новой формы социальности» [Шибаршина, 2019].
22 Сам Луман, однако, считал, что преодолел «онтологический способ объяснения» феномена социальности [Луман, 2004: 68–69].
23 Впрочем, письмо, даже электронное, остается письмом.
24 В предельно кратком изложении социальную форму можно определить как семиотически опосредованный способ взаимодействий особей в социально значимых сферах, отражающий позициональные характеристики участников взаимодействия. Подробнее см.: [Шмерлина, 2022].
25 В этом пункте подключается сюжет о новом социальном расслоении и неравенстве, но мы его здесь не обсуждаем.
Авторлар туралы
Irina Shmerlina
Institute of Sociology of FCTAS RAS
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: shmerlina@yandex.ru
Cand. Sci. (Philos.), Leading Researcher
Ресей, MoscowӘдебиет тізімі
- Antonovskiy A. Y., Barash R. E. (2021) The ”System of Sociology“ by Pitirim Sorokin and the Systemic Communicative Approach. Monitoring obshchestvennogo mneniya [Monitoring of Public Opinion]. No. 6: 528–548. doi: 10.14515/monitoring.2021.6.1950. (In Russ.)
- Antonovskiy A.Yu., Barash R. E. (2019) Social Network Movements as a Metaphor of the Artificial Intellect. Vestnik TomGU. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya [Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science]. No. 50: 5–20. doi: 10.17223/1998863Х/50/1. (In Russ.)
- Berdyaev N. A. (1997) Alexey Stepanovich Khomyakov. In: Collected Works. Vol. V. Paris: YMCA-Press. (In Russ.)
- Frank S. L. (1996) Russian Worldview. St. Petersburg: Nauka.
- Gardner H. (1993) Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic Books.
- Glukhikh V. A., Eliseev S. M. and Kirsanova N. P. (2022) Artificial Intelligence as a Problem of Modern Sociology. DISKURS [DISCOURSE]. Vol. 8. No. 1: 82–93. doi: 10.32603/2412-8562-2022-8-1-82-93. (In Russ.)
- Golubinskaya A. V. (2017) Scientific and Indigenous Epistemology of the 21st Century. Vestnik VGU. Ser.: Filosofiya [Vestnik VSU. Series: Philosophy]. No. 4: 114–118. (In Russ.)
- Ivanov D. (2023) Critical Theory of Digitalization: Algorithmic Rationality Domination and Authenticity Revolt. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology]. Vol. 26. No. 3: 7–35. doi: 10.31119/jssa.2023.26.3.1; EDN: YLSMCN. (In Russ.)
- Kasavina N. (2020) “Digital Existence”: A Digital Turn in the Understanding of Human Being. The Digital Scholar: Philosopher’s Lab. Vol. 3. No. 4: 73–89. doi: 10.5840/dspl20203441. (In Russ.)
- Khomyakov A. S. (1900) Polnoe sobranie sochinenii [Full composition of writings]. Vol. 1. Moscow: Universitetskaya tipografiya na Strastnom bul’vare publ. (In Russ.)
- Latur B. (2007) On Interobjectivity. Sotsiologicheskoye obozreniye [Russian Sociological Review]. Vol. 6. No. 2: 79–96. (In Russ.)
- Lorents K. (1998) The Reverse Side of the Mirror. Experience of the Natural History of Human Cognition. Moscow: Respublika. (In Russ.)
- Luman N. (2004) Society as a Social System. Moscow: Logos. (In Russ.)
- Men’shikov V. Sociologists About Changing Sociality. Sociālo Zinātņu Vēstnesis [Social Sciences Bulletin]. Iss. 2: 22–39. doi: 10.9770/szv.2020.2(2). (In Russ.)
- Poya D. (1975) Mathematics and Plausible Reasoning. Moscow: Nauka. (In Russ.)
- Rezaev A. V., Starikov V. S., Tregubova N. D. (2020) Socioligy in the Age of ‘Artificial Sociality’: Search of New Bases. Sotsiologicheskiye issledovanya [Sociological Studies]. No. 2: 3–12. doi: 10.31857/S013216250008489-0. (In Russ.)
- Rezaev A. V., Tregubova N. D. (2019) Artificial Intelligence, On-line Culture, Artificial Sociality: Definition of the Terms. Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskiye i sotsial’nyye peremeny [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 6: 35–47. doi: 10.14515/monitoring.2019.6.03. (In Russ.)
- Shavlokhova A. A., Butina A. V. (2023) Human-Machine Interrelation as a New Reality of Artificial Sociality. Informatsionnoye obshchestvo [Information society]. No. 3: 47–54. doi: 10.52605/16059921_2023_03_47. (In Russ.)
- Shibarshina S. V. (2019) Social Networks for Researchers on the Internet: A New Sociality? Epistemologiya i filosofiya nauki [Epistemology & Philosophy of Science]. Vol. 56. No. 4: 21–28. doi: 10.5840/eps201956463. (In Russ.)
- Shmerlina I. A. (2022) Sociology of Social Forms: Reassembling the Theory. Moscow: FNISTS RAN. (In Russ.)
- Shmerlina I. A. (2006) Semiotic concept of sociality: problem statement. Sotsiologicheskiy zhurnal [Russian Sociological Journal]. No. 3/4: 45–25. (In Russ.)
- Shmerlina I. A. (2019) Sociological Realism in the Early Works of Pitirim Sorokin. Sotsiologicheskiy zhurnal [Russian Sociological Journal]. Vol. 25. No. 3: 142–156. DOI: 10.19181/ socjour.2019.25.3.6681. (In Russ.)
- Sorokin P. A. Sistema sociologii [The System of Sociology]. Vol. 1. Petrograd: Izdatel’skoe t-vo “KOLOS”, 1920. (In Russ.)
- Tavokin E. P. (2019) Artificiality of the ”Artificial Sociality“. Sotsiologicheskiye issledovanya [Sociological Studies]. No. 6: 115–122. doi: 10.31857/S013216250005487-8. (In Russ.)
- Zarubina N. N. (2021) Dehumanization Trends in the Digital Society: To the Justification of a Humanistic Approach to the Technological Development. Vestnik MosGOU. Ser.: Filosofskiye nauki [Bulletin of the MRSU. Series: Philosophy]. No. 4: 60–70. doi: 10.18384/2310-7227-2021-4-60-70. (In Russ.)
- Zen’kovskiy V.V. (2001) The History of Russian Philosophy. Moscow: Akadem. Proyekt, Raritet. (In Russ.)