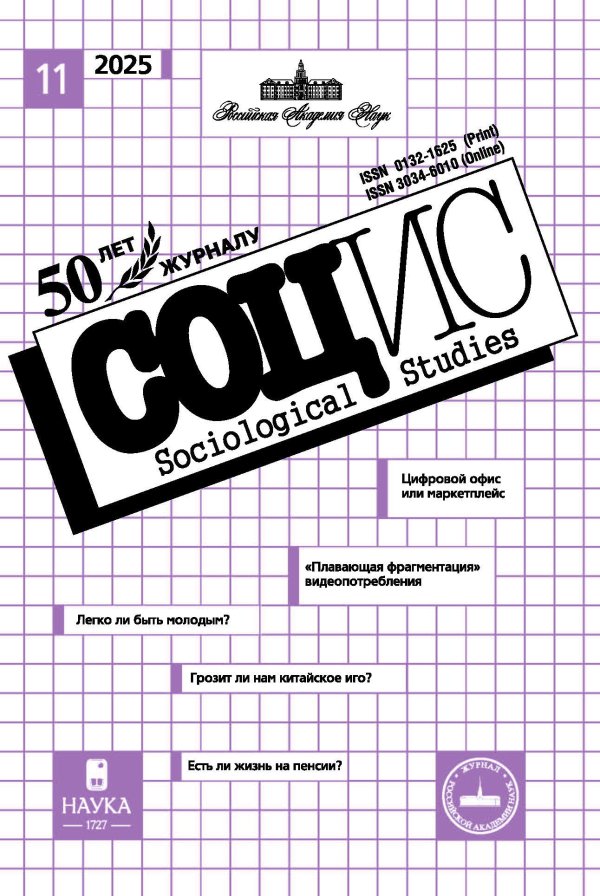The third integrative wave in sociology’s development. Part II. Theories and methods for an augmented social reality
- Authors: Ivanov D.V.1
-
Affiliations:
- St. Petersburg State University
- Issue: No 7 (2024)
- Pages: 23-36
- Section: THEORY. METHODOLOGY
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-1625/article/view/266053
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524070045
- ID: 266053
Full Text
Abstract
The article is analyzing positive prospects of the sociology’s development in the context of today’s fragmentation of scientific discipline under conditions of metaparadigm crisis and post-globalization. Current disintegration in sociology is provoked by the rising postcolonial discourse, by attempts to stigmatize western classics and to create theoretical alternatives to the ‘global North’ domination in knowledge production as well as by spread of conceptions opposing social reality of networks and flows to classical sociality of structures and agency (M. Castells, B. Latour, J. Urry, K. Knorr Cetina). The third in the modern sociology’s history integrative wave is expected to come in the 2020s displacing tendencies of disintegration, discrimination, growing gaps and rising barriers. Now theories are relevant as they create a coherent configuration of four types of structures: institutions, interactions, networks, and flows. The new subject matter for theorizing is constituted by their interconnections in forms of fields of structurations, scapes of assemblages, communications, platforms, projects, and events. After the ideas of the end of Modernity and multiple Modernities, the idea of augmented Modernity emarges overcoming constitutive distinctions of the last century’s sociology: local vs. global, system vs. lifeworld, material vs. symbolic, private vs. public, real vs. virtual, physical vs. digital, et ctr. Mutual penetration of different social structures stimulates elaboration and implementation of innovative hybrid methods directed towards an augmented data collecting and analysis.
Full Text
Актуальная повестка теоретико-методологической интеграции. Метапарадигмальный кризис, вызванный в 2000-х гг. распространением постколониального дискурса, попытками стигматизировать западную классику и создать теоретическую альтернативу доминированию «глобального Севера» в производстве знания [Akiwowo, 1999; McLennan, 2003; Connell, 2007; Go, 2020], а также ростом влияния концепций, противопоставляющих социальную реальность сетей и потоков [Latour, 2005; Urry, 2000; Castells, 1996; Appadurai, 1990; Knorr Cetina, 1997; 2009] классической социальности структур и действий, существенно изменил социологию. Тенденции дезинтеграции и фрагментации привели к появлению в социологии новых и множественных драйверов развития, идущего пока в расходящихся направлениях. Но возникновение таких драйверов создает условия для новой интеграции. Нужно объединить эвристические потенциалы противопоставляемых концепций и подходов.
Первая в истории социологии интегративная волна 1920–1950-х гг. породила «большие» теории П. Сорокина, Т. Парсонса, Франкфуртской школы, связавшие разнородные идеи классиков в модели общества как системы [Sorokin, 1937; Parsons, 1951; Adorno, Horkheimer, 1947]. Вторая интегративная волна воплотилась в связавших макро- и микросоциологические подходы теориях Ю. Хабермаса, Э. Гидденса, П. Бурдье [Haberms, 1981; Giddens, 1984; Bourdieu, 1987] и в метатеоретизировании Дж. Ритцера, П. Штомпки, Дж. Александера [Ritzer, 1975; 1990; Sztompka, 1979; Alexander, 1982]. В 2020-х гг. есть все возможности для нового интегративного метатеоретизирования. Нужно применить логику, характерную для прошлых интегративных теорий, к актуальному концептуальному материалу.
В статье развивается подход, использующий в качестве объединяющего понятия метафору дополненной реальности (augmented reality), апробированную в анализе различных социальных процессов [Иванов, 2020]. Предлагаемая здесь теоретико-методологическая интеграция нацелена на то, чтобы связать:
1) представления о привычных и новых формах социальности (институтах, интеракциях, сетях, потоках) в единой концепции дополненной социальной реальности;
2) традиционные и инновационные модели социальных изменений и развития в единой концепции дополненной современности;
3) методологические подходы, ориентированные на разные типы данных – количественные, качественные, большие, смешанные и т. д., в единой концепции дополненных/обогащенных данных.
Дополненная социальная реальность на стыках институтов, интеракций, сетей и потоков. После модного в последние 20–30 лет противопоставления сетей и потоков привычным институтам и интеракциям [Latour, 2005; Urry, 2000; Castells, 1996; Appadurai, 1990; Knorr Cetina, 1997; 2009] приходит время теорий, продолжающих логику интегративных моделей габитуса и структурации [Bourdieu, 1987; Giddens, 1984]. Предметом постбурдьевистских и постгидденсовских теорий должны стать формы взаимообусловленности и взаимопроникновения четырех типов социальности, не только макроструктур и микроагентностей. Нужны теоретические модели, создающие связность сложившейся конфигурации четырех разных типов социальных структур: институтов, интеракций, сетей и потоков.
Конфигурация предметного поля теоретической социологии накануне третьей интегративной волны выглядит так: есть четыре главных типа структур, образующих четыре разных типа социальности – тотальную социальность институтов, частную и ситуативную социальность интеракций, относительную социальность сетей, альтерсоциальность потоков. Институты традиционно предстают как идеально социальные структуры. Они интегрируют множество индивидуальных объектов (люди, их действия, их вещи) в большие общности и обеспечивают скоординированность объектов в общностях за счет постоянных и единых для всех норм. Интеракции являются не столь социальными структурами, как институты. Интеракции интегрируют объекты в ситуативную общность. Их координация гарантируется не универсальной нормативностью, а креативностью попавших в данную ситуацию участников, которые вырабатывают адаптивные решения в зависимости от того, как прочитывают (просчитывают) действия и атрибутику друг друга, создавая частную социальность здесь и сейчас.
Социальность сетей можно назвать относительной, поскольку основой координации объектов является не интеграция их всех, а осуществляемая в ходе коммуникации селекция тех из них, которые идентифицируются как «свои» на фоне «остальных». Наличие этого фона исключаемых, обусловленность доступа в сеть идентичностью, коммуникативность как гарантия социальности являются характерными чертами любых сетевых структур. Потоки, как и сети, представляют собой тип координации объектов на основе селекции. Но отбор объектов в поток происходит не в силу их фиксированной идентичности, а в силу их подвижности – пространственной, культурной, физической, интеллектуальной и т. п. Координация объектов в потоке обеспечивается постоянным движением через пространственные, институциональные и групповые границы – генерированием трендов, ивентов, проектов и т. д. Социальность в потоках обеспечивается не повторяемостью паттернов или устойчивостью связей, а совместной мобильностью. Движения и изменения создают альтернативную социальность.
От второй интегративной волны социология унаследовала теории, связавшие первый и второй типы социальности – институты и интеракции. Интегративные парадигмы, созданные с конца 1970-х гг. Ю. Хабермасом, Э. Гидденсом, М. Арчер, П. Бурдье [Habermas, 1981; Giddens, 1984; Archer, 1988; Bourdieu, 1987], были нацелены на установление взаимообусловленности и связности структур и действий, то есть на объединение тотальной социальности институциональных, нормативных порядков и частной, ситуативной социальности порядков интеракций. Совмещение структурного и агентностного взглядов на социальную реальность сформировало оптику, в которой институты и интеракции видятся одинаково: как поля структураций – объективно существующие комплексы интерсубъективно конструируемых отношений. При всех терминологических различиях между концепциями коммуникативного действия, структурации, морфогенезиса, габитуса, все они предлагают модели того, как взаимно (вос)производятся локализованные в пространстве-времени условия (ресурсы и нормы, капиталы и символическое насилие и т. п.) и разнообразные по степени рефлексивности процессы освоения и (пере)оформления имеющихся условий (действия, практики и т. п.). Поэтому связка из термина Бурдье «поле» и термина Гидденса «структурация» уместна, поскольку адекватно представляет исследованный в интегративных теориях второй волны общий предмет: поля структураций.
Объединение структурного и агентностного подходов, макро- и микроуровней социальности по формуле «институты + интеракции = поля структураций» представляется частичным. Проблематика теоретической интеграции выглядит иной в контексте поисков, начиная с 1990-х гг., новых объектностей и разработки метафор и концептуальных схем. Противопоставляя старым формам социальности – институтам и интеракциям, новые формы – сети и потоки, Кастельс, Латур, Урри, Аппадураи, Кнорр-Цетина и их последователи релятивизировали результаты, достигнутые в теориях Хабермаса, Гидденса, Арчер, Бурдье.
В 2020-х гг.стало понятно, что представления об иных фундаментальных типах социальности – сетевых и потоковых структурах – не отменяют прежнюю социологию. Кастельс, Латур, Урри, Аппадураи, Кнорр-Цетина не конституировали «постсоциальную науку», но раздвинули границы предметного пространства социологии и дополнили ее теоретическую проблематику новыми вопросами соотнесения привычных и новых форм социальности. Поскольку вновь открытыми структурами не устраняются и не заменяются полностью прежде освоенные актуальной становится новая теоретическая повестка: продолжить интегративное теоретизирование и дополнить поля структураций другими формами связности еще по пяти линиям сопряжения и взаимообусловленности разных типов социальностей (рис. 1).
Рис. 1. Аналитическое пространство социальных структур в актуальной социологии
Наряду с интегративной формулой «институты + интеракции = поля структураций», релевантной для сопряжения привычных структур (закрашенные зоны на рис. 1), нужны аналитические решения, которые связывают старые и новые формы социальности.
Взаимообусловленность интеракций и сетевых структур проявляется в коммуникациях. Развитие и влияние сетей побуждает индивидов превращать обмен действиями в режиме «лицом к лицу» в дистанционный обмен сообщениями, но в то же время сети воспроизводятся и расширяются за счет креативности коммуникативных действий, нацеленных на поддержание межиндивидуальных и внутригрупповых отношений. Участие в коммуникациях от лица множества виртуальных персонажей, эксперименты с множественными и изменчивыми идентичностями, создание ботов (алгоритмов симуляции общения с реальным человеком) становятся распространенными практиками в социальных сетях. Формула «интеракции + сети = коммуникации» не только раскрывает логику взаимодополнительности на стыке двух типов социальности, но и объясняет популярное у социологов, исследующих современный феномен коммуникаций, совмещение микросоциологических, конструкционистских подходов и формально-структуралистского сетевого анализа.
Анализ структурных эффектов на стыке институтов и сетей показывает, что в конце прошлого века развитие сетевых структур с их селективной социальностью релятивизировало тотальную социальность институтов, снизило роль их нормативности, сформировало свободное от институтов виртуальное пространство и вызвало виртуализацию самих институтов [Castells, 1996; Иванов, 2000]. В начале нынешнего столетия виртуализация институтов пошла в направлении создания цифровых платформ, которые путем алгоритмизации нормируют сетевые структуры, коммерциализируют и бюрократизируют сетевые связи. Коммуникации в социальных сетях и мессенджерах, на маркетплейсах и агрегаторах, в мобильных приложениях и на порталах фирм и учреждений все в большей степени подчинены обезличенным нормам, обуславливаются предоставлением персональных данных и жестко регулируются. Виртуализация институтов оборачивается платформизацией сетей. Перевод большей части интернет-коммуникаций на подконтрольные крупным корпорациям и государству платформы – это тенденция конвергентного развития социальных структур по формуле «институты + сети = платформы».
На линии сопряжения между институтами и потоковыми структурами определенность и упорядоченность социальных процессов все чаще обеспечивают проекты, в которых свойственное институтам повторение привычных образцов (паттернов) заменяется характерным для потоковых структур непрерывным обновлением целей, перемещением ресурсов, сменой зон активности. Проектная логика жизни характерна теперь не только для бизнесменов, но для большинства людей, вовлеченных в диктуемую культурой потребления – консюмеризмом гонку за показателями успешности. Проекты, как ограниченные по времени целевые программы деятельности, быстро сменяют один другой и задают режим краткосрочных фаз активности и вовлеченности, в котором индивиды и группы стремятся к результатам в карьере, образовании, отдыхе, развлечениях и даже в семейной жизни. На общественно-политических аренах проектная логика, ранее отличавшая социальные движения от рутинного функционирования правительств, министерств, бюрократических структур всех уровней, теперь все больше проникает в государственную власть и в публичное управление. Их перевод в формат проектов, варьирующихся по масштабам от национальных программ развития до муниципального благоустройства, наглядно реализовал формулу взаимообусловленности структур: «институты + потоки = проекты». В проектах институты динамизируются потоками, потоки нормализуются институтами.
Сопряжение структур на линии интеракции–потоки проявляется в буме ивентов. Вместо регулярных и рутинных контактов между индивидами в постоянных по составу и месту функционирования группах соприсутствие и сопричастность обеспечиваются сериями разовых, но зато креативных и интенсивных событий. Насыщенные разнообразными активностями ивенты объединяют людей и обеспечивают сильную идентичность в условиях постоянных трансформаций технологий и паттернов интеракций. Двигаясь в потоках ивентов, люди компенсируют дефицит социальности, возникший в результате виртуализации привычных интеракций и групп, функционировавших в режиме «лицом к лицу». Таким образом, организуемые для работников компаний мероприятия по поддержанию корпоративного духа, тематические встречи друзей, фестивали, конкурсы, выставки, концерты, коллективные перформансы, флэш-мобы и даже брутальные акции протеста и устрашения превращаются в особую разновидность структур, реализующих формулу «интеракции + потоки = ивенты».
Взаимообусловленность структур по линии сети – потоки изначально концептуализирована в теориях Кастельса, Латура, Аппадураи, Урри. Нужно лишь обобщить их представления о том, что сети и потоки являются двумя аспектами одной реальности. Сети задают топологию процессов, обеспечивают направления для потоков, а потоки придают сетям процессность, обеспечивают соединение узлов. Соединяемые в целостности сети и потоки предстают как интеробъективно существующие гибридные комплексы трансобъективно формирующихся текучих сборок. Упрощенно это сопряжение сетевых и потоковых структур можно передать формулой: «сети + потоки = скейпы ассембляжей».
Неологизм скейп (scape), введенный А. Аппадураи [Appadurai, 1990] для обозначения пространств-потоков и подхваченный Дж. Урри, М. Уотерсом [Urry, 2000; Waters, 1995] и другими исследователями, отсылает сразу к двум значениям – пространственной определенности ландшафта, местности (по-английски landscape) и текучести, ускользания через границы мест (по-английски escape). Популяризированный Б. Латуром и его последователями термин «сборка» (по-французски assemblage) создает коннотации и с техническими операциями соединения деталей, и с социальными процессами организации собраний и формирования объединений.
Скейпы ассембляжей, поля структураций, коммуникации, платформы, проекты, ивенты в совокупности образуют актуальный предмет для теоретической социологии и перспективный полигон для эмпирических исследований. Взаимопроникновение структур, которые раньше противопоставлялись или по крайней мере разграничивались, позволяет сегодня называть социальную реальность дополненной. Метафора дополненной реальности (augmented reality), взятая из IT-технологий, где цифровые объекты встраиваются в одно пространство с физическими, хорошо схватывает те гибридные реальности, которые возникают на стыках институтов, интеракций, сетей и потоков.
Дополненная социальная реальность не замена прежним концепциям, но интегральный итог развития теоретических представлений о социальной реальности со времен Дюркгейма до наших дней. Единая и объективная реальность, представленная Э. Дюркгеймом [1990], уже к середине прошлого века стала выглядеть недостаточной. Предложенная А. Шюцем иерархия множественных реальностей с выделенным особым статусом повседневной реальности [Шюц, 2004] выглядела хорошим решением вплоть до конца XX столетия. Затем пришло время для концепций дезагрегирования: исчезновение объективной реальности и рост медийной гиперреальности по Ж. Бодрийяру [Baudrillard, 1981] и плюралистичность реальностей в версиях Ш. Айзенштадта и Р. Коннелл [Eisenstadt, 2000; Connell, 2007]. С развитием в начале XXI века идей Б. Латура, Дж. Урри, К. Кнорр-Цетины о гибридности и темпоральности реальностей [Latour, 2005; Urry, 2000; Knorr Cetina, 2009] оформились предпосылки для интегральной концепции дополненной реальности. В ней взаимно проникают и взаимно обусловливают одна другую объективная реальность институтов, интерсубъективная реальность интеракций, интеробъективная реальность сетей, трансобъективная реальность потоков.
Дополненная современность и проблематика социального развития. Наряду с достижением связности представлений о формах социальности (типах и уровнях социальной реальности), концепция развития структур на стыках институтов, интеракций, сетей и потоков открывает перспективу теоретической интеграции в исследованиях социальной динамики. Достижение связности разноплановых моделей социальных изменений и развития возможно в концепции дополненной современности (augmented Modernity). После бума конкурирующих моделей глобальной современности, конца современности и множественных современностей актуальной становится идея общественного развития, преодолевающая конститутивные для социологии конца прошлого столетия разделения на локальное и глобальное, ядро и периферию, систему и жизненный мир, публичное и приватное, материальное и символическое, аналоговое и цифровое, реальное и виртуальное, модернистское и постмодернистское и т. д.
В концепции дополненной современности привычные со времен модернизации структуры – институты и интеракции, не исчезают, а совмещаются с вновь возникающими сетями и потоками. Cоциальность теперь представлена в конфигурации разных структур, выступающих в качестве взаимодополнительных и взаимопроникающих форм координации и организации совместной жизни людей. Социальная жизнь во взаимопроникающих реальностях – это насыщенное киберфизическим опытом, интенсивное, креативное и мобильное участие в создании, поддержании и развитии полей структураций, скейпов ассембляжей, платформ, коммуникаций, проектов, ивентов. Развитие дополненной социальной реальности – позитивная перспектива, которую можно видеть сегодня в крупнейших очагах постиндустриальной экономики – двух – трех сотнях глобальных мегаполисов, отличающихся высокими уровнем жизни и качеством жизни, а также наполненностью жизни. Здесь высокие показатели уровня доходов/потребления, доступности социальных сервисов и комфортности среды свидетельствуют о развитости привычных институтов и интеракций индустриальной эпохи, а высокие показатели насыщенности жизни людей активностью в новых коммуникационных сетях, освоением новых общественных пространств, художественным или техническим творчеством – о развитости сетевых и потоковых структур постиндустриального типа и о возникновении гибридных структур на стыках разных типов социальности.
Однако позитивная перспектива дополненной современности соседствует с негативными эффектами концентрации новых форм социальности в мегаполисах. Насыщенная, интенсивная и турбулентная социальность в крупных городах и мегагородах все больше контрастирует с социальной жизнью в малых городах и в сельской местности, которые теряют ресурсы, в первую очередь человеческие, которые «вымываются» потоками, идущими в направлении суперурбанизированных анклавов дополненной современности. За пределами мегаполисов упадок характерных для развитого индустриального общества институтов так называемого социального государства (welfare state), демонтированных в ходе неолиберальных реформ, и уменьшение числа и разнообразия интеракций, вызванное оттоком наиболее социально активного населения, приводит к «истощению» социальности. Вместо ожидавшегося всеобщего распространения и умножения форм социальности, порожденных модернизацией, и возникновения глобальной современности [Giddens, 1990; Robertson, 1992] сейчас можно наблюдать скорее нарастающий разрыв между дополненной современностью в суперурбанизированных анклавах и переходом социальной жизни в режим истощенной современности (exhausted Modernity) за их пределами.
Контраст между дополненной и истощенной современностями требует переосмыслить доминировавшие до сих пор концепции социальных изменений и социального развития.
Во-первых, больше не актуальны теории глобализации, превращающиеся в идеологизированные утопии на фоне наблюдаемых тенденций постглобализации. Происходит локализация глобальности, то есть избавленной от барьеров, мобильной и мультикультурной жизни, в сети мегаполисов. Нарастают разрывы в уровне, качестве, стиле жизни между суперурбанизированными анклавами глобальности и остальными территориями и сообществами. Вызовом неолиберальному глобализму становится национал-популизм, ведущий к возведению разнообразных барьеров (протекционистские и политические санкции, карантины, антимиграционные стены, военные конфронтации и т. д.) для «нежелательных» транснациональных сетей и потоков.
Во-вторых, теряют актуальность теории виртуализации и цифровизации. Виртуализация, будучи замещением реальных вещей и действий образами и коммуникациями, «взламывала» реальность привычных институтов и порядков интеракций в конце прошлого века. Сейчас перепроизводство образов и коммуникаций приводит к их обесцениванию. Цифровизация сейчас не инновация, а социальная рутина и апроприация сетевых и потоковых структур корпоративными и государственными платформами. Рутинность цифровых технологий и тотальность контроля провоцируют поворот к «новой материальности»: ценностью становится физическое присутствие, непосредственный опыт, тактильность, «аналоговое» в противовес «цифровому». Активисты и бизнесмены создают в новых общественных пространствах проекты и ивенты, функция которых – быть точками доступа к реальности.
Новые тренды в потреблении, организации труда и досуга, коммуникациях и стиле жизни представляют собой поствиртуализацию, поскольку «поворот к реальности» не отменяет превратившуюся в рутину виртуальность, а ведет к социальной жизни в режиме дополненной реальности, в которой происходит взаимопроникновение разных социальных реальностей и интегрируются физические и цифровые, материальные и символические, производственные и потребительские, частные и публичные, модернистские и постмодернистские компоненты человеческого существования. После виртуализации социальной реальности эта реальность не исчезает, как предполагали теоретики постсовременности [Lyotard, 1979; Baudrillard, 1978], но становится более сложной и интенсивной там, где на смену отделению виртуальной реальности сетей и потоков от привычной реальности институтов и интеракций пришли тенденции их взаимопроникновения.
В контексте описанных тенденций социальных изменений, ведущих к возникновению точечной или очаговой дополненной современности, проблематичными выглядят модели развития, на которые традиционно ориентируются исследователи, оценивающие состояние и перспективы различных обществ, и политики, вырабатывающие цели и стратегии для улучшения достигнутого состояния. Сейчас в социальных науках сосуществуют две парадигмальные модели социального развития: классическая модель уровня жизни, сложившаяся в середине прошлого века, и потеснившая ее в последние десятилетия неоклассическая модель качества жизни.
В классической модели социальное развитие сводится к росту уровня жизни, достигаемого через максимизацию производства и потребления и измеряемого в таких индексах, как ВВП на душу населения. С социологической точки зрения за ростом ВВП стоит развитие социальных институтов – промышленных предприятий, потребительских рынков и организованной торговли, государственного регулирования и (пере)распределения материальных благ. Институциональные структуры создают тотальную социальность, устанавливая общие стандарты, нормативность и усредненность производственных и потребительских практик.
Распространение институциональных норм на большинство или даже на всех людей, следующих установленным нормативным и ролевым ожиданиям, делает социальную жизнь людей измеримой в унифицированных терминах эффективности институтов. Эту эффективность как раз и оценивает ВВП на душу населения, ставший универсальным показателем уровня жизни. Таким образом, в классической модели социальное развитие – это, по сути, рост институтов как доминирующих структур массового индустриального общества.
Более современной моделью развития, соответствующей переходу к постиндустриальному обществу, является рост качества жизни. В течение 1980-х гг. в социальных науках утвердилось понимание того, что развитие экономической системы не совпадает с собственно социальным развитием. Это понимание лежит в основе получившего широкое признание «индекса человеческого развития» ООН, который публикуется с 1990 г. и включает три компонента оценки качества жизни: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, продолжительность образования.
В индексе человеческого развития преодолена одномерность уровня жизни. Соединение показателей объема потребления и доступности социальных сервисов (здравоохранения, образования), делает модель развития более комплексной. Однако в ней недостает третьего компонента/измерения качества жизни – комфортности среды (природной и социальной), которая достигается не только эффективным функционированием институтов, но также через (взаимо)действия индивидов, сообществ, социальных движений. Поэтому международное экспертное сообщество продолжает конструировать альтернативные показатели социального развития, которые бы больше соответствовали современным представлениям о благополучном и гармоничном существовании людей. Например, «индекс лучшей жизни» (Better Life Index), созданный под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) в 2011 г., ориентирован на учет, помимо уровней дохода, образования, здоровья, таких дополнительных измерений социального развития, как уровень субъективно оцениваемой удовлетворенности жизнью, объем свободного от работы времени, экологическое благополучие, гендерное равенство, гражданская активность, уровень доверия между людьми и к общественным институтам.
В современных моделях социального развития, в которых качество жизни объединяет параметры трех типов – объема производства/потребления, доступности общественных благ/социальных сервисов, комфортности среды, отражается структурный сдвиг второй половины XX в. В экономически развитых странах произошел сдвиг от доминирования институтов массового индустриального общества к индивидуализации и к активизации социальных движений. В социологии этот сдвиг привел к критическому переосмыслению направленности и результатов развития и к возникновению концепций новой, рефлексивной модернизации [Beck et al., 1994].
Социальное развитие теперь предстает как рост социальных структур двух типов – тотальной, унифицирующей социальности, создаваемой институтами, и частной, ситуативной социальности, конструируемой индивидами и группами в интеракциях. В конструктивистской, интеракционистской перспективе уровень развитости общества определяется качеством социальной жизни, создаваемой и оцениваемой индивидами и группами. Возросшее во второй половине XX в. влияние этой перспективы в социальных науках привело к тому, что в современные индексы развития вводятся в дополнение к традиционным показателям те, что измеряют субъективно оцениваемое благополучие, степень вовлеченности в социальную активность, степень позитивности отношения людей к социальному окружению.
Современная модель социального развития как роста качества жизни уже превратилась в новую классику, получив признание как наилучший аналитический и политический инструмент в условиях перехода от индустриального массового общества к постиндустриальному, ставшего актуальным полвека назад. Однако исследования в 1990-х и 2000-х гг. показали, что интенсивно растут новые структуры, возникающие как альтернатива и институтам, и интеракциям. Это сетевые и потоковые структуры, создающие избирательную и динамичную социальность [Appadurai, 1990; Castells, 1996; Urry, 2000; Knorr Cetina, 2009]. В контексте этих тенденций актуальной становится разработка новой модели социального развития.
Актуальной моделью социального развития, учитывающей то, что сейчас социальное развитие во все большей мере определяется ростом сетевых и потоковых структур, является модель роста наполненности жизни [Иванов, 2021]. Наполненность жизни достигается соединением высокого уровня и качества жизни с включенностью в сети и потоки нового постиндустриального общества, c пространственной и социокультурной мобильностью и креативностью. В такой модели развития к показателям уровня доходов/потребления, доступности социальных сервисов и комфортности среды добавляются показатели насыщенности жизни людей активностью в новых коммуникационных сетях, освоением новых общественных пространств, художественным или техническим творчеством.
Инновационная модель, интегрирующая концепции и средства измерения уровня, качества и наполненности жизни, может быть базовым инструментом в исследовании социального развития в XXI в. Она учитывает рост всех четырех типов структур – институтов, интеракций, сетей и потоков. Однако перспективной предстает разработка модели, в которой в фокусе будет рост гибридных структур на стыках четырех типов социальности. Концептуализация и операционализация конфигураций и связности социальных структур должны привести к созданию социоструктурной модели целостного перехода общества в режим дополненной современности. Привычные уже индексы для роста институтов и интеракций и инновационные индексы для роста сетей и потоков теперь должны дополниться индексами для роста полей структураций, скейпов ассембляжей, платформ, коммуникаций, проектов и ивентов. Соединив показатели роста всех типов структур, можно будет с помощью интегрального индекса оценивать направленность и динамику развития по оси «точка доступа к дополненной современности – очаг развития дополненной современности – национальная/региональная консолидация дополненной современности».
Перспектива перехода общества в режим дополненной современности не является абсолютно позитивной, беспроблемной и бесконфликтной. Скорее она коренится в противоречиях социальных изменений. Наблюдаемый в практиках продвинутых обитателей анклавов дополненной современности поворот от паттернов глобализации к глокализации [Robertson, 1995] и от паттернов виртуализации к созданию точек доступа к реальности [Иванов, 2020] показывает, что нарастает отчуждение от структур, формируемых корпоративным менеджментом и государственной бюрократией по моделям общественного развития в русле глобалистского, мир-системного и цифровизационного подходов.
Новые формы отчуждения и новые неравенства и конфликты, рассматриваемые в целом как проявления фундаментальной диалектики дополненной и истощенной современности, делают вновь актуальной критическую теорию общества. Актуальна не односторонняя критика в нео- или постмарксистском духе, а интегральная критическая теория, рассматривающая диалектику современности как источник сопротивления отчуждению и борьбы за социальную справедливость, а противостояние контролю и господству как источник и перспективу развития новых социальных структур.
Интегральной идеей для разных форм сопротивления, борьбы, активизма сейчас является неотчужденность как аутентичность [Boltanski, Chiapello, 1999]. Аутентичность – это то, что пытаются отстаивать и критически осмысливающие мировые проблемы интеллектуалы, и решающие свои повседневные проблемы обыватели, и правоконсервативные популисты, и леволиберальные активисты. Для одних аутентичность – это в первую очередь свободная идентичность, самобытность, противопоставляемые угнетению, колонизации. Для других – подлинность, натуральность, спонтанность, противопоставляемые фейкам, искусственности, алгоритмизации. Для третьих – историчность и инновационность, противопоставляемые фальсификациям и имитациям. Стремление к аутентичности – общий ответ на противоречия дополненной и истощенной современности и фундаментальный драйвер социального развития на ближайшие годы и десятилетия. Борьба за определение аутентичности и за ее воплощение в жизнь задает общественно-политическую метаповестку, от которой не должна сегодня отстать социология.
Дополненные данные и гибридные методы эмпирических исследований. Третьим направлением интеграции в социологии – после связности форм социальности и связности моделей социального развития – является движение к связности концептуальной и инструментальной составляющих социологии. Методы сбора и анализа эмпирических данных в своем развитии прошли за полтора столетия путь от простых анкет к изощренным шкалам, а затем к качественным методам, смешанным методам (mix method) и к стратегии множественных методов (multimethod), включающей дополнительно к текстовым и числовым еще и визуальные методы. В последние два десятилетия этот инструментарий дополняется технологиями «больших данных» (big data) и попытками роботизации сбора и анализа социологической информации.
Конфигурация методов эмпирических исследований в социологии воспроизводит конфигурацию типов социальности. Каждому типу социальности соответствует наиболее релевантный метод сбора и анализа данных. Количественные методы, в первую очередь массовые опросы, эффективны при изучении установок на стандартизированное поведение, выражающих объективную нормативность, обеспечиваемую институтами. Качественные методы, особенно глубинное интервью и включенное наблюдение, релевантны при исследовании интерсубъективных смыслов и значений, возникающих в интеракциях. Технологии больших данных и методы построения и визуализации графов активно применяются в анализе сетевых структур. В том же направлении использования больших данных и визуализации идет развитие анализа плотности и интенсивности физических и символических потоков.
Методологические инновации активно развиваются на линиях сопряжения между четырьмя типами исследований, соответствующих четырем типам структур – институтам, интеракциям, сетям, потокам (рис. 2). Основной тренд последних лет здесь – применение стратегии смешанных методов, интегрирующей количественные и качественные компоненты так же, как концепции полей структураций интегрируют нормативность институтов и креативность интеракций. Ожидавшийся в связи с появлением технологий больших данных переворот во всех социальных исследованиях пока не произошел, но для выявления и репрезентации скейпов ассембляжей большие данные используются вполне успешно.
Рис. 2. Конфигурация методов исследований в современной социологии
Набирают популярность среди исследователей и приобретают статус инновационных и перспективных участвующее наблюдение, визуальные методы, социологические прогулки (sociological walk), критический дискурс-анализ, партисипаторные методы. Эти и другие подобные методологические разработки и методические решения находят применение там, где полигонами для них становятся платформы, коммуникации, ивенты, проекты. Таким образом, формирование дополненных социальных реальностей в результате взаимопроникновения разных структур стимулирует развитие гибридных методов в качестве инновационных инструментов исследовательской работы. Интеграция применения гибридных методов открывает перспективу получения эмпирического комплекса, который можно квалифицировать как обогащенные или дополненные данные (augmented data) и который будет релевантен как отображение и одновременно исполнение дополненной социальной реальности.
Интегративная волна в эмпирических исследованиях должна закрепить принципы микширования методов и омниканальности в коммуникациях между исследователями и их объектами. Письменная и устная, речевая и визуальная, аналоговая и цифровая, дистанционная и осуществляемая в режиме «лицом к лицу» формы коммуникации должны дополнять одна другую в одних и тех же исследованиях, соответствуя логике изучаемой дополненной социальной реальности.
Заключение: интегративная повестка для мировой и отечественной социологии. Анализ динамики развития социологии и возникших в ней предметных и методологических конфигураций приводит к идее, что третья интегративная волна должна к середине нашего века решить на новом уровне те же проблемы устранения разрывов и создания связности в концептуальном и инструментальном многообразии современной социологии, которые решались в ходе первой (в 1920–1950-е гг.) и второй (в 1980–1990-е гг.) волн. Скорость прихода и сила третьей волны зависят от степени осознания в социологическом сообществе актуальности интегративной повестки и от приложенных усилий теоретиками и исследователями-практиками. И в отличие от предшествующей интегративной волны, не стоит сейчас чрезмерно уповать на западных социологов. Травмированным критикой европоцентризма и постколониальным дискурсом западным социологам миссия новой концептуальной и инструментальной интеграции может оказаться не по силам. Интегралистские идеи и не для аморфного, вялого, склонного к инерционным сценариям мирового социологического сообщества, каким предстала на недавних конгрессах в Торонто (2018) и Мельбурне (2023) Международная социологическая ассоциация (ISA). Степень осознания актуальности теоретической интеграции и развития в направлении дополненной современности в истеблишменте и в массе членов ISA пока не высока.
Если развитие социологии и ее выход из нынешнего состояния фрагментированности актуальны, то принимающим эту повестку социологам придется решать эти проблемы своими силами в локальных контекстах и в обход привычных центров академического доминирования. Из этого вовсе не следует, что нужно безоговорочно принять стратегию в русле идей суверенизации социологии, продвигаемых ныне в России [Кравченко, 2023]. Проекты эти мотивированы вполне обоснованными претензиями к уровню научности доминирующего в западной социологии леволиберального дискурса. Однако суверенность не достигается в рамках «рабского сознания» (captive mind в терминологии Р. Коннелл [Connell, 2007]), склонного к низкой самооценке и потому воспринимающего сильные идеи извне как угрозу для своей самобытности. Суверенность в науке базируется на продвинутости и лидерстве в сети международных обменов идеями и результатами исследований. Ориентироваться следует на лучшие отечественные образцы вклада в развитие мировой социологии. М. Ковалевский, Н. Тимашев и особенно П. Сорокин успешно интегрировали зарубежные и русские идеи, снискали международное признание своими работами и никогда не идентифицировали себя как представителей научной периферии и жертв несправедливого глобального порядка интеллектуального производства.
Следовать логике постколониального дискурса отечественным исследователям нет никакой необходимости. В современной российской социологии накоплен потенциал для позитивного решения проблемы теоретической интеграции, исходя из мультипарадигмальности западной социологии и одновременно из методологического мультикультурализма, принимающего во внимание цивилизационную и региональную специфику социального знания [Тощенко, 2007; Кирдина, 2008]. Нужно лишь раздвинуть рамки интегративного теоретизирования, чтобы наряду с классическими парадигмами, региональными вариациями институциональных структур и решениями дилеммы «структура или действие» включить в предмет анализа другие структуры и процессы, задающие социологическую повестку в XXI в.
About the authors
Dmitry V. Ivanov
St. Petersburg State University
Author for correspondence.
Email: dvi2001@rambler.ru
Dr. Sci. (Sociol.), Prof.
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Adorno T., Horkheimer M. (1947) Dialektik der Aufklärung. Amsterdam: Querido Verlag.
- Akiwowo A. (1999) Indigenous Sociologies: Extending the Scope of the Argument. International Sociology. No. 2: 115–138.
- Alexander J. (1982) Theoretical Logic in Sociology. London: Routledge.
- Appadurai A. (1990) Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modernity. London: Sage.
- Archer M. (1988) Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
- Baudrillard J. (1978) À l’ombre des majorités silencieuses ou la fin du social. Paris: Les Cahiers d’Utopie.
- Baudrillard J. (1981) Simulacres et simulation. Paris: Galilée.
- Beck U., Giddens A., Lash S. (1994) Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge: Polity Press.
- Boltanski L., Chiapello E. (1999) Le nouvel esprit du capitalizm. Paris: Gallimard.
- Bourdieu P. (1987) Choses dites. Paris: Minuit.
- Castells M. (1996) The Rise of the Network Society. Oxford, UK: Blackwell.
- Connell R. (2007) Southern Theory. The Global Dynamics of Knowledge in Social Science. Cambridge: Polity Press.
- Durkheim E. (1990) On Division of Labor. Method of Sociology. Мoscow: Nauka. (In Russ.)
- Eisenstadt S. (2000) Multiple Modernities. Daedalus. Vol. 129. No. 1: 1–29.
- Giddens A. (1984) The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Cambridge.
- Giddens A. (1990) The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.
- Go J. (2020) Race, Empire, and Epistemic Exclusion: Or the Structures of Sociological Thought. Sociological Theory. Vol. 38. Iss. 2: 79–100.
- Habermas J. (1981) Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1, 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Ivanov D. V. (2000) Virtualization of Society. St. Petersburg: Peterburgskoe vostokovedenie. (In Russ.)
- Ivanov D. V. (2020) Augmented Modernity: Effects of Post-globalization and Post-virtualization. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 5: 44–55. (In Russ.)
- Ivanov D. V. (2021) New Approach to Assessment of Social Development. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 1: 50–62. (In Russ.)
- Kirdina S. G. (2008) Contemporary Sociological Theories: Actual Opposition? Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 8: 18–28. (In Russ.)
- Knorr Cetina K. (1997) Sociality with objects: social relations in postsocial knowledge societies. Theory, culture & society. Vol. 14(4): 1–30.
- Knorr Cetina K. (2009) The Synthetic Situation: Interactionism for a Global World. Symbolic Interaction. Vol. 32. Iss. 1: 61–87.
- Kravchenko S. A. (2023) Geopolitical Challenges and Russian Sociology. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 2: 51–62. (In Russ.)
- Latour B. (2005) Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory. Oxford: Oxford University Press.
- Lyotard J.-F. (1979) La condition postmoderne. Paris: Minuit.
- McLennan G. (2003) Sociology, Eurocentrism and Postcolonial Theory. European Journal of Social Theory. No 1: 69–86.
- Parsons T. (1951) The Social System. Glencoe: The Free Press.
- Ritzer G. (1975) Sociology: A Multiple Paradigm Science. The American Sociologist. Vol. 10. No. 3: 156–167.
- Ritzer G. (1990) Metatheorizing in Sociology. Sociological Forum. Vol. 5. No. 1: 3–15.
- Robertson R. (1992) Globalization: Social Theory and Global Culture. London: SAGE Publications.
- Robertson R. (1995) Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. In: Featherstone M., Lash S., Robertson R. (eds) Global Modernities. London: SAGE Publications.
- Schutz A. (2004) Selected Works. Мoscow: ROSSPEN. (In Russ.)
- Sorokin P. (1937) Social and Cultural Dynamics. Vol. 1. New York: American Book Company.
- Sztompka P. (1979) Sociological Dilemmas: Toward a Dialectic Paradigm. New York: Academic Press.
- Toshchenko Zh.T. (2007) Paradigms, Structure and Levels of Sociological Analysis. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 9: 5–16. (In Russ.)
- Urry J. (2000) Sociology beyond Societies. Mobilities for the Twenty-First Century. London: Routledge.
- Waters M. (1995) Globalization. London: Routledge.

Note
Continued. See the beginning in No. 6, 2024.