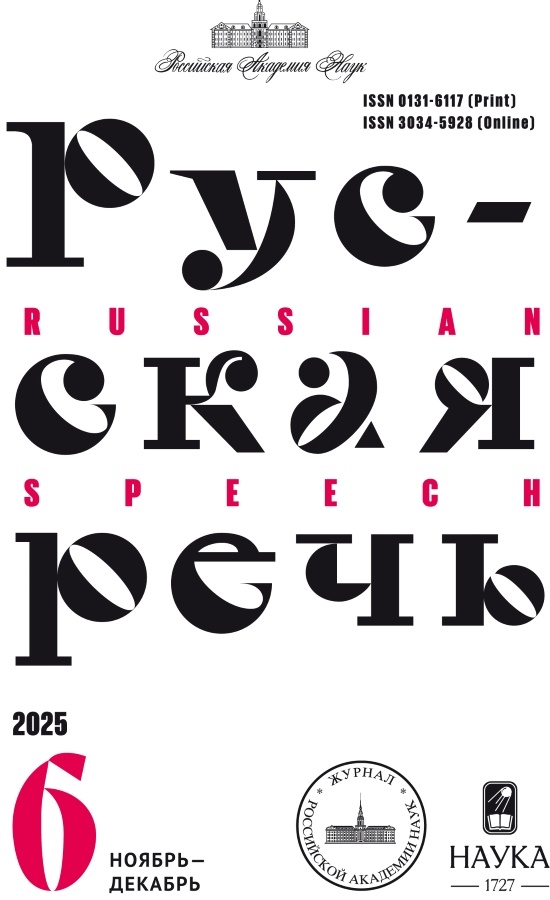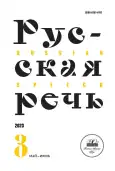Цитирование как прием рефлексии в повести К. Д. Воробьева «Вот пришел великан…»
- Авторы: Марьина О.В.1, Островских И.1
-
Учреждения:
- Алтайский государственный педагогический университет
- Выпуск: № 3 (2023)
- Страницы: 87-101
- Раздел: Статьи
- URL: https://bakhtiniada.ru/0131-6117/article/view/128699
- DOI: https://doi.org/10.31857/S013161170026402-1
- ID: 128699
Полный текст
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст
Изучение цитат, цитирования – процесс, предполагающий знание претекста (первичного текста, чужого текста, чужого слова). Понимание текста-основы (исходного текста, претекста) позволяет филологу интерпретировать произведение, рассматривать взаимодействие источников и решать намеченные исследовательские задачи. Работа по выявлению, определению, изучению функционирования цитат ведется в нескольких направлениях. Одно из них связано с установлением границы между полной цитатой и измененной, редуцированной. В данном случае обсуждаются вопросы, касающиеся их тождества и различия. Если под цитатой понимать часть (в широком смысле) от целого текста, то любое цитатное включение можно считать редуцированным; если наблюдается сокращение цитаты, имеющей обобщенное значение, широко известной, также стоит говорить об ее усечении. Однако полной цитатой она называется потому, что ее лексическая и структурная составляющие не меняются во вторичном тексте по сравнению с текстом первичным.Вызывает научную дискуссию вопрос о трансформированных цитатах, квазицитатах, прецедентных текстах, аллюзиях и реминисценциях. Их либо противопоставляют друг другу, либо не находят между ними принципиальных различий, либо используют по отношению к ним один термин [подробнее об этом см.: Лушникова 1995; Пьеге-Гро 2008; Слышкин 2000; Фатеева 2000, 2007 и др.]. Особое внимание исследователи цитатных включений уделяют установлению их функций в тексте. Исходя из того, к какому литературному направлению/течению относится произведение, где оказывается цитата, что «называется» цитатой (цитата – заголовок произведения или его части; цитата – имена героев и др.), может меняться ее значение. Нельзя не учитывать, что «за всем» в тексте стоит автор, следовательно, и в раскрытии образа автора, личности говорящего цитата играет определенную роль [подробнее об этом см.: Ананьина 2021; Борунов 2016; Земская 1996; Караулов 2010; Москвин 2015; Пучинина 2017; Суперанская 2007; Туова 2015 и др.].В данной статье обращается внимание на разные по семантике и структуре цитаты как прием рефлексии – это полные цитаты (в том числе автоцитаты) и трансформированные цитаты (аллюзии и реминисценции) от одного слова до нескольких предложений / текста. Использование цитат напрямую соотносится с типом повествования и позволяет субъекту, от лица которого сообщается о фактах и событиях, демонстрировать свое место в мире, соотносить себя с другими, объяснять свои поступки и их мотивы, взглянуть на себя со стороны. Кроме того, цитирование указывает на «избыточность» литературного текста, понимаемую как своеобразное осложнение, вносящее в произведение дополнительные смыслы, дающее возможность «знающему» читателю глубже понять героя [Хатямова 2008: 12], что в случае с анализируемой повестью К. Д. Воробьева «Вот пришел великан…» становится актуальным, так как герой-рассказчик – человек творческий, желающий посвятить себя писательству, окончивший Литературный институт, работающий в издательстве.Цель исследования – определить, как полные и трансформированные цитаты, используемые в речи рассказчика, отражают его состояние в зависимости от ситуации; какие цитатные включения оказываются для него «незыблемыми», а какие обусловлены обстановкой речи, учитывающей не только место и время, но и участников коммуникации.Константин Дмитриевич Воробьев (1919–1975) – тонкий русский прозаик, фронтовик, один из ярких представителей «лейтенантской прозы», лауреат премии А. И. Солженицына (2001 г.). Большинство его произведений – о Великой Отечественной войне и плене, через которые автору пришлось пройти. Проза Воробьева по стилистике и языку отличается от большинства произведений «лейтенантской прозы», как и сам автор, который при жизни был несколько маргинален: долго был в плену, потом жил в Латвии, его неохотно печатали. Писатель и критик Д. Л. Быков пишет о Воробьеве: «Я уже рассказывал о том, как сценарист Валерий Залотуха посвятил меня в Тайное общество любителей Константина Воробьева: люди, читавшие его, опознавали друг друга мгновенно» [Быков URL]. Собрания сочинений Воробьева вышли только в постперестроечное время. В последние десятилетия заметен интерес к творчеству писателя: в печать выходят статьи и диссертационные исследования, посвященные главным образом его военным текстам [Тарасенко 2007; Джувейр 2013; Цепляева 2018 и др.].Повесть о любви «Вот пришел великан…», в отличие от достаточно изученной военной прозы, редко становилась объектом исследования литературоведов, критика же приняла ее неоднозначно, хотя тот же Быков причислил повесть к «нежнейшим и мощнейшим текстам».Повесть вышла в 1971 г. в журнале «Наш современник». Сюжет ее вполне традиционен для мировой литературы: герой-рассказчик (начинающий писатель Антон Кержун) полюбил замужнюю женщину (редактора областного издательства Ирену Лозинскую), героиня не смогла уйти от мужа, герой уехал из города. При всей банальности сюжета повесть необычна: герои – «взрослые сироты», дети большого террора, потерявшие родителей, скитавшиеся по детдомам и спецприемникам. Ирена, дочь репрессированного комбрига, вынуждена была выйти замуж в шестнадцать лет за пожилого «тюремщика» Волобуя.Любовь тридцатилетних героев похожа на первую любовь подростков, и ведут они себя зачастую как подростки: глуповато и трогательно-нелогично. Кержун и Лозинская говорят на одном языке, прекрасно понимая друг друга: они не просто работают в издательстве, а «живут» в литературе, бесконечно цитируют классиков. Круг цитируемых авторов весьма широк: от Л. Толстого и А. Чехова до Ж.-Ж. Руссо и Я. Ивашкевича. Такое разнообразие продиктовано литературными пристрастиями героя-рассказчика и, вероятно, самого автора.Название повести К. Д. Воробьева – это реминисценция на рассказ Л. Андреева «Великан». Монотонная, повторяемая около десяти раз фраза «Вот пришел великан, большой, большой великан. Такой большой, большой. Вот пришел он, пришел Вот пришел он... и упал! Понимаешь, взял и упал!» [Андреев 1971: 156] в тексте Л. Андреева – это монотонно повторяемая фраза, напоминающая заговор или заклинание (так причитала мать над умирающим ребенком) – лейтмотив предсмертного, жизни «на волоске», непреходящей тревоги. Ребенок из рассказа «Великан» находится в пограничном состоянии. В непростой, неразрешимой ситуации оказываются и герои повести К. Воробьева. Лозинская пребывает в смятении (никак не может сделать выбор, боится), а Кержун повторяет эту «мантру», чтобы «заговорить судьбу», уберечь от беды себя и любимую. Кроме того, эпиграфом к повести К. Воробьева является еще одна цитата из «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо: «Я хорошо понимаю, что читателю не очень нужно все это знать, но мне-то очень нужно рассказать ему об этом» [Воробьев 1987: 274], – которая заключает в себе цель автора повести вообще и рассказчика в частности, для последнего это способ высказаться предельно искренне, исповедаться перед читателем.Предназначение Антона Павловича Кержуна – рассказчика текста повести Воробьева, по его собственному мнению, – писать. Само имя героя предопределяет его занятие. Как А. П. Чехов, Кержун собирает материал, работает, путешествуя. Первый отправляется на Сахалин, возвращается с острова водным путем и приобретает необходимые для творческого человека знания. Неслучайно сам Чехов говорит: «…ведь кажется – все просахалинено» [Бердников, Громова-Опульская (отв. ред.) 2000: 111]. Второй ходит по Атлантике «матросом на рыболовном судне» [Воробьев 1987: 275]. Повесть А. П. Кержуна «Куда летят альбатросы», безусловно, навеяна впечатлениями, которые получены во время такой подготовительной работы. Кержун, по его собственному утверждению, видел разные страны, завел интересные знакомства. Все это было необходимо для реализации долгосрочного плана рассказчика – поделиться в книге накопленным опытом: «нужно было заработать деньги, чтобы сесть и написать книгу» [Воробьев 1987: 25]. Как в первичном, так и во вторичном тексте показана ограниченность любви, то, как люди сами не дают себе быть счастливыми. Кержун («Вот пришел великан…») и Алёхин («О любви») находятся в недоумении, почему женщины, которых они любят, – вовсе не их женщины, а жены других мужчин. Мысли Кержуна касаются и жизни в целом, и той ситуации, в которой главными участниками оказываются они с Лозинской. Ирена Михайловна не может уйти от своего мужа, пожилого «пузатого коротышки» Волобуя, из-за дочери. По мнению рассказчика, жить с нелюбимыми, почти с ненавистными – это ненормально, противоестественно. Мысли Кержуна касаются и жизни в целом, и той ситуации, в которой главными участниками оказываются они с Лозинской. Практически о том же самом размышляет герой Чехова: он никак не может понять, почему молодая женщина, полная достоинств, становится женой «почти старика», остается с ним, не любя, не может разорвать гнетущие ее связи: «и я всё старался понять, почему она встретилась именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка» [Чехов 1986: 403]. Помимо этого, неразрешимым и для Кержуна, и для Алёхина остается вопрос: почему они раньше не встретили своих любимых женщин.В анализируемом тексте встречается автоцитация – «Куда бегут гонимые» (аллюзия на название первой повести героя-рассказчика «Куда летят альбатросы»). На исходное заглавие указывает структура предложения: вопросительное слово – сказуемое – подлежащее. Причем в названии и написанного, и только запланированного / возможного произведения нет знака вопроса, хотя его постановка обусловливается местоименным наречием «куда» в самом начале предложения. Ироничное предположение относительно названия новой повести («Куда бегут гонимые») высказала Ирена. Несмотря на то, что Лозинская шутит, она и Кержун понимают, что такое заглавие «как нельзя лучше» отражает положение, в котором они оказались: им приходится скрываться от чужих глаз, зависеть от чужого мнения, ехать и идти туда, где их не знают, жить «не своей» жизнью, быть неприкаянными. Сам же рассказчик использует другую цитату и одновременно автоцитату: новая повесть получит название «Вот пришел великан». Вновь возникает аллюзия на чеховский текст: центральный персонаж повести «Рассказ неизвестного человека», жалея обманутую героиню, думает: «Когда она сидела таким образом, стиснув руки, окаменелая, скорбная, мне представлялось, что оба мы участвуем в каком-то романе, в старинном вкусе, под названием «Злосчастная», «Покинутая» или что-нибудь вроде. Оба мы: она – злосчастная, брошенная, а я – верный, преданный друг, мечтатель» [Чехов 1977: 236].Герой Воробьева живет в литературе и литературой, что подчеркивается художественным пространством повести: Кержун работает редактором в отделе художественной литературы в местном издательстве. Отсюда – широта литературного контекста. Даже то, что, казалось бы, не относится напрямую к писательству (но не позволяет герою забывать о нем), представляет собой цитатные включения. Например, машина Антона носит имя «Росинант» – так звали коня Дон Кихота Мигеля де Сервантеса, и отношение к нему («Росинанту») рассказчика, как к живому существу: он оставляет его «при себе», чтобы было «веселей», даже находясь в больнице, думает о «друге». А верный и преданный «конь» всегда оказывается рядом, помогает хозяину встречаться с возлюбленной, позволяет им прятаться от чужих глаз, ему единственному разрешается слушать их откровенные разговоры. В наиболее тяжелые для Кержуна периоды жизни, когда герой теряет веру в себя как писатель, когда кажется, что нет никакого выхода, когда его раздирают сомнения, «Росинант» отвозит своего хозяина за город, чтобы тот смог собраться с мыслями. Со временем персонификация машины поддерживается и Лозинской, которая начинает относиться к «Росинанту» как «к нему» – верному спутнику: «Я думала, что ты тащишь его вперед... Как Санчо своего осла...» [Воробьев 1987: 434].Фотографии Э. Хемингуэя были одной из причин обратить внимание героев друг на друга. Впервые попав в издательство, не зная, куда и к кому обратиться, испытывая смешанные чувства, рассказчик отправился именно туда, где увидел снимки любимого писателя, они послужили сигналом, на который герой немедленно отреагировал. В свою очередь, Лозинская была совершенно очарована фотографиями Хемингуэя, увидев их в машине Кержуна: «она откинулась на сиденье и вдруг подалась вперед и затаилась: со мной давно ездили два снимка Хемингуэя, – лакированно-красочных и грустных» [Воробьев 1987: 295]. Еще не зная имени героини, рассказчик стал называть ее «хемингуэйка». То не была любовь с первого взгляда, но понимание того, что этот человек может быть близким по духу, «твоим», возникло у героев уже при первых встречах. И он, и она говорят на одном языке – языке скрытых и прямых цитат из художественной литературы, они знают и любят одних и тех же авторов.Аллюзии на произведения двух русских поэтов – А. Блока и С. Есенина, упоминание их имен, отсылка к их биографии связаны с самоидентификацией рассказчика. До поступления в Литинститут он писал стихи и «подражал в них Надсону» [Воробьев 1987: 382], потому что уже тогда понимал, что «…после Блока и Есенина стихи писать не только трудно, но почти невозможно. Если, конечно, считать себя настоящим поэтом» [Воробьев 1987: 343].Одиночество, неустроенная личная жизнь, профессиональная нереализованность, непонимание и неприятие со стороны ближнего окружения, а кроме того, надежды и ожидания «заставляют» рассказчика вновь и вновь обращаться к дорогим его сердцу, но таким разным авторам. Описание одного из возвращений героя в город после «очередного побега» от самого себя косвенно отсылает к строчкам из стихотворений Блока: «В такое время на память почему-то приходят блоковские стихи и старинная светло-печальная музыка и о себе думается с уважением и надеждой» [Воробьев 1987: 343]. Вечерняя, ночная жизнь «на фоне мерклого месяца» без любимого человека мучительна для рассказчика. Именно в такие моменты он чувствует себя особенно одиноким, незащищенным и неприкаянным, как лирический герой А. Блока. Но когда происходит перелом в отношениях героев и Лозинская уже не может скрывать своих чувств к Кержуну, он начинает видеть совершенно другой свет: из тусклого, неясного, туманного тот преображается: «он был густо-голубой, чуть прореянный ранним лунным током, и в этом свете мягко увязали и глушились шумы города, и непроходяще стоял чистый и радостный запах меда» [Воробьев 1987: 301] – и это уже аллюзия на творчество С. Есенина (см.: «Заметался пожар голубой…», «Воздух прозрачный и синий…», «Вечером синим, вечером лунным…» и др.). Отсылка к поэтам наблюдается в тех ситуациях, которые касаются лично Кержуна. Так, даже номер домашнего телефона Лозинской рассказчик соотносит с есенинской строкой: он «был запоминающе легкий, как есенинская строка, – два двенадцать шестнадцать» [Воробьев 1987: 312]. Герои «к месту» приводят полные и трансформированные цитаты из текстов Есенина, что еще больше усиливает их взаимную симпатию: «Я припомнил вслух есенинское “воду пьют из кружек и стаканов, из кувшинок тоже можно пить”» [Воробьев 1987: 385]. О том, что поэт и его творчество интересно Лозинской, позволяет судить фотография матери Сергея Есенина, находящаяся на рабочем месте Ирены Михайловны, и именно героиня вспоминает строчки из «Письма матери»: «Пусть струится над твоей... над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет, – продекламировала Ирена и ткнулась головой мне под мышку» [Воробьев 1987: 385], а цитату из стихотворения «Каждый труд благослови, удача!..» [Воробьев 1987: 385] воспроизводит уже рассказчик.Даже если имя поэта не упоминается в тексте повести, читатель понимает, что мысли героя о себе, своей жизни («…в сущности я большой горемыка и неудачник, не наживший к тридцати годам ни кола ни двора» [Воробьев 1987: 288]) – это своеобразное сопоставление себя, своей судьбы с есенинской, косвенное указание на трагическую жизнь поэта, которая оборвалась как раз в тридцать лет.Лишь однажды в повести воспроизводится исходный текст полностью, без изменений – это стихотворение поляка Я. Ивашкевича «Февраль». Случайно вспомнившись герою, оно, по его убеждению, «калено пристыло» [Воробьев 1987: 426] к его настроению – он стал нетерпим и раздражителен, испытывал к окружающим не сочувствие, а ярость. Содержание стихотворения отражало состояние рассказчика: он устал от неопределенности в личной жизни, натянутых до предела отношений с коллегами, которые демонстративно не принимали его, но самое главное – бесконечного одиночества, которое наиболее остро ощутил в определенный период своей жизни – в декабре, в самый «безнадежный» месяц.Как у всякого творческого человека, у Кержуна богатое воображение, позволяющее ему перевоплощаться, стирающее грань между реальным и ирреальным мирами. В мечтах он погибает на дуэли, как Пушкин или Лермонтов, отождествляет себя с революционерами – Гарибальди, Оводом и полковником Пестелем, представляет себя то Багратионом, то Кожедубом, то Рокоссовским. В воображении рассказчика историческая реальность неотделима от литературной, в его фантазиях, в чем-то еще юношеских, переплетается желание подвига и литературного успеха.После отъезда Лозинской в Кисловодск герой переживает, не находит себе места и силой воображения пытается представить, как ей там, без него. До того как начать писать, рассказчик много путешествует, но на Кавказе не бывает ни разу, и поэтому только благодаря своей фантазии и знаниям о людях, событиях и фактах, связанных с этими местами, а также аллюзиям на произведения, в которых так или иначе упоминается о них, Кержун представляет, где отдыхает Лозинская с семьей. Ему кажется, что это некий сказочный город: «и я стал думать о нем, как о вознесенном на скалу давно полуразрушенном городе-замке, – розово-светлом, повитом плющом. Там не бывает закатов солнца и люди носят белые одежды. Я перенес туда на скалу Бахчисарайский фонтан, развалины дворца хана Гирея и башню Тамары, – поэтичнее этого я ничего не помнил из книг о Кавказе» [Воробьев 1987: 361].Кержуну и Лозинской приходится скрывать свою связь, прячась от всех, особенно от товарищей по работе. В издательстве, где работают герои, за ними шпионят, о них сплетничают. Симпатии и антипатии рассказчик выражает с помощью различных цитат. Так, не сложились у него отношения с коллегой – Певневым, потому что в нем, по наблюдениям Кержуна, «перемешались» такие отрицательные качества, как зависть, надменность, но при этом жалкость. Помимо прочего, Певнев – сплетник, ждущий подходящего момента как можно больнее «разделаться» с рассказчиком. Чтобы разозлить недовольного всем соседа по кабинету, который демонстративно «не замечает» коллегу, не здоровается с ним, грубит или делает вид, что того и вовсе нет, Кержун использует непрямое воздействие. Разговаривая по телефону с Лозинской, называемой для «конспирации» Альбертом Петровичем, о «начинающем» писателе Александре Ивановиче Куприне, герой специально излагает историю, предназначенную для Певнева, который оказывается свидетелем разговора. «Однажды я позвонил при нем Альберту Петровичу и спросил, известно ли ему, что отвечал Куприн в начале своей писательской известности тем господам, которые предумышленно произносили его фамилию с ударением на первом слоге?» [Воробьев 1987: 470]. Упоминание ситуации, связанной с известным писателем, – это реминисценция, благодаря которой герой соотносит то, что происходит с ним, с тем, что происходило с уважаемым и почитаемым автором. На протяжении повествования меняется отношение рассказчика к Вераванне, соседке Ирены по кабинету и «другу семьи» Лозинских – Волобуй: от нейтрального до «худо мне было с Вераванной» [Воробьев 1987: 337] и, наконец, до нескрываемого неприятия. Не думать о ней Кержун не может, потому что она всегда у него перед глазами, недовольная, подозрительная, демонстрирующая и взглядами, и позой свое нежелание слышать и видеть рассказчика. Не обходит вниманием Кержун и отсутствие профессионализма Верванны: «Так могут судить, подумал я, только те, у кого нет никакого страха собственной недостойностью перед величием, скажем, Толстого или Бетховена, кто самоуверен и нахален в суждениях обо всем, что живет в мире и чем живет мир помимо хлеба» [Воробьев 1987: 416]. В некоторых ситуациях, когда рассказчик понимает свою «зависимость» от Певнева и Вераванны – нельзя поступать, как хочешь, нельзя проявлять эмоции, нельзя говорить, что хочешь – и негодует от этого, пытается «уколоть» того и другого одновременно. Так, находясь в одном кабинете с Певневым, Кержун посвящает свое реминисцентное высказывание еще и Вераванне: «История слова труперда связана с именем Пушкина. Он называл так княгиню Наталью Степановну Голицыну Просто толстая и глупая бабища, – сказал я. – Она не принимала у себя Пушкина, считая его неприличным. Пижоном того времени, так сказать» [Воробьев 1987: 429]. Этот спонтанный рассказ – одновременно скрытое и явное проявление отношения героя к недоброжелателям, которые, понимая, что происходит, ничего не могут ответить, т. к. отсутствует прямое к ним обращение. Высказывание, казалось бы, не связанное непосредственно с ситуацией, обусловлено накопившимися переживаниями и раздражением рассказчика: зная, как к нему относятся эти двое (как к пижону), он и затеял такое «представление».Человек, вызывающий интерес, «бывший» художник, ассоциируется у рассказчика с одним из «…сказочных бродяг из произведений А. Грина: Это сходство с ними усиливало лицо – крепкодубленое, в седой щетине и рубцах морщин» [Воробьев 1987: 359]. Как большинство героев писателя, этот посетитель редакции как будто бы попал сюда из другого мира, и говорит он и выглядит иначе, чем все остальные.Не остается равнодушным Кержун к тем произведениям, которые редактирует. Так, герою попадает в руки рассказ Аркадия Хохолкова «Полет на луну». Это текст-пародия на сценарий Н. Эрдмана (чье имя в тексте не упоминается), по которому был снят советский мультфильм 1953 года «Полет на луну». Чрезмерное, доходящее до абсурда развертывание какого-либо действия – первый, главный признак пародии [Чагин 2008: 235], как раз такой принцип представлен в рассказе Аркадия Хохолкова. На алогичность, нетипичность описываемого в рецензируемом тексте указывает все: и нелепость ситуации – мальчик Петя был отправлен друзьями в космос, и поступки героев – друзья поместили Петю в ящик, принесли на ракетодром, погрузили в ракету, следовавшую на Луну. То, как описывает рассказчик-редактор свое впечатление от прочитанного (ему пришлось несколько раз пересматривать рассказ – в итоге у него заболела голова) вызывает у читателя понимание никчемности «произведения» Аркадия Хохолкова.Аллюзии и реминисценции на произведения Л. Н. Толстого и И. А Бунина, с одной стороны, дают возможность понять, что значили эти авторы для рассказчика, как недосягаем их талант для «современных прозаиков»: «Нельзя ведь не бояться Толстого. Или Бунина» [Воробьев 1987: 409], с другой стороны, передают положение героев, в котором те оказались. Речь идет о любовном треугольнике. Тема любви становится объектом рефлексии героя. Параллель с бунинским рассказом очевидна, ее проводит сам Кержун. Несмотря на то, что в связи с «Солнечным ударом» упоминается Вераванна, вернувшаяся из Сочи (Наверно, с Вераванной случилось… что-то неправомерно хорошее, похожее, надо думать, на бунинский «Солнечный удар» [Воробьев 1987: 422]), рассказчик соотносит все то, что произошло с героями И. А. Бунина, с их с Лозинской историей. Именно с ними случился солнечный удар: маленькая женщина, перевернувшая всю жизнь героя (после встречи с ней он уже никогда не будет прежним), оказывается замужем, у нее есть дочь; героиня не может (не хочет, не имеет возможности) оставить мужа. Благодаря использованию реминисценции прогнозируется вариант развития дальнейших отношений между Кержуном и Лозинской: им не быть вместе. Встреча героев повести – Ирены Михайловны и Антона Павловича отсылает и к роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина», в котором встреча Карениной и Вронского становится такой же, на первый взгляд случайной, как у Лозинской и Кержуна. Кроме того, объектом рефлексии оказывается и сама «геометрия любви» – любовный треугольник: Кержун – Лозинская – Волобуй: «Я сказал, что любви, если она запоздалая, без треугольников не бывает, и дело не в треугольниках, а в бездарности авторов, дерзающих бормотать об этом. Я подумал и предположил еще, что, для того чтобы написать книгу о любви, нужен большой и свободный талант… Как у Толстого» [Воробьев 1987: 416]. Использование реминисценции позволяет рассказчику поразмышлять и о таланте Л. Н. Толстого, благодаря которому писатель так красиво и трагично смог раскрыть позднюю любовь, и о самой «запоздалой» любви. Кержун, хорошо знающий творчество писателей-классиков, соотносит сюжеты и мотивы из их произведений с тем, что случается с ним.Цитирование исходных и трансформированных текстов – литературных источников ХVIII–ХХ веков – представляет собой прием рефлексии героя-рассказчика: это его самоидентификация в ходе взаимодействия с разными людьми. Помимо этого, рассказчик как творческая личность, обладающая множеством масок, меняет их в зависимости от сложившейся ситуации и/или от того, как ситуация «разворачивается». Ряд аллюзий и реминисценций отражает состояние героя вне зависимости от обстоятельств. Это обусловлено тем, что он, как сложившаяся личность, имеет устойчивые представления о мире и о своем месте в нем. Появление иных цитатных включений обусловлено эмоциональным состоянием героя: он любит, симпатизирует, сердится, раздражается, борется и др. Все это не только вызывает ассоциации с определенными авторами и героями литературных произведений, но и помогает герою-рассказчику осознать, идентифицировать себя как автора, сформировать «свой» голос. «Пробуя на вкус», примеряя на себя чужое слово, он вырабатывает свой индивидуальный язык и стиль.Цитирование как прием рефлексии – это один из способов изучения прямых и трансформированных цитат в тексте, который позволяет исследовать как образ автора, рассказчика, так и образ героя.Об авторах
Ольга Викторовна Марьина
Алтайский государственный педагогический университетРоссия, Барнаул
Ирина Островских
Алтайский государственный педагогический университетРоссия, Барнаул
Список литературы
- Ананьина А. А. Особенности функционирования аллюзивных имен в художественном тексте // Русский лингвистический бюллетень. 2021. № 1 (25). С. 6–9.
- Бердников Г. П., Громова-Опульская Л. Д. (отв. ред.). Летопись жизни и творчества А. П. Чехова / Российская акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. Т. 1: 1860–1888. М.: Наследие, 2000. 509 c.
- Борунов А. Б. Стилистические функции аллюзивных репрезентантов в художественном тексте // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 4–3 (58). С. 69–71.
- Быков Д. Л. Константин Воробьев как зеркало русской военной прозы // Дилетант. № 7. 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://ru-bykov.livejournal.com/3453510.html (дата обращения: 05.04.2023).
- Земская Е. А. Клише новояза и цитация в языке постсоветского общества // Вопросы языкознания. 1996. № 3. С. 23–31.
- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Изд-во ЛКИ. 2010. 264 с.
- Лушникова Г. И. Интертекстуальность художественного произведения. Кемерово: КемГУ, 1995. 82 с.
- Москвин В. П. Интертекстуальность. Понятийный аппарат. Фигуры, жанры, стили. М.: Либроком, 2015. 167 с.
- Попова Е. А. Прецедентные тексты в обучении русскому языку // Русский язык в школе. 2007. № 3. С. 44.
- Пучинина О. П. Прецедентные феномены на материале автобиографической прозы Марины Цветаевой // Международная научно-практическая конференция: Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты. 29–30 января 2017, г. Кемерово. Т. II. С. 123–126.
- Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 240 с.
- Слышкин Г. Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М.: Academia, 2000. 123 с.
- Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. Изд. 2-е, испр. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 368 с.
- Туова Р. Х. Интертекстуальность в детективном тексте постмодерна: лингвокультурный аспект // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2015. № 4 (168). С. 67–72.
- Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. М.: Агар, 2000. 280 с.
- Фатеева Н. А. Интертекст в мире текстов: Контрапункт интертекстуальности. М.: КомКнига, 2007. 282 с.
- Хатямова М. А. Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети ХХ века: автореф. дис. … д-ра фил. наук. Томск. 2008. 42 с.
- Чагин А. И. Пути и лица: о русской литературе XX века. М.: ИМЛИ РАН, 2008. 595 с.