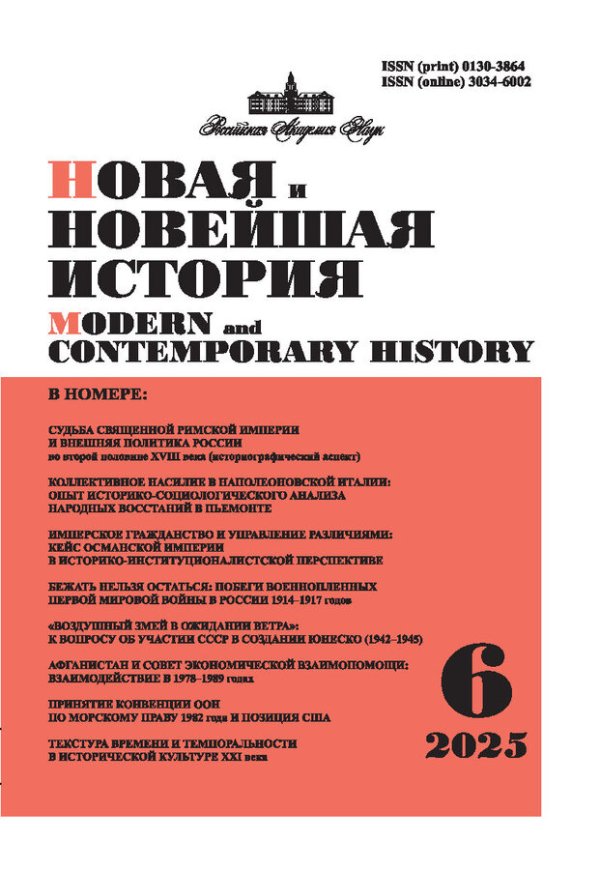Западногерманская историография Германской империи как пример реализации исторической политики
- Авторы: Матвеева А.Г.1
-
Учреждения:
- Институт всеобщей истории РАН
- Выпуск: № 4 (2024)
- Страницы: 18-30
- Раздел: Теория и методология истории
- URL: https://bakhtiniada.ru/0130-3864/article/view/261928
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130386424040027
- ID: 261928
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Анализ историографии того или иного исторического периода или проблемы позволяет очень многое сказать не только собственно о теме исследований, но и о научной, политической ситуации, в которой работы были подготовлены и изданы. Примером может служить сложившаяся в ФРГ традиция исследований политической истории Германии имперского периода. Закономерен выбор сюжетов, на которых сконцентрировано большинство работ (конституционная история, биографика, история политических партий, парламентаризма, проблемы авторитаризма и теория модернизации), где история Германской империи рассматривается почти всегда с точки зрения краха империи в 1918 г., причем как ведущими представителями Билефельдской школы социальной истории, так и их оппонентами. В имперском периоде выявляются тенденции, институты, силы, наличие или отсутствие которых предопределили распад империи, сделали его закономерным и неизбежным. Сторонники теории «особого пути» немецкой истории изначально трактуют «германский кейс» как совершенно обособленный, стоящий особняком среди иных государств – как «прогрессивных» западных, так и «отсталых» восточных. Эта особость и предопределенность конца, ответственность за что в разных работах возлагается на разные, но всегда «консервативные» силы – монархию, личный режим Вильгельма, юнкерство, Пруссию, бундесрат, католиков и т.п., формируют образ империи как антидемократического по своей сути государственного образования, задачи которого враждебны национальному и либеральному движениям, прогрессивным в своей основе. Это понимание собственного прошлого, которое оказало решающее влияние на историческое сознание немцев, стало одним из факторов их глубинного представления об англо-американской цивилизации как об эталонной, а о собственной истории – как о том, что надо преодолеть и никогда не повторять.
Полный текст
Занимаясь в последние годы политической историей Германской империи, мы, естественно, достаточно глубоко погрузились и в историографию данного периода немецкой истории. Не претендуя в предлагаемой статье на фундаментальный, всеобъемлющий разбор, мы хотели бы выделить основные направления исторических исследований, что позволит определить превалирующие тенденции, магистральное направление, в рамках которого немецкие историки изучали и продолжают изучать собственную историю имперского периода.
Оставляя вне фокуса своего интереса наиболее полно изученный «бисмарковский период», т. е. время с начала 1860-х годов, когда О. фон Бисмарк занял пост министра-президента Пруссии, до 1890 г., когда 75-летний имперский канцлер был отправлен в отставку «молодым» императором Вильгельмом II, за полтора года до этих событий вступившим на трон созданной во многом стараниями Бисмарка Германской империи, мы сконцентрируемся на так называемом вильгельмовском периоде, т. е. 1890–1914 гг.
Наша статья является определенным продолжением темы, поднятой А.Ю. Ватлиным, С.И. Невским и А.А. Турыгиным в 2023 г.1, а также затронутой в работах российских исследователей несколько ранее2. Мы можем согласиться далеко не со всеми тезисами и выводами работы А.Ю. Ватлина и коллег, которая, являясь в значительной степени историографическим обзором, следует в русле той самой западногерманской историографии, повторяя ее основные выводы и установки, но само ее появление и проведенный в ней подробный и профессиональный анализ являются свидетельствами актуальности истории имперской Германии. В предлагаемой статье мы намерены провести анализ под принципиально иным углом зрения – не оценивать режим, сложившийся в период правления Вильгельма II, а оценить направления и тенденции его изучения с позиции западногерманской исторической политики, в парадигме которой было создано большинство крупных и значительных работ.
Для нас наибольший интерес и важность представляют монографии и статьи, посвященные таким традиционным для германской историографии проблемам, как политическая история, история государства и отчасти права, биографика, социальная история, история различных партий и общественных организаций, элитология, изучение проблем авторитаризма и парламентаризма. Учитывая, что всякая национальная история чаще всего не только актуальна с научной точки зрения, но и является предметом общественного внимания и обсуждения, она неизбежно политизирована. Немецкая историография в этом смысле не является исключением, она также испытывает воздействие позднейших событий и идео- логических оценок. Немецкие историки ищут и чаще всего находят в имперском периоде провозвестие и даже первопричину национал-социализма, в связи с чем в центре их внимания находится вопрос об «особом пути» Германии в Европе и мире. При этом история Германской империи теряет самоценность, являясь для одних лишь малозначимой, а для других весьма значимой предтечей роковых и эпохальных событий XX в.
Первые серьезные работы, посвященные имперской истории, появились в ФРГ в начале 1960-х годов и носили преимущественно описательный характер3. В качестве главного историографического тренда утверждается школа Билефельдской социальной истории, которая выступала за перенос центра тяжести с изучения политической истории с особым вниманием к личностям политических деятелей на исследование социальных процессов. Центром дискуссии, к которой вновь и вновь возвращаются немецкие историки с 1970-х годов и до сегодняшнего дня, является тезис об «особом пути» (Sonderwegsthese) Германии. Х.-У. Велер4, бывший одним из самых оригинальных мыслителей и ученых в плеяде крупнейших западногерманских исследователей (В.Ю. Моммзен5, В. Конце6 и др.), наполнил эту теорию следующим содержанием: немецкий особый путь на самом деле являлся выражением структурного дефицита модернизации и в конечном итоге вел к национал-социализму. «Идеальное» развитие, постулируемое американской теорией модернизации, было присуще либеральным обществам, которые, по принятой в западной историографии аксиоме, существовали в Англии и Франции, но никак не в Германии и России. Именно этот тезис является основополагающим, именно эту «негибкость, неготовность к необходимым изменениям» и демонстрируют все социальные, а особенно политические структуры Германской империи с точки зрения сторонников школы социальной истории7. Билефельдская школа постоянно расширяла сферу своих интересов. Если вначале основное значение она придавала деятельности элит, то затем – более широким социальным слоям. Рисуемая ими крайне негативная картина отсталого немецкого общества и государства, не соответствовавшего западным образцам, постепенно стала меняться: империи дается больше прав, чем раньше. Однако до сих пор и сторонники, и противники теории «особого пути» размышляют и работают в его логике. Представляется, что главное остается неизменным, Германская империя не столько исследуется, сколько предстает перед судом. И несмотря на все уверения, будто прошли те времена, когда в ней, в ее особенностях и слабостях искали объяснение событиям 1930–1940-х годов, именно они лежат в основе большинства самых новых книг и статей.
Самым активным и последовательным критиком подходов Билефельдской школы к имперской истории Германии был Т. Ниппердей, автор фундаментальной трехтомной работы по истории Германии в XIX в.8, а также ряда иных исследований, написанных в методике «нового историзма». Стараясь отойти от постоянного использования в той или иной степени теории «особого пути», он доказывал самоценность имперской истории. Ниппердей, по его собственным словам, «не писал только историю Германской империи, ее политических структур, событий, политических условий, экономики, общества и культуры. Но при этом это и не история немцев, т. е. это не история повседневной жизни, когда все политические институции отодвинуты на задний план. Это попытка найти золотую середину между “историей сверху” и “историей снизу”»9, а также встроить ее в контекст истории мировой и собственно германской – до и после империи. Историку удалось в своей работе охватить практически все стороны немецкой жизни от частной до экономической и политической, но заданность, диктуемая методологией «недостатка модернизационного потенциала», предопределила и отбор материала, и угол зрения, под которым этот материал рассматривается. При этом следует признать, что до сих пор в мировой историографии не было создано более всеобъемлющего и полного исследования этого периода Германской истории.
В последние годы предпринимаются различные более или менее удачные попытки рассмотреть тему с какой-то новой точки зрения. Так, например, в 2001 г. М. Фрёлих собрал в рамках одной биографии различных деятелей времен Германской империи, причем далеко не только политиков, но и ученых, художников и т. д., чтобы через них показать «портрет эпохи», что ему в общем-то удалось. Работа стала попыткой претворения в жизнь «антропологического поворота», но во многом стала возвратом к старой биографистике, когда именно личности творили историю, по крайней мере в представлениях историков старой школы.
Имперскому периоду немецкой истории посвящены также крупные разделы в более общих работах по истории Германии «долгого XIX века». Одной из наиболее ранних подобных работ стала книга Ф. Штерна, изначально изданная в 1955 г. в Нью-Йорке на английском языке и красноречиво названная «Крах нелиберальной политики»10. В ней имперская Германия объявляется предтечей национал-социализма, а ее история после 1878 г., по словам автора, лучше всего характеризуется словом «нелиберальная» (illiberal), т. е. именно недостаток либерального начала и, шире, слабость немецкого либерализма являются причиной ее «консерватизма, бонапартизма и авторитарности»11. В 2000-е годы вышло несколько работ, авторы которых постарались предложить новые подходы к изучению XIX в., в том числе немецкого. В книге под редакцией Н. Фрайтага и Д. Петцольда представлены «новые перспективы рассмотрения старых вопросов»12. Германская империя показана через призму «рекламного» фильма П. Шамони «Вильгельм II. Его величеству нужно солнце (Wilhelm II. – Majestät brauchen Sonne)» (1999), помещавшего личность императора, а через него и всей империи в массовое сознание и подчеркивающего попытки самого императора с помощью доступных ему визуальных средств создавать легенду о себе.
Самой нашумевшей в последние десятилетия в изучении мировой истории XIX в. стала монография Ю. Остерхаммеля13, который пытается с помощью выработанных им уникальных подходов показать взаимосвязь и взаимозависимость мировых процессов. Определяющими для него являются категории времени и пространства, отличия течения и понимания времени в XIX в. по сравнению с предыдущими и последующими периодами. Наибольший интерес для нас представляют его «панорамы» – «государства», «империи и национальные государства», «международные системы». Остерхаммелю удалось предложить действительно новые подходы, он предпринял попытку, преодолевая теорию «особости» Германии и ее развития, встроить ее в общемировую имперскую систему, обнаружив множество пересечений германского примера с иными имперскими образованиями.
В центре внимания немецкой исторической науки применительно к исследованиям имперского периода находятся вопросы государственно-правовой теории, принципов формирования и функционирования ее системы власти. Самым значительным и подробным трудом является многотомная «Немецкая конституционная история с 1789 г. до настоящего времени» Э.Р. Хубера14, выходившая в 1970–1990-е годы в Штутгарте. Особый интерес для нас представляют третий том «Бисмарк и империя» и четвертый том «Структура и кризисы империи»15, где рассматриваются все этапные события имперского периода, начиная с отставки Бисмарка и до Первой мировой войны, с точки зрения соответствия тех или иных шагов законодательству империи. Научная и преподавательская деятельность Хубера в период национал-социализма, активное членство в НСДАП, его позиции одного из ведущих специалистов по германскому законодательству и создателей так называемой Кильской юридической школы в 1935 г. стали причиной достаточно долгого его отлучения от академической деятельности после 1945 г. и часто скептического отношения коллег к его работам. Эти обстоятельства биографии Хубера не умаляют ни значения его фундаментального труда, ни его влияния на последующие исследования в этой области, хотя и объясняют его приверженность борусианской школе в историографии и известный пруссоцентризм его исследования, что, впрочем, вполне обоснованно при анализе истории Германской империи. Третий том носит в основном теоретический характер, в четвертом описывается реализация конституционной модели в имперской системе власти, причем не только ее правовые, но и политико-экономические и социальные аспекты. Главным посылом Хубера является утверждение, что имперская форма государства – это не переходный этап между прусским абсолютизмом и либерально-демократической Веймарской республикой, то, что авторы упомянутой выше недавней статьи в духе мейнстрима западногерманской историографии определили как «мнимый конституционализм»16, но вполне самостоятельная форма, обладающая достаточно удачным и вполне работоспособным сочетанием политических элементов. Это делает ее одной из базовых моделей конституционного государства с разделением властей, которая нуждается в реформировании не более, чем любая другая. Для описания этой модели Хубер вводит вполне нейтральный термин «немецкий конституционализм», под которым он понимает «соответствующую системе модель политико-правовой самоорганизации», которая объединяла в себе два принципа – монархический и представительский и была «соответствующим своему времени решением немецкого конституционного вопроса»17. В этой системе, по Хуберу, монарх обладал почти исключительно контрольными функциями над сферами управления, администрации, внешней политики и армии. Основное внимание в более чем 1200-страничном томе Хубер уделяет таким дискуссионным вопросам, как канцлерский режим Бисмарка, идея государственного переворота, проблема «личного режима», социальное и экономическое законодательство. Историк считает, что говорить о режиме Бисмарка как о «диктатуре канцлера» нет оснований, отрицает бонапартистские элементы в стиле его правления, хотя и признает, что он был важнейшим фактором в период написания имперской конституции и реализации ее принципов вплоть до 1890 г. Тезисы, представляющие для нас особый интерес, посвящены содержанию и характеристикам «личного режима» Вильгельма II. Говорить о нем, по Хуберу, стоило бы только в том случае, если бы император отстранил от исполнения возложенных на них функций все основные органы управления, включая прусское государственное министерство, канцлера, прусский ландтаг и рейхстаг и установил бы полноценный самодержавный режим, чего не происходило ни в коей мере. Историк также вполне справедливо считает, что речи императора, пусть и не всегда обдуманные, а иногда и просто глупые, еще не означают, что в стране был установлен авторитарный режим. По Хуберу, возможности императора проводить собственную политику были ограничены, и чем дальше, тем больше военной и гражданской бюрократией, которая отстаивала собственные, ведомственные интересы18. Расширение области, в которой император имел свободу рук, было ограничено ослабленными Бисмарком конституционными институтами, независимостью в кадровой политике, что другой выдающийся исследователь этого периода Дж. Рёль считал главным признаком личного режима19, а также идеологической мобилизацией народа вокруг идеи «мировой политики». Хубер доказывает тезис, что Вильгельм, став национальным императором, превратился в интеграционный фактор, позволивший на некоторое время смягчить недостатки и противоречия политической и социальной систем империи. То есть, не умаляя фактора влияния императора на политические процессы, Хубер выступает против его преувеличения и сведéния всех внутренних проблем послебисмарковского периода просто к определению «личный режим», не вкладывая в него никакого политико-правового содержания, кроме обвинений в «недемократизме».
Большой раздел работы посвящен правовым основам функционирования отдельных союзных государств в составе империи. Традиционно основное внимание уделяется вопросам избирательного права, одна из основных внутриполитических проблем в стране видится в отказе значительной части так называемого среднего класса от требований парламентаризации, понимаемой как демократизация. При это автор утверждает, что уже в первой половине 1890-х годов Пруссия являлась парламентским государством, так как прусское государственное министерство со времен борьбы вокруг школьного закона Цедлица в 1891–1892 гг. почти полностью зависело от консервативного большинства ландтага. Большое внимание историк уделяет также национальному вопросу (польскому и эльзас-лотарингскому) как важным факторам в предыстории Первой мировой войны.
Этой монументальной работе Хубера предшествовала его монография «Национальное государство и конституционное государство», вышедшая в свет в 1965 г. Книга имеет подзаголовок «Исследования по истории современной государственной идеи», что полностью отражает ее преимущественно теоретический, правоведческий характер. В центре исследования лежит феномен конституционного государства, созданного Бисмарком, и его понимание как «пределов, которые конституционное государство накладывает на политическую деятельность, так и возможностей, которые оно открывает перед действующими политическими деятелями»20. Исследователь много пишет о ценностной связи между имперской и прусской конституциями, утверждая, что с самого начала империю ни в коем случае нельзя считать опять-таки с правовой точки зрения только «расширенной Пруссией»21, хотя это утверждение представляется нам скорее спорным.
Особый раздел работы посвящен трансформации конституционного государства в период «личного режима». Хубер вступает в этом вопросе в дискуссию с Э. Эйком, автором монографии о личном режиме22, который утверждает, что вместо системы конституционного канцлерского правления в Германии после отставки Бисмарка сложился самодержавно-монархический режим.
Один из главных вопросов – стояла ли за фасадом конституционного государства абсолютистская по сути своей система правления, что Хубер определяет как «институциональный личный режим», или же в стране действовал «импровизированный личный режим», т. е. в каждом конкретном случае конституционная система по усмотрению и прихоти монарха «отключалась», остается одним из самых актуальных при анализе имперского периода германской истории23. В результате подробных размышлений исследователь приходит к выводу, что главной проблемой страны являлось нарушение баланса между военными и политическими кругами: первые толкали Германию к войне, а вторые не имели достаточного потенциала, чтобы им противостоять. Император же, ложно уверовав в то, что он сам может быть своим канцлером, не смог правильно установить этот баланс.
В 1980-е годы вышли две работы, связанные с именем крупного исследователя конституционно-правового развития Германии Х. Больдта из университета Дюссельдорфа, который издал двухтомник «Немецкая конституционная история»24 и стал составителем хрестоматии, в которой были собраны основные тексты, связанные с той же темой25. Работы Больдта являются глубоко фундированными, скорее обзорными, чем исследовательскими сочинениями, предоставляя прекрасную фактическую базу для собственной аналитической работы.
Правовым основам империи посвящен один из разделов обзорной работы Х. Брандта «Долгий путь в демократическую современность. Немецкая конституционная история с 1800 по 1945»26 под названием «Правовое государство и конституционная стагнация (1866–1914)», из которого понятно, что автор объединяет в единую систему историю Германии от Северогерманского союза до Первой мировой войны. Работа содержит подробный анализ имперской конституции, принципов, лежащих в ее основе, прерогатив основных ветвей власти. Императора, канцлера и рейхстаг Брандт относит к унитарным элементам конституции. Достоинством работы является подробное описание не только правовых норм, утвержденных в 1871 г., но и изменений, которые вносились в ту или иную статью до 1914 г. Особенно это важно в таких сложных областях, как принципы формирования имперского бюджета, налоговая система, финансовые отношения империи и отдельных государств. Брандт поддерживает тезис о том, что личный режим Вильгельма существовал и он нарушил сложно сконструированное, но устойчивое имперское здание, выстроенное Бисмарком, что властный механизм из императора, канцлера и бюрократии все больше дистанцировался от рейхстага, а сама власть императора представляла собой цезаристское сочетание волюнтаризма и бюрократизма. Каприви и Гогенлоэ рассматриваются Брандтом как переходные фигуры, находившиеся в тени Бисмарка27, а в скандале с Daily Telegraph он видит шанс на установление в стране парламентского режима, который оказался упущен из-за стратегии политических партий, «которые, парализованные своими традициями, действовать не решились»28. Основной вывод работы, которая из-за отсутствия справочного аппарата носит обзорный характер, гласит, что вся имперская политика до 1914 г. «имела много аспектов, но всегда была политикой утерянного престижа» как внутри страны, так и вовне, война являлась способом преодолеть пропасть между аграрным и индустриальным обществом и представлялась народу неким катарсисом, а конституционной монархии – способом выжить. Брандт пишет о гражданском консенсусе, достигнутом немецким обществом к 1914 г., что является важным тезисом и нашей работы.
Одним из самых новых исследований правовой системы Германии является работа М. Котуллы «Немецкая конституционная история»29, в которой имперскому периоду посвящено всего 10 страниц, содержащих только самую общую информацию.
Итак, немецкие, а вслед за ними и отечественные историки-правоведы30 главной темой своих исследований делают проблему выработки германской конституции 1871 г., всегда детерминированную фигурой Бисмарка, а также сильных и слабых, коих всегда больше, сторон этого документа и условий, существующих для реализации заложенных в него принципов в политической практике. Бисмарковский период привлекает больше внимания, чем последовавший за отставкой первого канцлера, который традиционно определяется как «личный режим», причем если Хубер в 1960–1980-е годы спорил с этим определением как с установленной данностью, то более поздние исследования скорее принимают его за аксиому.
Второй по частоте упоминаний после Бисмарка фигурой имперского периода германской истории является Вильгельм II, собственно, и сама имперская история разделена на два этапа – бисмарковский и вильгельмовский. Один из крупнейших отечественных специалистов по германской истории и историографии новой и новейшей истории М.Е. Ерин писал, что императору в литературе даются самые разные оценки и существует несколько легенд о нем. «Одна из них гласит, что Вильгельм был великим человеком. Согласно другой, он – демон, но, несомненно, очень опасный, потому что обладает чертами гения. Третья повествует, что с падением канцлера О. фон Бисмарка в марте 1890 г. и восхождением на трон Вильгельма II начался путь по наклонной плоскости, который и привел рейх к крушению»31. Более чем за сто лет, прошедших после отречения монарха, о нем было написано свыше 3 тыс. книг и статей32, но тема далеко не считается исчерпанной. К аналогичному выводу пришли и А.Ю. Ватлин, С.И. Невский и А.А. Турыгин, считающие, что «исторические дискуссии о «режиме личной власти» Вильгельма II и его последствиях помогают пониманию противоречивого характера политической реальности Германской империи и ключевых тенденций ее развития в конце XIX – начале ХХ в.»33.
Немецкие историки, отвечая на главный для себя вопрос, являлся ли крах 1918 г. неизбежным и предопределенным, спорят, был ли он обусловлен всем развитием страны с 1871 г., или, что представляется большинству историков более обоснованным, с 1890 г. Будто бы Бисмарк, обладавший своего рода «иммунитетом от поражения», строил одно государство, а отстранивший его от власти император изменил не только внешнеполитическую стратегию страны, но и ее конституционные основы, сам вектор ее развития. При таком подходе, очевидно, фигура Вильгельма выходит на первый план, поэтому значительная часть работ по истории Германской империи строится вокруг фигуры императора или прямо посвящена ему.
Самым плодовитым в этом ряду был совсем недавно скончавшийся британский историк Дж.Ч. Дж. Рёль, родившийся в немецко-английской семье и потому проявлявший особый интерес к истории Германии, при этом подход к личности и деятельности императора, который он демонстрировал во всех своих работах34, можно назвать скорее британским. Одна из его работ, небольшой очерк, вошедший в сборник, посвященный германским императорам, была переведена и на русский язык35. Привлечение огромного круга источников и любовь Рёля к чрезвычайно обширным цитатам предопределили огромный физический объем его книг, особенно трехтомника. Император предстает в них личностью с нарциссическими расстройствами: эгоцентричной и вспыльчивой, беспокойной и импульсивной, бесчувственной и бестактной, склонной к театральным жестам и громкой риторике, восприимчивой к лести и неспособной к сосредоточенной работе. Главным посылом всех работ Рёля было представление Вильгельма как ключевой фигуры на роковом пути от Бисмарка к Гитлеру, который установил, в отличие от большинства европейских монархий, полуабсолютистскую монархическую систему правления вопреки духу времени современного индустриального общества. В центре исследования – обоснование тезиса о «личном режиме», основанном на принципе так называемого королевского механизма, введенный Н. Элиасом36 для обозначения придворного общества как центра власти и Ф. Эйленбурга как ядра этого центра. То, что именно Рёль был составителем и редактором публикации писем Эйленбурга, с одной стороны, погрузило его в изучение «камарильи», что позволило показать все тайные пружины событий, а с другой – затуманило все остальные факторы политической жизни в стране, не оставив места для встраивания в систему политических партий, рейхстага, различных союзов и организаций. Работа благодаря своей детальности носит скорее позитивистско-описательный, чем аналитический характер, что, впрочем, не умаляет ее ценности для исследователей.
Важнейшие труды других историков, причем как немецких, так и английских, вращаются вокруг вопроса о месте императора в системе и, главное, в «иерархии виновников Первой мировой войны». То ли он стал «козлом отпущения», как считал Н. Зомбарт37, то ли «теневым императором»38, который вообще не участвовал в принятии решений. Иногда делалась попытка посмотреть на императора чуть менее предвзято39, но редко, когда это удавалось. Колебания в германской историографии были обусловлены господствующей в обществе и науке трактовке виновности Германии в мировых войнах, теории об «особом пути Германии» и спорами, которые породила книга Ф. Фишера «Рывок к мировому господству»40, ставшая, наверное, самой обсуждаемой работой по истории Германии в современной мировой исторической науке. Все эти исследования глубоко политизированы, и связано это прежде всего с тем, что с периода правления Вильгельма прошло чуть более ста лет и эти годы были наполнены событиями, которые раз за разом возвращали его фигуре, роли в истории Германии и роли Германии в мировой истории политическое измерение, связанное с культивированием в немецком обществе чувства вины. Интересный и нетривиальный взгляд на императора предлагает В. Кёнинг, в центр своего исследования поместивший отношения императора со столь любимым им миром технических новинок и новых технологий41. Работа ожидаемо делится на главы, посвященные интересам Вильгельма II, роли промышленников и инженеров в качестве советников императора. Попытки Кёнинга обосновать этими техническими интересами приверженность императора современности в самом широком общественно-политическом, структурном смысле выглядят не самыми убедительными, но, очевидно, являются новым углом зрения, под которым рассматривается старая проблема.
В общем и целом вышеперечисленные авторы пытаются выстроить историю Германии вокруг фигуры ее императора, чем раз за разом уводят в его тень все остальные социальные, экономические и иные факторы и силы. Такой «кайзероцентризм» показателен как особый феномен замены личностями процессов, придания гипертрофированного внимания роли личности в истории, что очень выгодно для всех остальных. Если роль Германии в европейской истории XX в. определили личные амбиции «бесноватых, психически неуравновешенных и т. д.» императора и фюрера, то никаких закономерных причин для повторения ситуации в иных условиях не существует. Возможно, такой подход является и ответом на жесткие схемы Билефельдской школы, захватившей в какой-то момент «командные высоты» в немецкой историографии.
Мы остановились здесь только на трех темах и главных работах, очерчивающих основное исследовательское поле изучения имперской Германии. Подробное знакомство с ними позволяет сделать несколько выводов. Кроме чисто научных задач перед историками стояли и иные – политические, связанные не столько с объяснением, сколько с преодолением тяжелейшей немецкой истории XX в. В отличие от немалой части современной российской историографии и особенно широкого общественного мнения, которое в империи Романовых часто видит золотой век отечественной истории, немецкие историки находят в бисмарковском, а особенно в вильгельмовском периоде первопричину германской трагедии и германских преступлений новейшего времени. Первопричина эта видится им, по сути, в «особом пути» Германии, недостатке в ней либерального демократического начала, избытке «железа и крови», с помощью которых империя была создана. Если период Освободительных войн и национального подъема 1813–1814 гг., а особенно «весны народов» 1848 г. имеют однозначно положительную коннотацию, то имперский период фактически всегда рассматривается через призму кризиса, распада, краха и отсутствия модернизационного потенциала в стране. Если в самом конце XX в. в историческом сознании немцев создается и культивируется «жертвенный нарратив»42, то предыдущий период можно охарактеризовать как поиск виновных и «нарратив покаяния». Самым простым путем было возложение ответственности или на отдельные личности (Бисмарк, Вильгельм, Гитлер), или на достаточно узкие социальные (юнкерство) или политические (социал-демократы, либералы и т. п.) группы. Именно этот посыл, за некоторым исключением (например, имевшего смелость идти против мейнстрима Хубера), лежал в основе всех работ, которые, будучи частью исторической политики, задачей которой была интеграция ФРГ в западную систему, формировали и историческое сознание немцев. Эти труды стали препятствием для взгляда на Германскую империю как на часть европейской имперской системы, включения ее в «макросистему империй», что постарался изменить в своих уже упомянутых выше работах Ю. Остерхаммель и частично Т. Ниппердей. Сложность этого процесса очевидна, свидетельством чему является острая дискуссия с участием Й. Биберовского, М. Брехткена, М. Фрая, Б.И. Колоницкого и В.С. Мирзеханова, кратко представленная в Обобщении российско-германского научного коллоквиума, состоявшегося в 2018 г.43
Позиция германской историографии по имперским сюжетам является, пожалуй, одним из самых ярких свидетельств не только влияния политики на историческую науку, но и силы воздействия, которую научные социальные и гуманитарные исследования оказывают на общество, на процесс формирования общественного сознания, а через него и на текущую политическую практику.
1 Ватлин А.Ю., Невский С.И., Турыгин А.А. Вильгельм II и система власти в Германии в конце XIX – начале ХХ века // Новая и новейшая история. 2023. № 3. С. 7–27. DOI: 10.31857/S013038640024400-8
2 Ростиславлева Н.В. Рецепция темы Германской империи в юбилейных исторических нарративах России и Германии в XX веке // Новая и новейшая история. 2022. № 3. С. 91–100; Филитов А.М. Бисмарк – Вильгельм – Гитлер: континуитет или разрыв традиции? // Там же. С. 82–90.
3 Schieder Th. Das deutsche Kaiserreich von 1871 als Nationalstaat. Köln, 1961.
4 Wehler H.-U. Bismarck und der Imperialismus. Köln u. a., 1969; Idem. Krisenherde des Kaiserreichs 1871–1918. Studien zur deutschen Sozial- und Verfassungsgeschichte. Göttingen, 1970; Idem. Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918. Göttingen, 1973.
5 Mommsen W.J. Max Weber und die deutsche Politik 1890–1920. Tübingen, 1959; Idem. Das Zeitalter des Imperialismus. Frankfurt a. M., 1969; Idem. Imperialismustheorien. Göttingen, 1987; Idem. Nation und Geschichte. Über die Deutschen und die deutsche Frage. München, 1990; Idem. Der autoritäre Nationalstaat. Verfassung, Kultur und Gesellschaft im Deutschen Kaiserreich. Frankfurt a. M., 1992.
6 Conze W. Die Deutsche Nation. Ergebnis der Geschichte. Göttingen, 1963; Idem. Gesellschaft – Staat – Nation. Gesammelte Aufsätze / Hrsg. von U. Engelhardt. Stuttgart, 1992.
7 Подробный анализ работ Билефельдской школы социальной истории см.: Torp C., Müller S.O. Das Bild des deutschen Kaiserreichs im Wandel // Das deutsche Kaiserreich in der Kontroverse / Hrsg. C. Torp, S.O. Müller. Göttingen, 2008. S. 9–30.
8 Nipperdey Th. Deutsche Geschichte, 1800–1866: Bürgerwelt und starker Staat. München, 1983; Idem. Deutsche Geschichte, 1866–1918. Bd. 1. Arbeitswelt und Bürgergeist. Bd. 2. Machtstaat vor der Demokratie. München, 1990–1992; Idem. Wie modern war das Kaiserreich?: Das Beispiel der Schule. Wiesbaden, 1986.
9 Nipperdey Th. Deutsche Geschichte, 1866–1918. Bd. 2. S. 877.
10 Stern F. Das Scheitern illiberaler Politik. Studien zur politischen Kultur Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt a. M., 1972.
11 Ibid. S. 13.
12 Ibid. S. 13.
13 Osterhammel J. Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München, 2009.
14 Huber E.R. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. 1–8. Stuttgart, 1981–1990.
15 Ibid. Bd. 3. Bismarck und das Reich, 3. Aufl., Stuttgart, 1988; Bd. 4. Struktur und Krisen des Kaiserreichs, 2. Aufl. Stuttgart, 1982.
16 Ватлин А.Ю., Невский С.И., Турыгин А.А. Указ. соч. С. 13–18.
17 Huber E.R. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. 3. S. 11, 20.
18 Ibid. Bd. 4. S. 344–346.
19 См., например, Рёль Дж.К.Г. Вильгельм II. Германский император 1888–1918 // Шиндлинг А., Циглер В. Кайзеры. Ростов-на-Дону, 1997. С. 510–538.
20 Huber E.R. Nationalstaat und Verfassungsstaat. Studien zur Geschichte der modernen Staatsidee. Stuttgart, 1965. S. 189.
21 Ibid. S. 192.
22 Eyck E. Das persönliche Regiment Wilhelms II Politische Geschichte des Deutschen Kaiserreiches von 1890 bis 1914. Erlenbach; Zürich, 1948.
23 Huber E.R. Nationalstaat und Verfassungsstaat… S. 231.
24 Boldt H. Deutsche Verfassungsgeschichte. Bd. 1. Von den Anfängen bis zum Ende des älteren deutschen Reiches 1806. München, 1984; Bd. 2. Von 1806 bis zur Gegenwart. München, 1984.
25 Reich und Länder. Texte zur deutschen Verfassungsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert / Hrsg. von H. Boldt. München, 1987.
26 Brandt H. Der lange Weg in die demokratische Moderne. Deutsche Verfassungsgeschichte von 1800 bis 1945. Darmstadt, 1998.
27 Ibid. S. 164.
28 Ibid. S. 169.
29 Kotulla M. Deutsche Verfassungsgeschichte: vom Alten Reich bis Weimar (1495–1934). Berlin; Heidelberg, 2008.
30 Баев В.Г. Германский конституционализм (конец XVIII – первая треть ХХ в.). Историко-правовое исследование. Тамбов, 2007; Его же. Европейский конституционализм после Наполеона (на примере Германии) // Журнал российского права. 2005. № 7 (103). С. 113–123; Его же. Парламентаризм в России и Германии: эпоха становления (последняя треть XIX – начало XX в.) // Правовая политика и правовая жизнь. 2009. № 3. С. 175–182; Его же. Генезис и развитие германского конституционализма в начале XIX – первой трети XX вв.: автореф. … докт. юр. наук. Тамбов, 2008; Боков Ю.А. Прусская трехклассная избирательная система (1849–1918 гг.) // Власть. 2009. № 10. С. 163–165; Его же. Зарождение избирательных прав пруссаков (19 ноября 1808 года – 30 мая 1849 года) // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5. Юриспруденция. 2012. № 2 (17). С. 99–105; и др.
31 Ерин М.Е. Кайзер Вильгельм II и крушение Германской империи // Франция – Россия, 1914–1918 гг.: от альянса к сотрудничеству. Материалы франко-российского коллоквиума. М., 2015. С. 86–87.
32 Röhl J. Ch. Kaiser, Hof und Staat. Wilhelm II und die deutsche Politik. München, 1995. S. 113.
33 Ватлин А.Ю., Невский С.И., Турыгин А.А. Указ. соч. С. 13.
34 Röhl J.Ch.G. Germany without Bismarck. The crisis of government in the Second Reich, 1890–1900. London, 1967; Idem. From Bismarck to Hitler. The problem of continuity in German history. London, 1970; Idem. Kaiser, Hof und Staat – Wilhelm II. und die deutsche Politik. München, 1987; Idem. Kaiser Wilhelm II. Eine Studie über Cäsarenwahnsinn (Schriften des Historischen Kollegs. Vorträge. Bd. 19). München, 1989; Idem. Wilhelm II: Bd. 1–3. München, 1993–2008. Bd. 1. Die Jugend des Kaisers, 1859–1888. 1993; Bd. 2. Der Aufbau der Persönlichen Monarchie, 1888–1900. 2001; Bd. 3. Der Weg in den Abgrund, 1900–1941. 2008.
35 Рёль Дж.К.Г. Указ. соч. С. 510–538.
36 Elias N. Die höfische Gesellschaft: Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie. Darmstadt, 1983.
37 Sombart N. Wilhelm II. Sündenbock und Herr der Mitte. Berlin, 1996.
38 Wehler H.-U. Krisenherde des Kaiserreichs 1871–1918…; Idem. Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918…
39 Макдоно Д. Последний кайзер Вильгельм Неистовый. М., 2004.
40 Fischer F. Griff nach der Weltmacht. Düsseldorf, 1984; в рус. переводе: Фишер Ф. Рывок к мировому господству: политика военных целей кайзеровской Германии в 1914–1918 гг. М., 2017.
41 König W. Wilhelm II. und die Moderne. Der Kaiser und die technisch-industrielle Welt. Paderborn, 2007.
42 Новикова М.В. Проблема исторической памяти в Германии в годы канцлерства Герхарда Шрёдера // Новая и новейшая история. 2020. № 4. С. 137–147.
43 Обобщение итоговой дискуссии научного коллоквиума «Империи, нации, регионы: имперские концепции в России и Германии в начале XX века» // Империи, нации, регионы. Имперские концепции в России и Германии в начале XX века / под ред. А.А. Чубарьяна, А. Виршинга. Берлин; Бостон, 2018. С. 141–144.
Об авторах
Анна Геннадьевна Матвеева
Институт всеобщей истории РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: annagmatveeva@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-3870-732X
Scopus Author ID: 57215188769
ResearcherId: AAS-6783-2020
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Баев В.Г. Генезис и развитие германского конституционализма в начале XIX – первой трети XX вв.: автореф. … докт. юр. наук. Тамбов, 2008.
- Баев В.Г. Германский конституционализм (конец XVIII – первая треть ХХ в.). Историко-правовое исследование. Тамбов, 2007.
- Баев В.Г. Европейский конституционализм после Наполеона (на примере Германии) // Журнал российского права. 2005. № 7 (103). С. 113–123.
- Баев В.Г. Парламентаризм в России и Германии: эпоха становления (последняя треть XIX – начало XX в.) // Правовая политика и правовая жизнь. 2009. № 3. С. 175–182.
- Боков Ю.А. Зарождение избирательных прав пруссаков (19 ноября 1808 года – 30 мая 1849 года) // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5. Юриспруденция. 2012. № 2 (17). С. 99–105.
- Боков Ю.А. Прусская трехклассная избирательная система (1849–1918 гг.) // Власть. 2009. № 10. С. 163–165.
- Ватлин А.Ю., Невский С.И., Турыгин А.А. Вильгельм II и система власти в Германии в конце XIX – начале ХХ века // Новая и новейшая история. 2023. № 3. С. 7–27. doi: 10.31857/S013038640024400-8
- Ерин М.Е. Кайзер Вильгельм II и крушение Германской империи //Франция – Россия, 1914–1918 гг.: от альянса к сотрудничеству. Материалы франко-российского коллоквиума. М., 2015. С. 86–87.
- Макдоно Д. Последний кайзер Вильгельм Неистовый. М., 2004.
- Новикова М.В. Проблема исторической памяти в Германии в годы канцлерства Герхарда Шрёдера // Новая и новейшая история. 2020. № 4. С. 137–147.
- Обобщение итоговой дискуссии научного коллоквиума «Империи, нации, регионы: имперские концепции в России и Германии в начале XX века» // Империи, нации, регионы. Имперские концепции в России и Германии в начале XX века / под ред. А. Чубарьяна, А. Виршинга. Берлин; Бостон, 2018. С. 141–144.
- Рёль Дж. Ч. Г. Вильгельм II. Германский император 1888–1918 // ред. А. Шиндлинг А., В. Циглер. Кайзеры. Ростов-на-Дону, 1997. С. 510–538.
- Ростиславлева Н.В. Рецепция темы Германской империи в юбилейных исторических нарративах России и Германии в XX веке // Новая и новейшая история. 2022. № 3. С. 91–100. doi: 10.31857/S013038640020239-0
- Филитов А.М. Бисмарк – Вильгельм – Гитлер: континуитет или разрыв традиции? // Новая и новейшая история. 2022. № 3. С. 82–90. doi: 10.31857/S013038640020238-9
- Фишер Ф. Рывок к мировому господству: политика военных целей кайзеровской Германии в 1914–1918 гг. М., 2017.
- Baev V.G. Evropejskij konstitucionalizm posle Napoleona (na primere Germanii) [European Constitutionalism after Napoleon (on the example of Germany)] // Zhurnal rossijskogo prava [Journal of Russian Law]. 2005. № 7 (103). S. 113–123. (In Russ.)
- Baev V.G. Genezis i razvitie germanskogo konstitucionalizma v nachale XIX – pervoj treti XX vv. [The genesis and development of German constitutionalism at the beginning of the 19th – first third of the 20th centuries]: avtoref. … dokt. yurid. nauk. Tambov, 2008. (In Russ.)
- Baev V.G. Germanskii konstitutsionalizm (konets XVIII – pervaia tret’ XX v.). Istoriko-pravovoe issledovanie Germanskii konstitutsionalizm (konets XVIII – pervaia tret’ XX v.) [German constitutionalism (late 18th – first third of the 20th century). Historical and legal research]. Tambov, 2007. (In Russ.)
- Baev V.G. Parlamentarizm v Rossii i Germanii: e’poxa stanovleniya (poslednyaya tret’ XIX – nachalo XX v.) [Parliamentarism in Russia and Germany: the epoch of formation (the last third of the 19th – the beginning of the 20th century)] // Pravovaya politika i pravovaya zhizn’ [Legal policy and legal life]. 2009. № 3. S. 175–182. (In Russ.)
- Bokov Yu.A. E’timologicheskie, pravovy’e i kul`turologicheskie aspekty’ upotrebleniya terminov “poddanstvo” i “grazhdanstvo” v Germanskoj imperii [Etymological, legal and cultural aspects of the use of the terms “citizenship” and “citizenship” in the German Empire] // Voprosy’ istorii [History issues]. 2021. № 1. S. 94–102. (In Russ.)
- Bokov Yu.A. Prusskaya tryoxklassnaya izbiratel’naya sistema [The Prussian three-class electoral system] (1849 1918 gg.) // Vlast’ [Power]. 2009. № 10. S. 163–165. (In Russ.)
- Bokov Yu.A. Ukaz korolya Prussii “o provedenii vy’borov deputatov vtoroj palaty’” ot 30 maya 1849 g.: normativnoe soderzhanie i praktika realizacii [Decree of the King of Prussia “on holding elections of deputies of the Second Chamber” dated May 30, 1849: normative content and implementation practice] // Legal Concept. Pravovaya paradigma. 2021. T. 20. № 1. S. 79–85. (In Russ.)
- Bokov Yu.A. Zarozhdenie izbiratel’ny’kh prav prussakov (19 noyabrya 1808 goda – 30 maya 1849 goda) [The origin of the electoral rights of the Prussians (November 19, 1808 – May 30, 1849)] // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 5. Yurisprudenciya [Bulletin of the Volgograd State University. Ser. 5. Jurisprudence]. 2012. № 2 (17). S. 99–105. (In Russ.)
- Erin M.E. Kaiser Vilhelm II i krushenie Germanskoj imperii // Frantsiya – Rossiya, 1914–1918 gg.: ot al’yansa k sotrudnichestvu. Materialy’ franko-rossiyskogo kollokviuma [Kaiser Wilhelm II and the collapse of the German Empire // France – Russia, 1914–1918: from alliance to cooperation. Materials of the Franco-Russian colloquium]. Moskva, 2015. S. 86–87. (In Russ.)
- Filitov A.M. Bismark – Vil’gel’m – Gitler: kontinuitet ili razry’v tradicii? [Bismarck – Wilhelm–Hitler: continuity or a break in tradition?] // Novaya i Novejshaya Istoriya [Modern and Contemporary History]. 2022. № 3. S. 82–90. doi: 10.31857/S013038640020238-9 (In Russ.)
- Fisher F. Ryvok k mirovomu gospodstvu: politika voennykh tselei kaizerovskoi Germanii v 1914–1918 gg. [The leap to world domination: the policy of military goals of Kaiser’s Germany in 1914–1918]. Moskva, 2017. (In Russ.)
- Makdono D. Poslednij kajzer Vil’gel’m Neistovy’j [The Last Kaiser Wilhelm the Furious]. Moskva, 2004.
- Novikova M.V. Problema istoricheskoy pamyati v Germanii v gody’ kanczlerstva Gerxarda Shryodera [The problem of historical memory in Germany during the Chancellorship of Gerhard Schroeder] // Novaya i noveyshaya istoriya [Modern and Contemporary History]. 2020. № 4. S. 137–147.
- Obobshhenie itogovoj diskussii nauchnogo kollokviuma “Imperii, nacii, regiony’: imperskie koncepcii v Rossii i Germanii v nachale XX veka” [Summary of the final discussion of the scientific colloquium “Empires, nations, regions: imperial concepts in Russia and Germany at the beginning of the 20th century”] // Imperii, nacii, regiony’. Imperskie koncepcii v Rossii i Germanii v nachale XX veka [Empires, nations, regions. Imperial concepts in Russia and Germany at the beginning of the 20th century] / pod red. A. Chubar`yana, A. Virshinga. Berlin; Boston, 2018. S. 141–144.
- Röhl J.Ch.G. Wilhelm II. Germanskiy imperator 1888–1918 // Kaisery [Kaisers] / red. A. Scnindling, W. Ziegler. Rostov-na-Donu, 1997. S. 510–538.
- Rostislavleva N.V. Recepciya temy’ Germanskoj imperii v yubilejny’x istoricheskix narrativax Rossii i Germanii v XX veke [Reception of the theme of the German Empire in the jubilee historical narratives of Russia and Germany in the 20th century] // Novaya i Novejshaya Istoriya [Modern and Contemporary History]. 2022. № 3. S. 91–100. doi: 10.31857/S013038640020239-0 (In Russ.)
- Vatlin A.Yu., Nevskij S.I., Turygin A.A. Vil’gel’m II i sistema vlasti v Germanii v konce XIX – nachale XX veka [William II and the system of power in Germany in the late 19th – early 20th century] // Novaya i Novejshaya Istoriya [Modern and Contemporary History]. 2023. № 3. S. 7–27. doi: 10.31857/S013038640024400-8 (In Russ.)
- Boldt H. Deutsche Verfassungsgeschichte. Bd. 1. Von den Anfängen bis zum Ende des älteren deutschen Reiches 1806. München, 1984; Bd. 2. Von 1806 bis zur Gegenwart. München, 1984.
- Brandt H. Der lange Weg in die demokratische Moderne. Deutsche Verfassungsgeschichte von 1800 bis 1945. Darmstadt, 1998.
- Conze W. Die Deutsche Nation. Ergebnis der Geschichte. Göttingen, 1963.
- Conze W. Gesellschaft – Staat – Nation. Gesammelte Aufsätze / Hrsg. von U. Engelhardt. Stuttgart, 1992.
- Das “lange” 19. Jahrhundert. Alte Fragen und neue Perspektiven / Hrsg. von N. Freytag, D. Petzold. München, 2007.
- Elias N. Die höfische Gesellschaft: Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie. Darmstadt, 1983.
- Eyck E. Das persönliche Regiment Wilhelms II Politische Geschichte des Deutschen Kaiserreiches von 1890 bis 1914. Erlenbach; Zürich, 1948.
- Fischer F. Griff nach der Weltmacht. Düsseldorf, 1984.
- Huber E. R. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. 1–8. Stuttgart, 1981–1990.
- Huber E.R. Nationalstaat und Verfassungsstaat. Studien zur Geschichte der modernen Staatsidee. Stattgart, 1965.
- König W. Wilhelm II. und die Moderne. Der Kaiser und die technisch-industrielle Welt. Paderborn, 2007.
- Kotulla M. Deutsche Verfassungsgeschichte: vom Alten Reich bis Weimar (1495–1934). Berlin; Heidelberg, 2008.
- Mommsen W.J. Das Zeitalter des Imperialismus. Frankfurt a. M., 1969.
- Mommsen W.J. Der autoritäre Nationalstaat. Verfassung, Kultur und Gesellschaft im Deutschen Kaiserreich. Frankfurt a. M., 1992.
- Mommsen W.J. Imperialismustheorien. Göttingen, 1987.
- Mommsen W.J. Max Weber und die deutsche Politik 1890–1920. Tübingen, 1959.
- Mommsen W.J. Nation und Geschichte. Über die Deutschen und die deutsche Frage. München, 1990.
- Nipperdey Th. Deutsche Geschichte, 1800–1866: Bürgerwelt und starker Staat. München, 1983.
- Nipperdey Th. Deutsche Geschichte, 1866–1918. Bd. 1. Arbeitswelt und Bürgergeist. Bd. 2. Machtstaat vor der Demokratie. München, 1990–1992.
- Nipperdey Th. Wie modern war das Kaiserreich?: Das Beispiel der Schule. Wiesbaden, 1986.
- Osterhammel J. Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München, 2009.
- Reich und Länder. Texte zur deutschen Verfassungsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert / Hrsg. von H. Boldt. München, 1987.
- Röhl J.Ch. G. From Bismarck to Hitler. The problem of continuity in German history. London, 1970.
- Röhl J.Ch. G. Germany without Bismarck. The crisis of government in the Second Reich, 1890–1900. London, 1967.
- Röhl J.Ch. Kaiser, Hof und Staat. Wilhelm II und die deutsche Politik. München, 1995.
- Röhl J.Ch.G. Kaiser Wilhelm II. Eine Studie über Cäsarenwahnsinn (Schriften des Historischen Kollegs. Vorträge. Bd. 19). München, 1989.
- Röhl J.Ch.G. Wilhelm II: 3 Bde. Bd. 1; Bd. 1–3. München, 1993–2008.
- Schieder Th. Das deutsche Kaiserreich von 1871 als Nationalstaat. Köln, 1961.
- Sombart N. Wilhelm II. Sündenbock und Herr der Mitte. Berlin, 1996.
- Stern F. Das Scheitern illiberaler Politik. Studien zur politischen Kultur Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt a. M., 1972.
- Torp C., Müller S.O. Das Bild des deutschen Kaiserreichs im Wandel // Das deutsche Kaiserreich in der Kontroverse / Hrsg. C. Torp, S.O. Müller. Göttingen, 2008. S. 9–30.
- Wehler H.-U. Bismarck und der Imperialismus. Köln u. a. 1969.
- Wehler H.-U. Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918 (Deutsche Geschichte. Bd. 9. Kleine Vandenhoeck-Reihe. 1380). Göttingen, 1973.
- Wehler H.-U. Krisenherde des Kaiserreichs 1871–1918. Studien zur deutschen Sozial- und Verfassungsgeschichte. Göttingen, 1970.
Дополнительные файлы