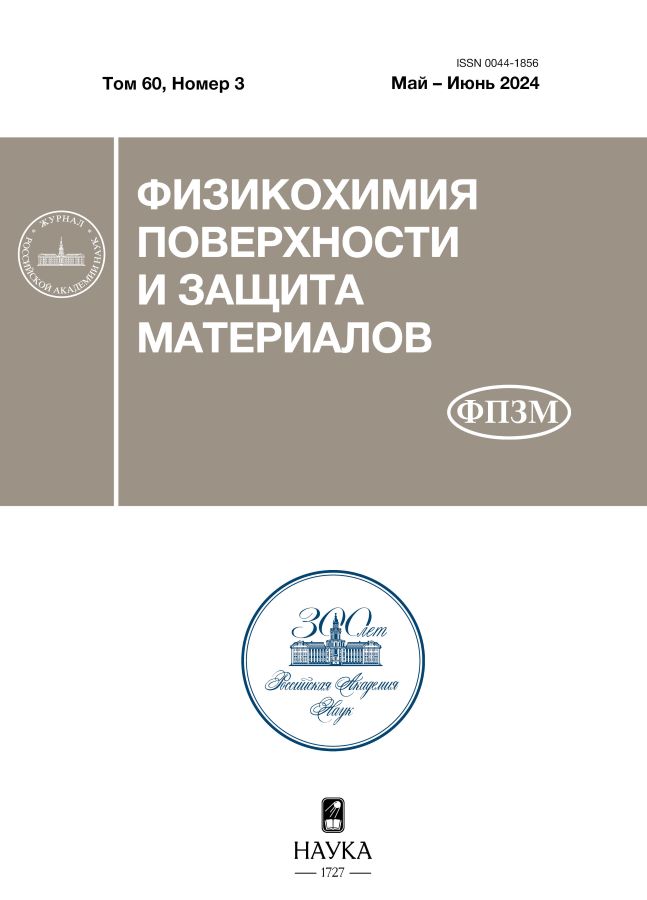Антикоррозионное покрытие на основе акрилового лака и наночастиц оксида цинка, полученных нанораспылительной сушкой
- Authors: Лямина Г.В.1, Шевченко И.Н.1, Двилис Э.С.1, Божко И.А.1, Илела А.Э.1
-
Affiliations:
- Национальный исследовательский Томский политехнический университет
- Issue: Vol 60, No 3 (2024)
- Pages: 314-323
- Section: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ МАТЕРИАЛОВ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0044-1856/article/view/271322
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044185624030103
- EDN: https://elibrary.ru/MDECHT
- ID: 271322
Cite item
Full Text
Abstract
В работе получено и протестировано антикоррозионное покрытие на основе акрилового лака и наноразмерного порошка оксида цинка, полученного на установке Nanospray Drying B-90. Методом потенциодинамической поляризации установлено, что эффективность защиты покрытия составляет 98 и 81% в кислой и нейтральной средах разбавленных электролитов, соответственно. На основании данных рентгенофазового анализа, оптической и электронной микроскопии, было показано, что добавка оксида цинка увеличивает число центров адгезии, обуславливая лучшее сцепление полимерного покрытия с подложкой и предотвращая проявление фазы Fe3C на поверхности.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Применение ингибиторов коррозии является эффективным, а в ряде случаев безальтернативным способом защиты металлов, поскольку позволяет замедлить процесс их разрушения без существенных затрат и смены технологии производства деталей и оборудования.
В настоящее время в качестве ингибиторов коррозии металлов разработан и опробован широкий класс синтетических и природных химических соединений: неорганические вещества, создающие прочный окисленный слой на поверхности, например, фосфаты, хроматы; органические вещества, защищающие металл за счет образования адсорбционного слоя или вступающие во взаимодействие с молекулами агрессивной среды; высокомолекулярные вещества [1–6].
Несмотря на многообразие современных ингибиторов, проблема коррозии металлов остается актуальной, и научные исследования, посвященные разработке новых, более эффективных и безопасных составов, проводятся постоянно.
В частности, использование антикоррозионных полимерных покрытий, являясь наиболее эффективным и экономичным способом защиты, имеет ряд ограничений, основными из которых являются возникновение дефектов внутри полимерной матрицы при отверждении, ухудшении адгезивных свойств в процессе эксплуатации и, как следствие, нарушение сплошности покрытия.
Существует несколько способов решения этой проблемы, преимущественно связанных с введением различных добавок, меняющих свойства полимерного покрытия.
Например, в полимерную матрицу можно добавлять низкомолекулярные ингибиторы для подавления коррозионных реакций, происходящих на микрогальванических элементах под покрытием [7]. Существенно улучшить как антикоррозионные, так и механические свойства полимера могут добавки наночастиц (НЧ) металлов и их оксидов, углеродных нанотрубок, гибридных соединений [8, 9].
Несмотря на более высокую стоимость, по сравнению с традиционными веществами в составе полимерных композиционных покрытий, применение НЧ предполагает малые концентрации, благодаря большей площади поверхности и комплексу уникальных свойств, отличающих их от объемных материалов.
В основном, в качестве добавок к антикоррозионным покрытиям используют оксиды металлов: циркония, церия, цинка и др. Например, авторы работы [10] показали усиление коррозионной защиты алюминиевых сплавов при использовании эпоксидных покрытий с добавками наночастиц оксидов церия и циркония; антикоррозионные свойства были существенно выше при комбинации CeO2 – ZrO2, за счет синергетического эффекта.
Наночастицы могут быть использованы как инертный носитель для ингибирующей добавки. Например, в работе [11] гибридные наночастицы CeO2-ZnO модифицировали бензотризалом и диспергировали их в полиолефиновой матрице, которая была использована для защиты углеродистой стали. Авторы [12] изучали эпоксидное покрытие с наночастицами кремнезема, модифицированного фосфатом кальция. Было показано, что инкапсуляция фосфата кальция в качестве ингибирующей добавки может улучшить антикоррозионные характеристики покрытия, предотвращая самопроизвольное растворение оксида кремния.
Ранее нами была показана возможность повышения антикоррозионных свойств органических ингибиторов природного и синтетического происхождения (тиомочевина, экстракт и масло пихты) при добавлении НЧ ZnO2 в их состав для защиты сталей. В основном, увеличение эффективности ингибирования было связано с морфологией частиц, получаемых на установке нанораспылительной сушки. Данный метод позволяет получать частицы оксидов металлов сферической формы диаметром 1–7 мкм, состоящие из кристаллитов с размером порядка 100 нм [13]. Такие частицы не склонны к агломерации, за счет чего равномерно распределяются в полимерной матрице.
В настоящей работе представлены результаты исследований антикоррозионного покрытия стали на основе акрилового лака (АЛ) и НЧ ZnO, полученных на установке Nanospray Drying B-90.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ
Для получения наночастиц готовили суспензии гидроксида цинка, методом химического осаждения из 1 M растворов ZnO(NO3)2 гидроксидом натрия. Твердую фазу извлекали на установке Nanospray Drying B-90 при следующих параметрах: скорость газового потока 140 л/мин., относительная интенсивность распыления – 56%, Т = 70°C [14]. Извлеченные порошки выдерживали при 350°С для образования оксида цинка. Все реактивы имели квалификацию хч, растворы готовили с использованием дистиллированной воды.
Полученные нанопорошки ZnO (С = =0.15% масс.) добавляли в дисперсию акрилового лака (ЗАО “Декарт”) и обрабатывали в УЗ-ванне (ODA-LG40) с мощностью воздействия 120 Вт, частотой 40 кГц в течение 15 мин для равномерного распределения частиц в объеме полимерного раствора.
Образцы стали У8А, используемой в качестве защищаемого металла, шлифовали наждачной бумагой (P320) и очищали этанолом. Ингибитор наносили равномерным слоем на поверхность стали при помощи тупфера.
Гравиметрические кривые строили по изменению массы стальных образцов в смеси концентрированных азотной и соляной кислот с концентрацией 2:3:5 = HNO3:HCl:H2O, об. % через равные промежутки времени (5 мин) в течение 25 мин. Три образца закрепляли одновременно во фторопластовом держателе после чего погружали в смесь кислот.
Для оценки морфологии частиц и поверхности стальных образцов была использована растровая электронная микроскопия (микроскоп JEOL JSM-7500FA).
Размер частиц определяли методом лазерной дифракции (Shimadzy SALD-7101) суспензии порошка оксида цинка в дистиллированной воде после УЗ-обработки в течение 5 мин при λ = 375 нм.
На ИК-Фурье-спектрометре ФСМ2202 с разрешением 4 см–1 регистрировали спектры поглощения полимерных пленок акрилового лака, сформированных на инертной подложке и на поверхности стали.
Оценку фазового состава поверхностей образцов до и после травления проводили на рентгеновском дифрактометре (Shimadzy XRD-7000S) в диапазоне от 20 до 90 градусов (2θ) со скоростью 1о/мин. и шагом 0.03о, рентгеновская трубка Cu. Расшифровку дифрактограмм проводили с использованием программного обеспечения “PowderCell”.
Потенциодинамические кривые были получены на потенциостате CorrTest C. 310 с трехэлектродной ячейкой со скоростью развертки 10 мВ/с. В качестве электролитов использовали 0.1 М раствор HCl и 3.5% раствор NaCl. Площадь рабочего электрода (сталь У8А) составляла 0.25 см2, в качестве вспомогательного электрода и электрода сравнения использовали насыщенные хлоридсеребряные электроды. Регистрировали два типа кривых: в потенциодинамическом режиме при анодной развертке (ПД) в диапазоне ±0.3 В относительно равновесного потенциала (потенциала разомкнутой цепи) и в режиме циклической развертки (ЦПД) от 0 до –0.6 В.
Основные параметры коррозионных процессов (потенциал, ток коррозии, коэффициенты Тафеля) были рассчитаны с помощью программного обеспечения потенциостата CorrTest C. 310 и определены графически в программе Origin 2021.
Эффективность антикоррозионного покрытия оценивали по формуле:
где i0 – плотность тока коррозии стали без покрытия, i1 – плотность тока коррозии стали с нанесенным покрытием.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После выделения порошков из суспензий на аппарате нанораспылительной сушки частицы представляют собой аморфную фазу гидроксида цинка. Для образования фазы оксида цинка их выдерживали при температуре 350 °С. На рис. 1 представлены РЭМ-изображения частиц порошка оксида цинка после термообработки и кривая распределения частиц по размерам, полученная методом лазерной дифракции. Частицы имеют выраженную пластинчатую морфологию (рис. 1а) с размерами от десятков до сотен нанометров. Согласно бимодальному распределению (рис. 1б), данный порошок представляет собой смесь изолированных частиц и агрегатов со средним размером 30 нм и 7 мкм, и объемным соотношением 4:1, соответственно.
Рис. 1. РЭМ изображения (а) и распределение по размеру (б) порошка ZnO, полученного нанораспылительной сушкой.
Концентрация частиц в растворе полимера – 0,15%, масс. – была подобрана ранее [15] на примере органических ингибиторов. После высыхания покрытия она составляла 0,21%, масс. Толщина пленки, формируемой на металле, составляла в среднем 130 мкм.
Для изучения коррозии покрытий в потенциодинамическом режиме были выбраны нейтральная (3.5% NaCl) и кислая (0.1 М HCl) среды. Коррозионные диаграммы при анодной развертке потенциала представлены на рис. 2а и 2б, в режиме циклической развертки – на рис. 2в и 2г, а рассчитанные из трех параллельных опытов электрохимические параметры процесса – в табл. 1.
Рис. 2. Потенциодинамические поляризационные кривые образцов У8А (1); У8А–АЛ (2), У8А–АЛ–ZnO (3) в 0,1 М HCl (а, в) и 0,6 М NaCl (г, д), полученные при анодной развертке потенциала (а, б) и в режиме циклической развертки (в, г).
Таблица 1 . Параметры коррозии стали У8А, полученные при различных режимах регистрации потенциодинамических кривых
Образец | 0.1 M HCl | 3.5% NaCl | ||||||
–Eкорр, мВ | iкорр, мкА | ba, мВ | η,% | –Eкорр, мВ | iкорр, мкА | ba, мВ | η,% | |
ПД | ||||||||
У8А | 352 ± 4 | 875 ± 143 | 158 ± 1 | – | 389 ± 36 | 44 ± 5 | 219 ± 3 | – |
У8А–АЛ | 271 ± 16 | 40 ± 9 | 96 ± 0,01 | 96 ± 1 | 263 ± 39 | 26 ± 8 | 198 ± 23 | 41 ± 19 |
У8А–АЛ–ZnO | 252 ± 64 | 21 ± 15 | 72 ± 0,01 | 98 ± 2 | 171 ± 15 | 8 ± 1 | 174 ± 6 | 81 ± 2 |
ЦПД | ||||||||
У8А | 449 ± 3 | 78 ± 2 | 696 ± 5 | – | 535 ± 12 | 13 ± 2 | 623 ± 16 | – |
У8А–АЛ | 234 ± 36 | 7 ± 2 | 496 ± 13 | 92 ± 3 | 457 ± 22 | 5 ± 3 | 703 ± 90 | 59 ± 25 |
У8А–АЛ–ZnO | 208 ± 91 | 1.2 ± 0.04 | 410 ± 113 | 98.4 ± 0.1 | 275 ± 5 | 0.85 ± 0.05 | 460 ± 103 | 93 ± 0.05 |
На диаграммах 2а и 2б (рис .2) наблюдается смещение потенциалов коррозии в обеих средах при использовании покрытий c наночастицами, их добавление приводит к положительному сдвигу потенциала по сравнению с покрытием без наночастиц и металлом без покрытия в среднем на 100 мВ в ряду У8А < У8А–АЛ < У8А–АЛ–ZnO. В нейтральной среде плотность тока коррозии снижается примерно в два раза, а в кислой среде – на порядок величины (табл. 1). Добавление наночастиц существенно повышает эффективность защиты покрытия в нейтральной среде – в полтора-два раза. В кислой среде влияние наночастиц менее существенно, что, очевидно, связано с диффузией ионов соляной кислоты в покрытие, которая может вызывать частичный коллапс полимерной матрицы в поверхностном слое [16]. По этой же причине в кислой среде разница плотности токов коррозии для образцов с покрытием и без него значительно выше, чем в нейтральной.
Результаты, полученные при циклическом изменении потенциала, сохраняют тенденцию, полученную при анодной развертке (табл. 1): сдвиг потенциалов коррозии в ряду У8А < У8А–АЛ < У8А–АЛ–ZnO; существенный вклад наночастиц в коррозионную защиту в нейтральной среде, 59 и 93%, соответственно, и менее значительный в кислой среде – 92 и 98,4%.
Изменение механизма электрохимических процессов наглядно демонстрируют потенциодинамические кривые при циклической развертке потенциалов, представленные в координатах I = f (E) на рис. 2в и 2г. Значительное снижение тафелевского наклона при нанесении покрытия наблюдается в обеих средах во всем исследуемом интервале потенциалов. В табл. 1. представлены значения коэффициента Тафеля для анодной развертки потенциалов в линейной области кривых.
Кривые изменения массы образцов сталей с покрытием и без получали в смеси концентрированных кислот HNO3 и HCl. Такой подход позволяют исключить влияние образующихся продуктов коррозии на поверхности стали и быстро оценить защитные свойства покрытия (рис. 3).
Рис. 3. Относительное изменение массы У8А (1), У8А–АЛ (2) и У8А–АЛ–ZnO (3) в смеси азотной и соляной кислот.
Образец стали без покрытия теряет 1,2% массы в течении первых 5 мин (кривая 1, рис. 3), что связано с растворением поверхностного слоя, включающего оксидную пленку, а затем скорость растворения повышается и составляет в среднем 0,34%/мин. Полимерное покрытие закономерно приводит к усилению коррозионной защиты (кривая 2, рис. 3) и существенное увеличение скорости расворения металла наблюдается только через 20 минут, что связано с частичным отслоением покрытия. Добавление НЧ ZnO усиливает защитные свойства покрытия (кривая 3, рис. 3). На всем временно́м участке наблюдается незначительное увеличение массы образцов У8А–АЛ–ZnO, что может быть вызвано диффузией растворителя в объем полимрной матрицы и образованием продуктов коррозии внутри нее и на межфазной границе.
Изменения, происходящие с полимерной матрицей в смеси кислот, изучали с помощью метода ИК-спектроскопии (рис. 4). Подробная расшифровка полос поглощения акрилового лака в жидком и отвержденном состоянии приведена в работах [17, 18]. Основные аналитические полосы, по которым можно делать выводы об изменениях в структуре полимера, – это валентные колебания карбонильной группы акрилатов в области 1730 см–1 (В); ОН-группы воды и полимера, связанной межмолекулярной водородной связью, – в области 3600–3000 см–1 (А); групп –CH3 – в области 2950 см–1, включая “плечо” при 2864 см–1 (Б). В области “отпечатков пальцев” (ниже 1500 см–1) сигналы плохо разрешаются и представляют меньший интерес.
Рис. 4. ИК-спектры поглощения акрилового лака в ИК области: 1 – АЛ, 2 – АЛ–ZnO, 3 – АЛ–У8А, 4 – АЛ–ZnO–У8А, 5 – АЛ–У8А, после травления; 6 – АЛ– ZnO–У8А, после травления.
Наблюдается существенное отличие между спектрами, зарегистрированными для лаков, отвержденных на инертной подложке (спектры 1, 2 на рис. 4) и полученных на поверхности стали (спектры 3–6 на рис. 4). Интенсивность сигналов значительно меньше для пленок, снятых с металлической поверхности. Это может свидетельствовать о том, что, во-первых, часть полимерных молекул остается на поверхности металла, во-вторых, часть функциональных групп полимерной матрицы расходуется на взаимодействие с ионами (сольватация), и частицами (адгезия) соединений железа. Разделить два этих процесса достаточно сложно.
При добавлении НЧ оксида цинка в полимерную матрицу наблюдается снижение интенсивности полосы поглощения при 3445 см–1 в два раза, при этом интенсивность остальных сигналов меняется незначительно (спектр 2, рис. 4). Скорее всего, это свидетельствует о том, что оксид цинка, являющийся гидрофобным материалом, вытесняет часть молекул воды из матрицы. Таким образом, частицы не связываются с функциональными группами полимера химическими или сильными водородными связями и, возможно, имеет место физическая адсорбция полимерных молекул на поверхности частиц.
После травления полимер сохраняет свою структуру (спектры 5, 6, рис. 4), так как положение и количество полос в спектре не меняется, однако возрастает их интенсивность. Это объясняется диффузией молекул растворителя в объем полимерной матрицы.
Таким образом, можно отметить, что структура полимера не меняется в процессе эксплуатации, при этом и частицы оксида цинка и продукты коррозии не связаны прочными химическими связями с функциональными группами полимера.
Процессы деструкции и отслоения покрытия в смеси концентрированных кислот можно наблюдать на оптических (рис. 5) и электронных изображениях (рис. 6). На поверхности стали, помимо дефектов шлифовки, наблюдаются точечные углубления, равномерно распределенные по поверхности (рис. 5а). При нанесении покрытия эти участки становятся больше (рис. 5б, 5в), что связано с лучшим сцеплением покрытия с подложкой на макродефектах. При добавлении наночастиц в состав полимерной матрицы сцепление с поверхностью стали усиливается, так как частицы снижают усадочное напряжение при высыхании пленки [19].
Рис. 5. Оптические изображения поверхность стали У8А до (а, б, в) и после (г, д, е) травления: а, г – У8А; б, д – У8А–АЛ; в, е – У8А–АЛ–ZnO.
Рис. 6. РЭМ изображения поверхности стали У8А–АЛ (а, б); У8А–АЛ–ZnO У8А (в, г) после выдержки в смеси концентрированных кислот в течение 15 мин.
После выдержки в кислоте оба покрытия сохранили защитные свойства (рис. 5д, 5е), на участках за все время коррозионного воздействия не наблюдалось нарушение сплошности покрытия, так как не обнаружилось пористой структуры, как в случае травления стали без покрытия.
При сравнении изображений 5д и 5е видно, что площадь областей, где наблюдается частичное отслаивание полимера от металлической основы, значительно меньше для покрытия с частицами оксида цинка. Это также видно при большем увеличении на РЭМ-изображениях образцов с покрытиями после выдержки в смеси кислот (рис. 6а и 6в).
Для покрытия с частицами оксида цинка наблюдается образование крупных включений (рис. 6г), которые могут быть связаны с агломерацией частиц оксида цинка и продуктов коррозии стали и образованием агрегатов “полимер – соединение металла”. Как было показано при регистрации ИК-спектров, в процессе выдержки образцов в концентрированной кислоте прочных связей полимер не образует. Поэтому возможный состав таких образований – это смесь оксидов или солей железа и цинка, закристаллизованных в порах полимерной матрицы. Для уточнения этого предположения был проведен рентгенофазовый анализ образцов (рис. 7).
Рис. 7. РФА стали У8А до (1’) и после (1, 2, 3) травления в смеси в смеси азотной и соляной кислот: 1, 1‘ – У8А; 2, – У8А–АЛ; 3 – У8А–АЛ–ZnO.
На рис. 7 представлены участки дифрактограмм поверхности образцов стали У8А до (кривая 1*) и после (кривые 1–3) коррозионных испытаний путем обработки их водным раствором смеси кислот HNO3 и HCl соответственно. На дифрактограммах всех исследуемых образцов присутствуют дифракционные линии, характерные для α-модификации железа с объемно-центрированной кубической решеткой (феррит), которая является основным компонентом инструментальной стали У8А. На поверхности инструментальной стали У8А без ингибитора после ее обработки водным раствором смеси кислот HNO3 и HCl (рис. 7, кривая 1) обнаружен карбид железа Fe3C, расчетная доля которого в поверхностном слое составляет 40%, масс. Инструментальная сталь марки У8А, содержащая 0,8%, масс. углерода, относится к сталям эвтектоидного класса с перлитной структурой, следовательно, ее равновесная микроструктура, полученная при комнатной температуре, представляет собой смесь феррита и цементита Fe3C. Во время коррозии такой стали ферритная фаза растворяется, в результате чего на поверхности стального образца остается пористый каркас из карбида железа. Учитывая, что карбид железа является проводником электрического тока, каркас карбида железа на поверхности стальных образцов может выступать в качестве дополнительной развитой катодной поверхности, способствующей протеканию коррозионных процессов при воздействии агрессивных веществ, что может приводить к увеличению скорости коррозии.
Результаты качественного рентгенофазового анализа образцов стали У8А с ингибитором в виде акрилового лака, подвергнутых воздействию водного раствора смеси кислот, показали, что основным продуктом коррозии в данном случае является метагидроксид железа β-FeOOH (рис. 7, кривая 2). Следует отметить, что на данной дифрактограмме дифракционные линии, характерные для метагидроксида железа, имеют значительное уширение. Это позволят нам сделать заключение, что формируемый β-FeOOH находится в “квазикристаллическом состоянии”, структура которого состоит из смеси кристаллитов и аморфной фазы. Количественный рентгенофазовый анализ образцов стали У8А с ингибитором в виде акрилового лака позволил установить, что доля a-Fe составляет 74, а β-FeOOH – 26%, масс.
После воздействия водного раствора смеси кислот HNO3 и HCl на исследуемый образец стали У8А с акриловым лаком, содержащего наночастицы ZnO, основным продуктом коррозии также является метагидроксид железа β-FeO(OH). Однако в данном случае наблюдается изменение количественного соотношения обнаруженных фаз: = доля α-Fe уменьшается до 67, а β-метагидроксида железа увеличивается до 33%, масс. Фаза β-метагидроксида железа является нестабильной, возможно функциональные группы полимера стабилизируют ее внутри матрицы. При длительной выдержке на воздухе или в агрессивной среде она может перейти в α-форму.
Таким образом, полимерная матрица препятствует удалению поверхностного слоя стали при коррозии и проявлению фазы карбида железа на поверхности, так как препятствует доступу к поверхности металла молекул агрессивной среды.
По данным РФА можно идентифицировать фазовый состав крупных образований на поверхности У8А–АЛ–ZnO после травления, обнаруженный на РЭМ изображениях – это метагидроксид железа. Большее количество этой фазы для данного образца по сравнению У8А–АЛ свидетельствует о том, что наночастицы оксида цинка могут выступать центрами кристаллизации FeO(OH).
ВЫВОДЫ
- На основе результатов ускоренных гравиметрических испытаний в растворе HNO3–HCl была показана эффективность антикоррозионного покрытия на основе акрилового лака с добавкой наночастиц ZnO: за 25 минут пребывания в среде концентрированных кислот металл не теряет массу, в то время как сталь, покрытая акриловым лаком и сталь без покрытия теряет 1 и 8%, масс., соответственно.
- На основании электрохимических испытаний показано, что при анодной развертке потенциала эффективность защиты для стали У8А в 0,1 М HCl и 3,5% NaCl составляет 97 и 81%; при циклической развертке – 98,4 и 93,2%, соответственно.
- Данные ИК-спектроскопии показывают, что полимерное покрытие в ходе коррозионных испытаний сохраняет свою структуру и не образует прочных связей ни с нанопорошком ни с продуктами коррозии.
- По результатам рентгенофазового анализа установлено, что использование покрытия АЛ-ZnO в растворе HNO3–HCl приводит к образованию фазы метагидроксида железа β-FeO(OH) и предотвращает проявление участков фазы Fe3C, что свидетельствует об отсутствии контакта стали с агрессивной средой.
- На основании данных оптической и электронной микроскопии было показано, что добавка оксида цинка увеличивает число центров адгезии и обуславливает лучшее сцепление полимерного покрытия с подложкой.
- Морфология частиц, получаемых на установке нанораспылительной сушки, позволяет получать суспензии в растворе полимера с равномерным распределением при обычном перемешивании и, как следствие, формировать защитные покрытия с усиленными антикоррозионными свойствами.
About the authors
Г. В. Лямина
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Email: ins16@tpu.ru
Russian Federation, Томск, 634050, пр. Ленина, 30
И. Н. Шевченко
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Author for correspondence.
Email: ins16@tpu.ru
Russian Federation, Томск, 634050, пр. Ленина, 30
Э. С. Двилис
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Email: ins16@tpu.ru
Russian Federation, Томск, 634050, пр. Ленина, 30
И. А. Божко
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Email: ins16@tpu.ru
Russian Federation, Томск, 634050, пр. Ленина, 30
А. Э. Илела
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Email: ins16@tpu.ru
Russian Federation, Томск, 634050, пр. Ленина, 30
References
- Aslam R., Mobin M., Zehra S., Aslam J. // Journal of Molecular Liquids. 2022. V. 364. 119992.
- Aiad I., Shaban S.M., Moustafa H.Y., HamedA. // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2018. V. 54. P. 135–147.
- Петрунин М.А., Гладких Н.А., Малеева М.А. и др. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2021. Т. 57 № 2. С. 198–214.
- Петрунин М.А., Максаева Л.Б., Рыбкина А.А. и др. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2022. Т. 58 № 5. С. 503–520.
- Ayoub O., Noureddine L., Mohamad T. et al. // Journal of Molecular Liquids. 2022. V. 354. 118862.
- Farhadi S.S., Aliofkhazraei M., Darband Gh.B. et al. // Journal of Materials Engineering and Performance. 2017. V. 26. P. 4797–4806.
- Lamprakou Z., Bi H., Weinell C.E. et al. // Progress in Organic Coatings. 2022. V. 165. 106740.
- Lakshmi R.V., Aruna S.T., Sampath S. // Applied Surface Science. 2017. V. 393. P. 397–404.
- Huang Y., Liu T., Ma L. et al. // Materials & Design. 2022. V. 214. 110381.
- Živković Lj.S., Jegdić B.V., Andrić V.D. et al. // Progress in Organic Coatings. 2019. V. 36. 105219.
- Habib S., Nawaz M., Kahraman R. et al. // Journal of Science: Advanced Materials and Devices. 2022. V. 7. I.№ 3. С. 100466.
- Lamprakou Z., Bi H., Weinell C.E. et al. // Progress in Organic Coatings. 2022. V. 165. С.106740.
- Лямина Г.В., Шевченко И.Н., Данилова Т.В. // Бутлеровские сообщения. 2022. Т. 71. № 7. C. 20–28.
- Лямина Г.В., Илела А.Э., Двилис Э.С., Петюкевич М.А., Толкачев О.С. // Российские нанотехнологии. 2018. Т. 13. № 5–6. С. 124–130.
- Лямина Г.В., Илела А.Э., Качаев А.А., и др. // Бутлеровские сообщения. 2013. Т. 33. №2. С.119–124.
- Н.С. Карибьянц, Стародубцев С.Г., Филиппова О.Е. // Высокомолекулярные соединения. 1993, Т. 35. № 4. С. 403–407.
- Жданова И.В., Газеев М.В., Жданов Н.Ф., Васянина Н.С. // Вестник Казанского технологического университета. 2012. №19. С. 56–58
- Learner T., Gallery T. // Postprints: IRUG2 meeting. 1998. P. 7–20.
- Пашаев А.М., Джанахмедов А.Х., Алиев А.А. // Физическая мезомеханика. 2019. № 22. С. 95–100.
Supplementary files