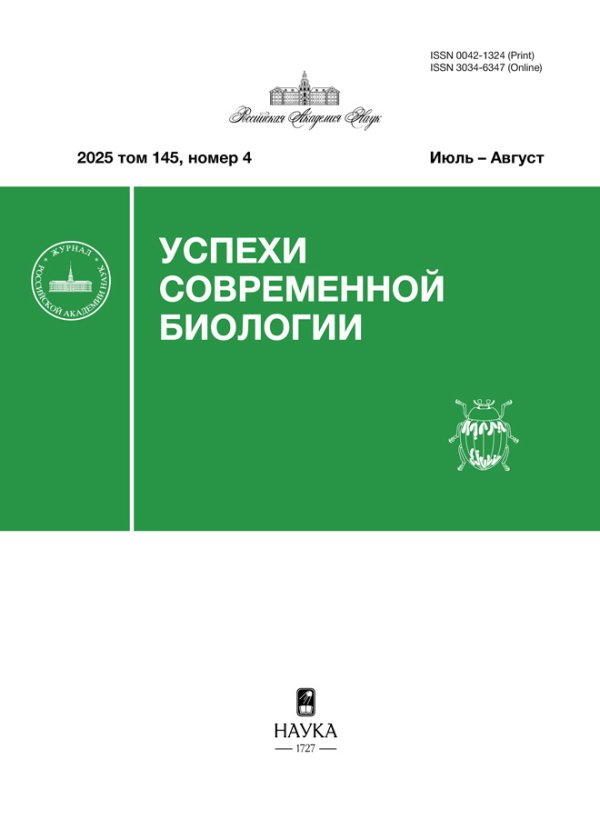Пути реализации единой триады регионального мониторинга лесных экосистем на современном этапе глобального потепления
- Авторы: Коломыц Э.Г.1
-
Учреждения:
- Институт фундаментальных проблем биологии
- Выпуск: Том 144, № 1 (2024)
- Страницы: 64-79
- Раздел: Статьи
- Статья получена: 13.08.2024
- Статья одобрена: 13.08.2024
- Статья опубликована: 13.08.2024
- URL: https://bakhtiniada.ru/0042-1324/article/view/261679
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0042132424010052
- EDN: https://elibrary.ru/RXPALL
- ID: 261679
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Развиваются выдвинутые ранее автором программные положения по геосистемному мониторингу лесов в связи с современными изменениями климата. Стратегия поиска представлена в форме экспериментального геоэкологического анализа (на примере лесных экосистем Волжского бассейна), с реализацией полной триады мониторинга состояние–контроль–управление, согласно концепции Израэля–Герасимова. Рассмотрены теоретические и научно-методические основы геосистемного мониторинга, приведены разработанные автором методы базового и прогнозного эмпирико-статистического моделирования функциональных и структурных характеристик лесных биогеоценозов. Комплексный ландшафтно-экологический подход к мониторингу представлен анализом и прогнозом климатогенных изменений трех групп инвариантных показателей структурно-функциональной организации лесных биогеосистем: 1) численных параметров, характеризующих тесноту межкомпонентных связей (как показателя территориальной целостности гео(эко-)системы); 2) первичной биопродуктивности как основного показателя работы биологического круговорота; 3) индекса лабильной (фитоценотической) устойчивости гео(эко-)систем как интегральных показателей их экологического резерва. Представлен рабочий алгоритм геосистемного мониторинга лесов, в котором изложена последовательная смена стадий наблюдения, прогноза и регуляции с выявлением эффектов митигации и адаптации по углеродным балансам лесных экосистем.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Среди основных проблем современной экологии человека следует назвать, во-первых, оценку состояния качества природной среды, характеризуемого геофизическими, геохимическими и биотическими параметрами, а во-вторых, установление экологического резерва гео(эко-)систем и предельно допустимых антропогенных нагрузок в целях разработки принципов экологического нормирования с учетом экономических и социальных аспектов. Перечисленные вопросы входят в перечень задач двух основных направлений мониторинга — биоэкологического (Израэль, 1984) и геосистемного (Герасимов, 1985). Мониторинг включает “… наблюдения за факторами воздействия и состояния окружающей среды, прогноз ее будущего состояния и оценку фактически прогнозируемого состояния природной среды” (Израэль, 1984, с. 11). При этом “проблема регулирования (и управления) качества природной среды опирается на экологическое прогнозирование и требует построения эколого-экономических моделей” (там же, с. 16). Всю систему контроля над окружающей средой (Израэль, 1974; Герасимов, 1975) кратко можно охарактеризовать следующей триадой: наблюдение (оценка состояния)—контроль (прогноз)—управление (регулирование).
Основное содержание геосистемного мониторинга, по определению (Герасимов, 1975, 1985), составляют комплексный анализ состояния гео(эко-)систем как целостных природных образований и как разнопорядковых структурных единиц биосферы, оценка их устойчивости к внешним воздействиям, а также прогнозирование их антропогенных изменений.
В традиционном геоэкологическом мониторинге обычно рассматриваются экологические последствия преимущественно очаговых антропогенных воздействий на природную среду: агро- и лесопромышленного, индустриального, транспортного. Особенно широко известны исследования по биоиндикации техногенного загрязнения природных сред. К настоящему времени получило развитие изучение возможных функциональных и структурных преобразований природных экосистем под влиянием фоновых антропогенных изменений климата, в том числе современного глобального потепления как актуальной экологической проблемы человечества (Состояние и …, 2001).
Экологическая безопасность континентальной биосферы существенно зависит от состояния зонально-региональных типов природных экосистем и в первую очередь лесного покрова (Сукачев, 1972), который играет на суше основную роль в смягчении климатических колебаний (Швиденко и др., 2017). В глобальной и жизненно необходимой для человека функции растительности экологическая роль лесов особенно велика — и прежде всего в лесодефицитных регионах. Необходимость сохранения воспроизводства лесных ресурсов на южной границе лесной зоны умеренных широт, где лесные сообщества находятся в состояниях, близких к критическим, относится к числу фундаментальных экологических проблем. Она всегда была актуальной для России, в пределах которой обширная переходная полоса от леса к степи, то есть бореальный экотон (Коломыц, 2008), входит в индустриальное и демографическое “ядро” нашей страны. На примере бореального экотона Волжского бассейна проведено обоснование путей и методов установления тех параметров структурно-функциональной организации лесных экосистем юга бореального пояса и севера пояса суббореального, которые наиболее чувствительны к глобальным климатическим изменениям и которые, следовательно, могут быть использованы для проведения регионального геосистемного мониторинга.
Настоящее сообщение развивает представленные ранее автором (Коломыц, 2001) научно-методические аспекты геосистемного мониторинга. Новым является описание этих аспектов в форме экспериментального ландшафтно-экологического исследования с реализацией полной триады мониторинга наблюдение–прогноз–управление. Проблема климатогенного геосистемного мониторинга лесов освещается на основе эмпирически устанавливаемых локальных и региональных ландшафтных связей, которые рассматриваются в качестве механизмов метаболической реакции лесных биогеосистем на климатические тренды, в том числе на современное глобальное потепление (Коломыц, 2008, 2018).
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЛЕСОВ
С самого начала своих исследований Ю.А. Израэль подчеркивал, что мониторинг в его полном объеме должен включать не только “слежение” (повторные наблюдения), но “… также оценку и прогноз состояния среды … и регулирование качества среды” (1984, с. 11, 12), то есть реализацию его всей операционной триады (см. выше). К сожалению, это важнейшее методологическое положение учения о геоэкологическом мониторинге выполняется крайне редко, особенно в региональных и локальных экологических исследованиях, хотя каждый раз упоминается сам термин “мониторинг”. Как в отечественной, так и зарубежной литературе по мониторингу подавляющее большинство работ ограничивается анализом исходного (базового) состояния природных и антропогенных экосистем и в лучшем случае — выявлением причинно-следственных связей динамики почвенно-биотических компонентов с изменениями климата как основы для экологических прогнозов.
Дадим несколько примеров, излагающих конкретные экологические исследования и характеризующих лишь первый этап геоэкологического мониторинга. Планетарные дистанционные данные по распределению и динамике растительности и построенные по ним карты окружающей среды рассмотрены как потенциал для мониторинга и моделирования воздействия глобальных изменений климата на растительные сообщества (Franklin et al., 2017). Проведенные в течение 1993–2003 гг. по Программе BERMS измерения потоков СО2 над бореальными лесами провинции Саскачеван (Канада) выявили отрицательную роль засухи в поглощении углерода лиственными насаждениями (Kljun et al., 2007). Описан комплекс инвентаризации лесонасаждений Новой Зеландии (преувеличенно названный как “система мониторинга”), который в сочетании с моделями используется для облегчения прогнозирования запасов углерода в лесах (Beets et al., 2011).
Весьма значителен спектр аналогичных исследований на территории России. Разработаны новые подходы к оценкам климатически обусловленной чистой продукции лесных экосистем как объективного показателя их реакции на климатические изменения (Швиденко и др., 2017). Осуществлены 7-летние круглогодичные наблюдения за потоками СО2 из дерново-подзолистых почв под лесной и луговой растительностью в Окском бассейне (Курганова и др., 2007). Этот эксперимент назван “многолетним мониторингом” в его весьма распространенной редуцированной трактовке. Проведены многочисленные опыты изучения влияния современных метеорологических и климатических условий на состояние, фенологию и тренды растительных сообществ в различных регионах Русской равнины, а также Среднего и Южного Урала (Гордиенко, 2017; Иванова, Скок, 2019; Максимова и др., 2021 и др.).
Особняком от тематики выше перечисленных и многих других аналогичных исследований стоят весьма содержательные работы второго этапа мониторинга — по региональному и планетарному эколого-географическому прогнозу, а также по прогнозированию углеродного баланса лесов. Здесь можно отметить прогнозные сценарии климатогенных изменений зональных и региональных экосистем Русской равнины, Западной и Средней Сибири (Кобак и др., 2002; Коломыц, 2008; Tchebakova et al., 2009). По климатическим сценариям прогнозных моделей ECHAM4/OPYC3 и HadCM3 рассчитаны и закартированы возможные изменения продуктивности растительного покрова России в XXI в. на основе ее современной геофизической ординации (Голубятников и др., 2005). Разработаны прогнозные аналитические и картографические модели углеродного баланса лесов России, основанные на интегральной наземной и спутниковой информации (Замолодчиков и др., 2011; Швиденко, Щепащенко, 2014 и др.). Сочетание глобальной модели растительности DGVM (dynamic global vegetation model) и модели общей циркуляции атмосферы позволило рассчитать и закартировать на основе спутниковых данных запасы и баланс углерода в лесах и почвах Центральной Сибири (Quegan et al., 2011).
Третий, заключительный этап мониторинга — управление (регулирование) находится еще в состоянии выдвигаемых определений, концептуальных гипотез и предлагаемых научно-методических программ. Прежде всего, речь идет об экологическом нормировании как системе ограничений антропогенных воздействий рамками экологических возможностей (Израэль, 1986). Управление природными экосистемами обеспечивается введением контура их отрицательной обратной связи с климатом. Следует отметить также предложенное понятие “геоинженерия климата” как целенаправленное изменение параметров климатической системы с целью предотвращения катастрофических экологических последствий глобального потепления (Израэль, Рябошапко, 2011).
Глобальные прогнозные оценки роли лесного покрова в регуляции парникового эффекта атмосферы представлены в мелкомасштабных сценариях углеродного бюджета циркумполярных бореальных лесов Евразии и Северной Америки на основе корреляционных связей их биомов с ареалами температуры и осадков (Швиденко и др., 2017; Gauther et al., 2015). Весьма конструктивной является выдвинутая концепция “мониторинга адаптации”, которая расширяет существующую систему климатического мониторинга и представляет его заключительный этап в качестве “мониторинга климатической деятельности — смягчения климатических колебаний (митигации) и адаптации” (Романовская, 2019).
В целом решение экологических задач по оценке роли лесов в смягчении глобального потепления не получило еще широкого распространения. Соответственно единичными оказываются работы по изучению потенциала этого смягчения средствами лесного хозяйства (Швиденко и др., 2017). В обобщающей сводке Европейского Института леса (Леса России … и др., 2020) лишь ставятся вопросы об устойчивом и климатически оптимизированном лесоуправлении и лесовосстановлении для смягчения последствий изменения климата и развития лесной биоэкономики замкнутого цикла. Редким исключением является фундаментальная разработка стратегий управления лесами Национальных парков США в целях повышения их способности связывать атмосферный углерод и адаптироваться к ожидаемым изменениям климата (Ontl et al., 2020).
Беглый (и весьма неполный) обзор отечественной и зарубежной литературы показывает, что каждая из трех частей триады геоэкологического мониторинга к настоящему времени уже получила самостоятельное научно-методическое развитие, однако остается практически неосвещенной их интеграция в единую операционную систему локального и/или регионального мониторинга. Провозглашенная почти 50 лет назад рамочная концепция геоэкологического мониторинга оказалась до сих пор не реализованной. По-прежнему стоит задача осуществления полного цикла климатогенного мониторинга лесов наблюдение–контроль–управление на примере конкретного экорегиона, с разработкой единой системы моделирования состояния лесных экосистем в прошлом, настоящем и будущем, а также соответствующих прямых и обратных связей леса с климатом. Предлагаемые подходы к проведению такого экологического эксперимента локально-регионального порядка изложены в настоящем сообщении.
ИСХОДНЫЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Если для слежения за общими климатогенными изменениями состояния зонально-региональных типов природной среды широко используются методы дистанционного радиометрического и лазерного зондирования с применением геоинформационных технологий (Барталев, Исаев, 2004; Franklin et al., 2017; Santoro et al. 2021 и др.), то “… методология традиционных полевых наблюдений … остается наилучшей для мониторинга постепенной трансформации фитоценозов, включая экзогенные сукцессии” (Израэль и др., 1993, с. 11). Будучи территориально достаточно ограниченными, наземные крупномасштабные исследования дают несоизмеримо более разнообразный и глубокий по своему содержанию материал по сравнению с данными сканирующих радиометров и лазерных локаторов при дистанционном зондировании лесного покрова обширных территорий со спутников, дронов и беспилотных вертолетов. Например, обнаружено, что содержание карт дистанционного зондирования по глобальному пулу биомассы для тропических и субтропических лесов и лесов умеренного пояса имеют отклонения от данных наземной инвентаризации от 25 до 120% (Rodriguez-Veiga et al., 2016; Santoro et al., 2021). Не случайно также результаты повторного дистанционного зондирования бореальных лесов Центральной Канады в 1990–2009 гг. верифицировались материалами наземных исследований (Gamon et al., 2004; Stinson et al., 2011). Только наземная коррекция фитомассы лесов на ключевых участках позволила поднять точность разрешения спутниковых данных по Марийскому Заволжью до 57–87% (Курбанов и др., 2010).
Рациональная система геоэкологического мониторинга должна базироваться на уже имеющихся достижениях в практике изучения и регулирования состояния окружающей среды (Израэль и др., 1981). Отправной точкой научного поиска по климатогенному мониторингу могут служить теоретические и методические разработки локальных и региональных ландшафтно-экологических прогнозов по Волжскому бассейну, которые были получены автором (Коломыц, 2008, 2018, 2020). Отметим основные результаты этих исследований.
- Региональное прогнозное моделирование исходит из принципов актуализма и самоподобия прогнозно-климатической системы и основано на пространственных взаимосвязях гидротермических параметров. Эти связи используются, согласно закону эргодичности, для установления временно́й траектории состояний гео(эко-)систем. В основу прогнозных построений положены современные ландшафтно-геофизические связи в регионе, замыкающиеся на растительном покрове, почвах и первичной биопродуктивности. Известно (Высоцкий, 1960), что гидроэдафический фактор является определяющим в пространственной дифференциации геосистем малой размерности. Через гидроэдафотопы осуществляется управляющее воздействие глобальной климатической системы, и по ним можно проследить движение и преобразование вещественно-энергетических и информационных сигналов по иерархической лестнице геосистем — от субпланетарных через региональные до локальных.
- Установлено, что для равнинных и низкогорных территорий умеренного пояса замыкающими звеньями в системе региональных связей гидротермических параметров являются летние запасы продуктивной влаги в почве, которые оказывают прямодействующее влияние на распределение фитоценологических и почвенных объектов. Обнаружены высокие корреляции летнего влагосодержания почвы с двумя параметрами глобальных и региональных климатических прогнозов: со средней температурой июля и годовым количеством осадков (соответственно обратная и прямая экспоненциальные зависимости).
- При прогнозных оценках на первые несколько десятков лет с точки зрения времен релаксации объектов первостепенное внимание должно быть уделено не структурным преобразованиям гео(эко-)систем, а направленной смене их функционирования. Речь идет об изменениях скорости малого биологического круговорота и о переходе экосистемы на новый уровень сбалансированности продукционной и детритной ветвей метаболизма. Такие процессы занимают в таежной зоне первые несколько лет, а в подзоне широколиственных лесов завершаются в течение года. Эти характерные времена функциональной релаксации примерно соответствуют продолжительности углеродного цикла в лесных фитомассах (живых и мертвых) и мобильном гумусе почвы. Функциональная релаксация (сдвиги в малом биологическом круговороте) как первоочередная реакция экосистем на внешнее воздействие является приоритетным объектом ландшафтно-экологического прогнозирования и в целом мониторинга.
- Существенным корректирующим фактором климатогенных преобразований почвенно-растительного покрова служит функциональный изоморфизм природных экосистем. Основные структурные перестройки у экосистемы должны быть избирательными — предпочтительными в направлении тех систем, которые функционально изоморфны ей, то есть имеют с ней наибольшее сходство либо по первичной биопродуктивности (показателю автотрофного биогенеза), либо по подстилочно-опадному коэффициенту (параметру, отображающему скорость прохождения органики по детритной ветви метаболизма). Фактор функционального изоморфизма позволяет определить наиболее вероятные направления фитоценологических и почвенных переходов среди того их множества, которое вырисовывается в результате прогнозно-экологических расчетов.
Из двух главных метаболических циклов, определяющих функциональный изоморфизм, — водно-балансового и биогеохимического — явный приоритет остается за вторым циклом. Как показал региональный информационный анализ (Коломыц, 2018), структурная перестройка экосистем на три четверти определяется сдвигами в малом биологическом круговороте и лишь на одну четверть зависит от изменений режимов тепловлагообмена. В этом состоит основной механизм воздействия функциональной релаксации экосистем на релаксацию структурную. При внешнем возмущении экосистема “выбирает” ту траекторию своих структурных преобразований, которая отвечает наименьшим изменениям процессов ее функционирования и которая тем самым быстрее обеспечивает ей новую устойчивость.
ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ПОИСКА
Одним из наиболее перспективных направлений исследований в области климатогенного геосистемного мониторинга может быть постановка серии экспериментов по изучению механизмов локального отклика на глобальные и региональные гидроклиматические сигналы с выявлением системы передаточных и трансформирующих функций в ландшафтных связях. Экотонный спектр природных зон, охватывающий основной водосбор Волжского бассейна, — весьма благоприятная модельная территория для проведения таких экспериментов. В условиях экотонов лесные сообщества обладают повышенной чувствительностью к внешним воздействиям (Сочава, 1979; Соколов, Пузаченко, 1986).
Сложность выявления антропогенной составляющей в глобальных изменениях природной среды в значительной мере связана с многозначностью реакции разнопорядковых ландшафтных структур и их элементов на одни и те же фоновые возмущения, что выдвигает на первый план проблему иерархии масштабов этой реакции и ее пространственной интеграции. В основе интеграционной пирамиды лежит структурно-функциональная организация природных комплексов локального уровня.
Ландшафтно-экологический подход к разработке геосистемного мониторинга рассматривает природные комплексы локального (топологического) уровня (ландшафтные фации, или биогеоценозы) в качестве исходных объектов анализа. Стратегическая цель наземных мониторинговых исследований состоит в развитии применительно к обширной зоне перехода от бореального пояса к поясу суббореальному прогнозной топоэкологической концепции “Глобальные изменения на локальном уровне” как научно-методической основы локального геосистемного мониторинга глобальных изменений (Коломыц, 2008). Продуктивное значение этой концепции состоит в том, что биогеоценоз как элементарная ячейка биогеохимической работы биосферы (Тимофеев-Ресовский, 1970) представляет собой “… первичный аппарат энергетического и материального обмена” (Сочава, 1974, с. 5) и, следовательно, наиболее дробное проявление системной общности различных природных компонентов, возникающей на основе закономерностей, действующих на земной поверхности. Сфера геотопов представляет собой наиболее комплексную и активную часть природной среды, ее функциональное ядро. Здесь сосредоточены истоки механизмов реакции биосферы на внешние воздействия.
Одним из перспективных направлений исследований может быть постановка серии экспериментов по изучению механизмов локального отклика на фоновые гидроклиматические сигналы с выявлением системы передаточных и трансформирующих функций в ландшафтных связях. Переход лесных экосистем в критическое состояние должен происходить в форме цепных реакций в системе межкомпонентных и межкомплексных ландшафтных связей. Важнейшими звеньями этих связей служат показатели первичного продукционного процесса и разложения мертвого органического вещества. Чем ниже ранг геосистемы, тем сложнее структура окружающей ее среды (Сочава, 1974), поэтому следует ожидать, что цепные реакции наиболее отчетливо проявляются именно на локальном уровне. Чтобы выявить множество таких реакций, необходимо располагать массовым эмпирическим материалом, который может быть получен в результате крупномасштабных ландшафтно-экологических съемок на специально подобранных для этого модельных полигонах (Коломыц, 2008). Весь спектр пробных площадей на каждом полигоне должен охватывать свойственное данному экорегиону основное разнообразие геоморфологических условий и почвенно-фитоценотических структур.
Рис. 1 и 2 и табл. 1 демонстрируют эмпирическую имитацию регионального биоклиматического тренда экосистемами локального уровня. Устанавливаются закономерности преломления зонально-регионального биоклиматического фона местными геоморфологическими и гидроэдафическими факторами. В результате такого преломления формируются региональные системы локальной зональности, состоящие из векторных рядов плакорных биогеоценозов (Высоцкий, 1960), отражающих зонально-региональный фон данной территории, и экстразональных топоэкосистем как представителей других зональных типов географической среды, нередко весьма удаленных. Эти пространственно упорядоченные (катенарные) системы адекватны вектору прогнозируемых изменений климата и поэтому способны имитировать основные направления и масштабы экосистемных перестроек, создавая эмпирическую основу для прогнозных построений. Пространственные последовательности заменяются на временны́е и по векторному спектру топологической полизональности намечаются соответствующие цепочки местных биогеоценотических переходов. Создается общий сценарий реакции локальных экосистем на те или иные климатические сдвиги. Таков механизм локальной эмпирической имитации регионального биоклиматического тренда, лежащей в основе методики ландшафтно-экологического прогнозирования.
Рис. 1. Схема катенарной организации ландшафтных фаций (биогеоценозов) и их групп в условиях равнинного и низкогорного рельефа. Перенос влаги и вещества в почве и рыхлых отложениях: 1 — в вертикальном направлении; 2 — вдоль склона; 3 — литодинамические и воздушные потоки; 4 — уровень грунтовых вод; 5 — водоем. Локальные типы местоположений (по: Высоцкий, 1960; Глазовская, 1964): Э — элювиальный (плакорный); ТЭ — трансэлювиальный; Т — транзитный; ТА — трансаккумулятивный; А — аккумулятивный; СА — супераквальный (здесь и на рис. 2).
Рис. 2. Распределение таксономических норм среднеиюльских запасов продуктивной влаги в слоях почвы 0–20, 0–50 и 0–100 см почве различных групп лесных биогеоценозов в системе их катенарной организации, адекватной термо-аридному климатическому тренду. Экорегионы Среднего Поволжья: (а) — северная граница широколиственнолесной подзоны на Приволжской возвышенности (полигон “Зеленый Город”); (б) — южная полоса подтаежной зоны в Низменном Заволжье (полигон “Керженец”). Лесообразующие древостои-доминанты: 1 — сосна; 2 — ель; 3 — дуб; 4 — липа, вяз; 5 — широколиственные без разделения; 6 — береза, осина; 7 — ольха черная.
Таблица 1. Распределение групп биогеоценозов Приокско-Террасного заповедника по их зонально-географическим группам, К(А;В) = 0.212
Зонально-географические группы биогеоценозов | Группы биогеоценозов (см. табл. 2) | |||||
Бореальная таежная | 2.57●X | 1.00 | 1.29● | 1.29● | ||
Бореальная боровая | 2.81●X | 0.63 | 2.41X | |||
Неморально-бореальная | 2.81●X | 1.61X | 1.61● | |||
Бореально-неморальная | 1.61 ● | 2.41X | 0.63 | 1.21X | 0.40 | |
Неморальная | 0.80 | 0.80 | 3.13X | 0.80 | ||
Общее направление термоаридного климатического тренда.
Примечание: К(А;В) — нормированный коэффициент межкомпонентной сопряженности (по: Пузаченко, Скулкин, 1981).
Исходя из явления полизональности локальных экосистем, осуществляется переход с локального уровня базового и прогнозного моделирования на региональный с помощью разработанного метода индукционно-иерархической экстраполяции (Коломыц, 2018). Каждый тип/подтип растительной формации, выделенный на мелкомасштабной геоботанической карте, идентифицируется определенной группой биогеоценозов из их плакорно-экстразонального ряда (рис. 2). Затем каждый ареал данной формации, представленный как поливекторное множество мезокатен, дробится на региональные типы местоположений, то есть мезогеотопы — от элювиального и трансэлювиального типов до аккумулятивного и супераквального по ландшафтно-геохимической классификации (Полынов, 1956). Создается промежуточная карта типов мезоместоположений на всю лесопокрытую площадь региона. Принимая далее, согласно концепции ландшафтных сопряжений Б.Б. Полынова, мезокатену в качестве гомоморфного образа микрокатены, разносим имеющиеся биогеоценозы всех выделенных групп из каждого экспериментального полигона по мезогеотопам соответствующего ему геоботанического ареала. Полученная таким образом региональная фитокатенарная мозаика насыщается далее базовыми или прогнозными метаболическими параметрами биогеоценозов, взятых уже в качестве локальных представителей тех или иных зонально-региональных типов/подтипов географической среды.
БАЗОВОЕ И ПРОГНОЗНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Как известно (Арманд, 1989), эколого-географические системы представляют собой разнокачественные и дискретные пространственные образования с “плохой” структурной и облигатными связями, поэтому геосистемный мониторинг предлагается вести на основе дискретного эмпирико-статистического моделирования, по (Розенберг, 1984). Такие модели позволяют оперировать относительно небольшим числом наиболее информативных признаков и получать результаты с достаточно высоким пространственным разрешением и, что самое важное, — прогнозировать поведение экосистем в виде целостных биогеоценологических образований, согласно (Сукачев, 1972). Вместе с тем эмпирико-статистические модели имеют свои существенные недостатки, которые особенно ощутимы в прогнозно-экологическом анализе. Главным недостатком является их “неопределенность во времени” (Lischke et al., 1998). По этим моделям можно предсказывать только потенциальное будущее состояние экосистем, время достижения которого остается неопределенным.
В наших исследованиях использованы дискретные модели двух типов:
1) теоретико-информационные модели, вскрывающие тесноту межкомпонентных связей, каналы цепных реакций на внешние возмущения и систему экологических ниш фитоценозов, почв и самих биогеоценозов в пространстве абиотических факторов среды (Пузаченко, Скулкин, 1981 и др.);
2) теоретико-множественные модели (класс моделей дескриптивных, то есть “размытых”, множеств), описывающие с помощью мер сходства–контрастности и мер включения (Андреев, 1980) структуру вещественно-энергетических полей и материальных объектов.
Помимо этого, предложены комплексные дискретные модели состояния лесных экосистем, которые строятся путем сочетания информационных и теоретико-множественных методов анализа (Коломыц, 2008, 2018). Сначала проводятся теоретико-множественные вычисления мер нетранзитивных отношений между объектами, а затем — информационно-статистические расчеты разнообразия этих отношений в пределах данного биогеоценологического пространства. По матрицам отношений включения данного объекта с другими объектами изучаемого типологического ряда рассчитываются два комплексных параметра его состояния: 1) структурный и метаболический индексы объекта, то есть индексы доминирования, характеризующие общий уровень его структурного и/или функционального развития; 2) показатель значимости объекта в данном геопространстве, отображающий запас его гомеостатичности, согласно (Арманд, 1989). По первому параметру удается ввести меру, по которой проводится выделение структурных и метаболических экотипов растительных сообществ и в целом биогеоценозов. Второй же параметр дает общее представление об их сукцессионно-восстановительном потенциале при внешнем воздействии.
Ландшафтно-экологический прогноз основан на сочетании двух первых типов моделирования (Коломыц, 2008, 2020). Путем теоретико-множественных операций с экологическими нишами рассматриваемых объектов ведутся прогнозные расчеты климатогенных изменений этих объектов на заданные сроки. В прогнозном аспекте анализ межкомпонентных и межкомплексных связей направлен, прежде всего, на оценку чувствительности локальных геосистем и их отдельных геокомпонентных признаков к изменениям климата. Главная задача — выявить механизмы функционирования почвенно-фитоценотического “ядра” геосистем как передаточного звена трансформации геофизических сигналов. Особое внимание уделяется параметрам малого биологического круговорота (различным живым и мертвым фитомассам и их соотношениям, а также запасам органики в почве) и их связям с абиотическими факторами. Эти функциональные параметры лесных экосистем можно рассматривать как приоритетные биоиндикаторы локальной реакции на фоновые климатические изменения.
Механизмы адаптации лесных экосистем к глобальным климатическим сигналам рассматриваются через призму их устойчивости к воздействию этих сигналов. На основе дискретных параметров биологического круговорота уже разработаны количественные методы расчета и картографирования функциональной устойчивости лесных экосистем как целостных биохорологических единиц (Коломыц и др., 2015; Коломыц, 2020). С помощью метрики евклидового расстояния проведены расчеты индексов мобильной (фитоценотической) и инерционной (почвенно-биотической) устойчивости двух типов: резистентной и упруго-пластичной. Это позволяет выявить метаболическое разнообразие указанных типов устойчивости как одну из характеристик геосистемного мониторинга.
РАБОЧИЙ АЛГОРИТМ ГЕОСИСТЕМНОГО МОНИТОРИНГА
Опишем кратко предлагаемую стратегию исследовательской триады наземного геосистемного мониторинга — наблюдение–прогноз–управление.
Наблюдение (оценка состояния). Первый шаг к познанию локальных механизмов глобальных изменений осуществляется через описанную выше методическую конструкцию с рабочим названием “эмпирическая имитация регионального биоклиматического тренда экосистемами локального уровня”. Для достижения этой цели “… наблюдения должны быть высокочувствительными, селективными и репрезентативными” (Соколов, Пузаченко, 1986, с. 20). На примере крупномасштабных экспериментальных полигонов, характеризующих различные экорегионы (Коломыц, 2008), выявляются закономерности преломления зонально-регионального биоклиматического фона местными геоморфологическими и гидроэдафическими факторами (рис. 2, табл. 1).
Весьма эффективным методом базового исследования служат построение и анализ факторально-динамических, или парагенетических, рядов ландшафтных фаций, представляющих собой определенный способ упорядоченности их структурных и режимных параметров в пространственных и/или временны́х координатах (Сочава, 1974). Для построения таких рядов необходимо пользоваться системой отсчета от некоторого типа местоположения, принятого за нулевое. Начать систему отсчета целесообразно с признаков плакорной группы фаций, которая в максимальной степени отвечает зонально-региональной норме данной территории и, таким образом, является “внутриландшафтным ядром” ее физико-географического фона, по определению (Сочава, 1974). Среди локальных эдафических факторов, преломляющих данный физико-географический фон, выделяются два ведущих — процессы лито- и гидроморфизации. Эти факторы последовательно замещают друг друга при соответствующей смене форм микрорельефа (рис. 1). Они использовались нами в качестве приоритетных признаков при выделении различных биогеоценотических групп в каждой региональной экосистеме.
Оценка климатогенной смены состояний лесных биогеоценозов проводится сначала парциально по отдельным фитоценотическим и почвенным характеристиками. В дальнейшем возникает необходимость “… приведения изменений всех этих разнохарактерных величин к каким-либо одним единицам с целью получения обобщенной, суммарной оценки изменения состояния экосистем” (Израэль и др., 1981, с. 12). Критериями таких оценок могут служить “… отсутствие снижения продуктивности, стабильность и разнообразие системы” (Израэль, 1984, с. 15).
На локальном уровне итоговый мониторинговый анализ мы предлагаем свести к выявлению изменений следующих трех инвариантных показателей структурно-функциональной организации биогеоценозов: 1) степени связности их моносистемной пространственной организации, то есть тесноты межкомпонентных связей (прежде всего связей биотических компонентов с характеристиками абиотической среды) как показателя территориальной целостности гео(эко-)системы; 2) первичной биопродуктивности, характеризующей эффективность использования фитобиотой ресурсов среды и соответствующий уровень сбалансированности биологического круговорота (Герасимов, 1985); 3) параметров функциональной устойчивости геосистем (см. выше) как интегральных показателей их экологического резерва, или ассимиляционной емкости (Израэль, 1984), определяющих поведение фитобиоты и органического вещества почвы в меняющейся абиотической среде. Климатогенная трансформация перечисленных инвариантных функциональных показателей лесных биогеоценозов должна описывать картину соответствующего нарушения достигнутого ими ранее экологического равновесия.
Современное глобальное потепление должно вызвать в умеренных широтах общую аридизацию региональных биоклиматических систем с общим ухудшением лесорастительных условий в обширной зоне перехода от леса к степи (Албриттон и др., 2003; Climate change …, 1996). Это спровоцирует структурную перестройку лесных экосистем, направленную прежде всего на сохранение коэффициента полезного действия живой фитомассы и на переход к новому уровню сбалансированности производства и разложения органики. В экстремальном варианте подобная климатогенная сукцессия приводит к замене лесного сообщества сначала лесолуговым, а затем и степным (Коломыц, 2008). Как подчеркнул Н. В. Тимофеев-Ресовский в своей расширенной трактовке дарвиновского закона естественного отбора (Тюрюканов, 2001), при изменении внешних условий отбор популяций и сообществ идет по линии развития тех из них, которые обеспечивают в дальнейшем непрерывность и замкнутость биогеохимических круговоротов на новом энергетическом уровне.
Итак, первым шагом осуществления геосистемного мониторинга является вычленение экзогенных структурно-функциональных изменений (∆Qэкз) параметров состояния данной группы лесных биогеоценозов из общей суммы этих изменений (∆Qcум), произошедших за предшествующий период времени. Для этого необходимо знать величину имевших место за предшествующий период времени возрастных сдвигов в параметрах состояния биогеоценозов (∆Qвозр). Такие сдвиги можно установить, используя материалы базовых ландшафтно-экологических съемок (см. выше). Эти сдвиги включают в себя две основные составляющие: а) сукцессионный (самовосстановительный) тренд лесного сообщества); б) динамику межвидовых и межпопуляционных взаимодействий в лесном биогеоценозе. Процедура вычленения структурно-функционального экзогенеза имеет вид:
∆Qэкз = ∆Qcум — ∆Qвозр. (1)
Здесь проводится операция алгебраического вычитания с учетом знака каждого члена правой части уравнения. Например, если полученная суммарная мера ∆Qcум изменений связности моносистемной организации лесных биогеоценозов положительна, а возрастные изменения этой меры отрицательны, но с меньшими абсолютными значениями, то искомая величина ∆Qэкз окажется положительной. В случае соотношения абсолютных значений (–∆Qcум) > (+∆Qвозр) расчетная модель покажет отрицательную величину климатогенных изменений меры межкомпонентной связности биогеоценозов. В другом случае отрицательный экологический эффект климатического сигнала может быть перекрыт положительной сукцессионно-восстановительной тенденцией и тогда получим +(∆Qcум). И наоборот, при ∆Qcум < ∆Qвозр (по модулю) мы всегда будем иметь отрицательные значения параметра ∆Qэкз.
В качестве примера приведем результаты расчетов экзогенных (климатогенных) изменений общей годичной продукции (PC) лесных биогеоценозов Приокско-Террасного биосферного заповедника и его окружения за последний 25-летний период. Использованы материалы базовой ландшафтно-экологической съемки 1998 г. и повторной выборочной съемки, проведенной в 2022 г. по определенному набору экосистем- аналогов из каждой биогеоценотической группы (табл. 2). Предварительно было установлено, что с возрастом насаждения достаточно тесно коррелирует его полнота (по массе древостоя), поэтому влияние полноты леса на его удельную продуктивность было учтено в неявном виде.
Таблица 2. Приокско-Террасный биосферный заповедник и его окружение. Расчет климатогенных изменений общей продуктивности лесных биогеоценозов за период 1998–2022 гг., по материалам двух крупномасштабных ландшафтно-экологических съемок
Группы биогеоценозов | Возраст лесного сообщества, гг. | Общая продуктивность (РС), т/га ∙ год | Климатогенные изменения продуктивности, ∆(РС)клим | ||
Описание | Символ | расчетная (по условиям до 1998 г.), РСвозр | реальная (суммарная), РСсум, в 2022 г. | ||
Э и ТЭ сосняки, с березой, К и КМ, бруснично-вейниково-разнотравные и лишайниково-зеленомошные | 51 122 111 | 11.65 11.11 14.23 | 11.98 10.00 11.16 | + 0.33 –1.11 –3.07 | |
Э и ТЭ еловые и елово-сосновые леса, МГ, кислично-зеленомошные и кустарничково-разнотравные | 90 119 121 | 7.50 13.09 12.40 | 9.84 11.11 11.31 | +2.34 –1.98 –1.03 | |
Э–ТА сосново-липово-дубовые и сосново-липовые леса, М и КМ, разнотравные и широкотравные | 89 40 60 71 139 104 | 12.50 18.70 15.38 13.85 12.00 12.00 | 12.28 13.98 13.42 12.69 10.00 11.26 | –0.22 –4.72 –1.96 –1.16 –2.00 –0.74 | |
ТЭ и Т липово-березовые леса, березняки и осинники с липой, дубом и елью, М и МК, разнотравные | 51 92 75 72 51 57 | 12.25 8.62 11.11 11.54 14.52 13.50 | 13.57 12.39 13.22 12.76 13.49 12.98 | +1.32 +4.13 +2.11 +1.03 –1.03 –0.74 | |
Т и ТА еловые и елово-сосновые леса, МГ, черничные-кисличные и сфагново-зеленомошные | 106 121 | 13.50 14.54 | 11.80 11.68 | –0.70 –2.86 | |
Примечание: типы локальных местоположений: Э — элювиальное; ТА — трансэлювиальное; Т — транзитное; ТА — трансаккумулятивное. Степень увлажнения эдафотопа: К — ксероморфное; КМ — мезоксероморфное; КМ — ксеромезоморфное; М — мезоморфное; МГ — мезогидроморфное.
По данным соседней с заповедником ст. Кашира (средние линейные тренды), в течение рассматриваемого периода глобального потепления (1998–2022 гг.) отчетливо проявился термоаридный климатический тренд. В этих условиях выделенные нами группы лесных биогеоценозов заповедника достаточно четко дифференцировались по климатогенным изменениям общей продуктивности (табл. 1, последний столбец). Резкое снижение общей продуктивности произошло в мезогидроморфных сосново-еловых лесах подножий склонов и речных долин (группы биогеоценозов 5). Несколько меньшую отрицательную величину ∆РСклим проявили ксероморфные сосняки и ксеромезоморфные сосново-широколиственные леса водоразделов и прилегающих к ним склонов (группы 1 и 3). Минимальное снижение PCсум было свойственно плакорным сосново-еловым лесам и чистым ельникам (группа 2). В то же время березняки и осинники отличались почти повсеместным в различной степени увеличением общей годичной продукции. Очевидно, глобальное потепление на данном отрезке своего тренда благоприятно сказалось на функционировании только вторичных лесных сообществ и негативно отразилось на состоянии коренных ассоциаций — как бореальных, так и суббореальных.
Прогноз (контроль). Как уже говорилось, прогнозы экологических последствий изменений климата касаются почти исключительно глобального уровня биосферы и крупных экорегионов. Поведение региональных и локальных лесных образований в условиях меняющегося климата остается гораздо менее изученным. Известные “островные патч-модели” (patch models) (King et al., 1999; Svoray et al., 2007) территориально весьма ограничены, поскольку описывают только типичные места (site) в типичных биомах (bottom-down approach), а не все топологическое разнообразие геосистем, свойственное тому или иному экорегиону.
Автором разработана методика численного ландшафтно-экологического прогнозирования (Коломыц, 2008, 2018). Основной принцип ландшафтно-экологического прогноза гласит: климатически обусловленное функциональное преобразование одной гео(эко-)системы в другую тем значительнее, чем меньше была степень пересечения их климатических ниш в начальном состоянии, то есть чем сильнее выражена исходная контрастность их состояний и чем больше окажется величина пересечения ниш после сближения систем, согласно данному геофизическому тренду.
Подчеркнем экспериментальный характер этой методики. В расчетных моделях ход прогнозируемых процессов воспроизводится с помощью их эмпирической имитации пространственно распределенными параметрами базовых экологических ниш изучаемых объектов (см. выше). Исследователь задает входные параметры в операционную систему и получает на выходе картину прогнозируемых функциональных состояний изучаемых объектов в данной статистической выборке. Проводится сценарный прогнозно-экологический анализ сети межкомпонентных и межкомплексных связей как системы преобразования фоновых ландшафтно-геофизических сигналов и передачи их с глобального и/или регионального уровней на уровень локальный. Сценарии возмущающих воздействий могут задаваться по тому или иному варианту глобального климатического прогноза на различные сроки.
Прогноз осуществляется по материалам многолетней серии повторных ландшафтно-экологических съемок на изучаемой территории (см. выше). Исходная (базовая) съемка включает полный набор структурно-функциональных характеристик лесных биогеоценозов (Коломыц, 2008, 2018). В последующие годы съем информации может быть ограничен продуктивностью напочвенного растительного покрова, а также температурой и влажностью почвы. Это те функциональные параметры лесного биогеоценоза, которые практически мгновенно реагируют на сигналы фоновой климатической системы. Именно они могут быть использованы для расчета изменений продуктивности лесов и их углеродного баланса при грядущих межгодовых климатических колебаниях (Коломыц, 2020). Последние предоставляют нам своего рода окошки в будущие климатические ситуации, когда та или иная аномалия может стать многолетней нормой. Таким образом, эмпирическая имитация функционального отклика лесных экосистем на длительно-периодные колебания климата способна служить важным методическим приемом на прогнозной стадии геосистемного мониторинга.
Прогнозные расчеты изменений каждого функционального параметра лесных экосистем проводятся по следующей схеме. Для каждого прогнозного срока общее значение изменений данного функционального параметра (∆Qсум) складывается из его прогнозируемых климатически обусловленных сдвигов (∆Qклим) и изменений, обусловленных возрастной динамикой лесного сообщества за этот же период (∆Qвозр):
∆Qсум = ∆Qклим + ∆Qвозр. (2)
Как и на первом этапе мониторинга, здесь проводится операция алгебраического сложения с учетом знака каждого члена правой части уравнения.
Прогнозируемые сценарии парциальных и комплексных функциональных параметров лесных биогеоценозов должны быть верифицированы эмпирическим материалом. В табл. 3 приведен пример верификации такого прогноза по общей продуктивности для некоторых лесных сообществ в Приокско-Террасном биосферном заповеднике на период 1998–2022 гг. Прогноз осуществлялся по умеренной климатической модели GISS и экстремальной модели HadCM3, версия А2 (Коломыц, 2008). Ожидаемый по ним климатогенный рост продуктивности был подтвержден только для вторичных мелколиственных лесов (чистых и с примесью широколиственных пород) практически всех типов местоположений, а также сосняков и ельников подножий склонов. В то же время прогнозируемые положительные значения ∆(РС)клим для хвойно- и смешаннолесных сообществ верхнего и среднего звеньев катен не подтвердились фактическими данными.
Таблица 3. Приокско-Террасный биосферный заповедник и его окружение. Верификация прогнозных расчетов климатогенных изменений общей продуктивности (РС, т/га • год) лесных биогеоценозов на период 1998–2022 гг., по материалам двух крупномасштабных ландшафтно-экологических съемок
Группы биогеоценозов | Базовая продуктивность (в 1998 г.) | Прогнозируемая продуктивность в 2022 г. | Реальная продуктивность в 2022г. | Климатогенные изменения продуктивности, ∆(РС)клим, в 2022 г. | |||
по модели GISS | по модели HadCM3 | расчетные по модели GISS | расчетные по модели HadCM3 | реальные | |||
13.01 (8) | 14.21 (8) | 15.33 (8) | 11.05 (3) | +1.20 (8) | +2.32 (8) | –1.82 (3) | |
13.10 (7) | 14.41 (7) | 15.58 (7) | 10.61 (3) | +1.31 (7) | +2.48 (7) | –0.67 (3) | |
13.62 (7) | 14.60 (7) | 15.50 (7) | 12.20 (6) | +0.98 (7) | +1.88 (7) | –1.80 (6) | |
13.44 (9) | 14.60 (9) | 15.62 (9) | 12.97 (6) | +1.16 (9) | +2.18 (9) | +1.17 (6) | |
10.78 (7) | 13.20 (7) | 15.37 (7) | 14.02 (2) | +2.42 (7) | +4.59 (7) | +2.28 (2) | |
Примечание: в реальной продуктивности все данные усреднены по группам биогеоценозов. В скобках — число пробных площадей.
Управление (обратная связь). Как уже говорилось, на основе геоэкологических прогнозов решается проблема регулирования качества природной среды, то есть определенного управления ею, с установлением эффектов допустимых воздействий, а также вероятностей риска тех или иных экологических последствий. Одним из эффективных направлений данного, заключительного, этапа геосистемного мониторинга может служить представленная в работе (Коломыц, 2020) концепция углеродных балансов и функциональной устойчивости лесных экосистем при глобальных изменениях климата. В этой концепции описана поглощающая и адаптивная способность лесных, главным образом бореальных, биомов Европейской России в условиях современного антропогенного потепления. Адаптацию и митигацию можно отнести уже к мониторингу климатической деятельности, согласно (Романовская, 2019). Научный поиск нами велся в соответствии с Парижским Соглашением по изменению климата (Paris Agreement …, 2015). Приведем основные научно-методические результаты проведенного исследования, которые могут быть примером реализации данного этапа геосистемного мониторинга.
В качестве интегральной оценки динамического состояния системы лес–климат использована известная трактовка понятия экологических ресурсов лесного покрова как его способность поглощать парниковые газы с помощью механизмов регуляции углеродного цикла при изменениях климата (Горшков, 1995; Уткин, 1995). Эта регуляция направлена на возвращение окружающей среды в оптимальное для лесной экосистемы состояние, а также на сохранение относительной стабильности ее продукционного процесса, что обеспечивает и устойчивость механизмов самой регуляции углеродного цикла. Соответственно одним из важнейших направлений устойчивого управления лесами является использование лесов в качестве средства смягчения климатических флуктуаций.
Разработаны алгоритмы расчетов углеродного баланса бореальных и неморальных лесных биогеосистем, а также объемов поглощения ими парниковых газов при прогнозируемых глобальных изменениях климата (Коломыц, 2020). Изложена процедура расчетов парциальных и суммарных значений содержания углерода в лесных ассоциациях и формациях для базового периода и прогнозируемых сроков на 100–200-летнюю перспективу. На основе материалов крупномасштабных ландшафтных съемок, проведенных в лесном поясе Волжского бассейна, осуществлена гидротермическая ординация содержания углерода в различных пулах лесных биогеоценозов. Выявлены критические гидротермические состояния зональных типов лесов у южной границы лесного пояса, характеризующие их потенциальную адаптацию к кардинальным изменениям климата, с соответствующей адсорбцией/эмиссией парниковых газов.
Наконец, представлен прогнозный ландшафтно-экологический анализ лесного покрова Волжского бассейна, где освещена двуединая проблема, — адсорбции и адаптации — входящая в перечень задач, поставленных Парижским (2015) Соглашением. Установлен адсорбционный потенциал коренных и производных бореальных и неморальных лесов, оценена их способность смягчать климатические изменения, в том числе снижать антропогенное потепление. Проведен численный эксперимент по оценке влияния упругой устойчивости лесных формаций на их углеродный баланс (Котляков и др., 2023).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложенная стратегия научного поиска предполагает периодически возвратную последовательность выполнения элементов триады геосистемного мониторинга наблюдение–прогноз–управление с построением эмпирико-статистических моделей перехода экосистем из прошлого в будущее при каждом новом климатическом сигнале. Производится вычленение климатогенной составляющей из общего ряда прошедшей динамики лесных биогеосистем, и затем дается прогноз их предстоящих изменений, согласно дальнейшему гидротермическому тренду. Рабочим инструментом анализа служит своего рода скользящая (маятниковая) операционная система, где наблюдение и прогноз повторяются неоднократно — в соответствии с полученными экологическими результатами за предшествующий период изменений климата и с новыми гидротермическими сигналами, которые ожидаются в будущем.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Автор заявляет об отсутствии конфликтов интересов.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов изучения.
Об авторах
Э. Г. Коломыц
Институт фундаментальных проблем биологии
Автор, ответственный за переписку.
Email: egk2000@mail.ru
Пущинский научный центр Российской академии наук
Россия, ПущиноСписок литературы
- Албриттон Д.Л., Баркер Т., Башмаков И. и др. Изменение климата. 2001 г. Обобщенный доклад МГЭИК / Ред. Р.Т. Уотсон. Женева: World Meteorological Organization, 2003. 220 с.
- Андреев В.Л. Классификационные построения в экологии и систематике. М.: Наука, 1980. 142 с.
- Арманд А.Д. Критические состояния экосистем // Экосистемы в критических состояниях. М.: Наука, 1989. С. 23–41.
- Барталев С.А., Исаев А.С. Современные возможности спутникового мониторинга динамики лесных бореальных экосистем Северной Евразии // Антропогенная трансформация таежных экосистем Европы: экологические, ресурсные и хозяйственные аспекты / Ред. А.Д. Волков, А.Н. Громцев. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2004. С. 11–19.
- Высоцкий Г.Н. Избранные труды. М.: Сельхозгиз, 1960. 435 с.
- Герасимов И.П. Научные основы современного мониторинга окружающей среды // Изв. АН СССР. Серия геогр. 1975. № 3. С. 13–26.
- Герасимов И.П. Экологические проблемы в прошлой, настоящей и будущей географии Мира. М.: Наука, 1985. 247 с.
- Голубятников Л.Л., Мохов И.И., Денисенко Е.А., Тихонов В.А. Модельные оценки влияния изменений климата на растительный покров и сток углерода из атмосферы // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2005. Т. 41 (1). С. 25–35.
- Гордиенко Н.С. Современные тенденции изменений климата и биоты на Южном Урале // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2017. Т. 28 (5). С. 87–99.
- Горшков В.Г. Физические и биологические основы устойчивости жизни. М.: ВИНИТИ, 1995. 470 с.
- Замолодчиков Д.Г., Грабовский В.И., Краев Г.Н. Динамика бюджета углерода лесов России за два последних десятилетия // Лесоведение. 2011. № 6. С. 16–28.
- Иванова Ю.Р., Скок Н.В. Сезонное развитие растительных сообществ в контексте изменяющихся погодных условий низкогорий Среднего Урала // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2019. Т. 30 (1–2). С. 70–85.
- Израэль Ю.А. Глобальная система наблюдений. Прогноз и оценка изменений состояния окружающей природной среды. Основы мониторинга // Метеорология и гидрология. 1974. Вып. 7. С. 5–14.
- Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. Изд. 2-е доп. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 560 с.
- Израэль Ю.А. Роль мониторинга в управлении экономикой; экологическое нормирование // Комплексный глобальный мониторинг состояния биосферы / Тр. III междунар. симпозиума. Т. 1. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. С. 31–38.
- Израэль Ю.А., Рябошапко А.Г. Геоинженерия климата: возможности реализации // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2011. Т. XXIV. С. 11–22.
- Израэль Ю.А., Семенов С.М., Хачатуров М.А. Биоклиматологические аспекты комплексного глобального мониторинга // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. Т. 15. Л.: Гидрометеоиздат, 1993. С. 8–20.
- Израэль Ю.А., Филиппова Л.М., Инсаров Г.Э. и др. Экологический мониторинг и регулирование состояния природной среды // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. Т. 4. Л.: Гидрометеоиздат, 1981. С. 6–19.
- Кобак К.И., Кондрашева Н.Ю., Турчинович И.Е. Влияние изменений климата на природную зональность и экосистемы России // Изменения климата и их последствия. СПб.: Наука, 2002. С. 205–210.
- Коломыц Э.Г. Поиск механизмов глобальных изменений природной среды в целях геосистемного мониторинга // Изв. РАН. Сер. географ. 2001. № 1. С. 28–32.
- Коломыц Э.Г. Локальные механизмы глобальных изменений природных экосистем. М.: Наука, 2008. 427 с.
- Коломыц Э.Г. Экспериментальная географическая экология. Записки географа-натуралиста. М.: КМК, 2018. 716 с.
- Коломыц Э.Г. Углеродный баланс и устойчивость лесных экосистем при глобальных изменениях климата. М.: Наука, 2020. 423 с.
- Коломыц Э.Г., Керженцев А.С., Шарая Л.С. Аналитические и картографические модели функциональной устойчивости лесных экосистем // Успехи соврем. биол. 2015. Т. 135 (1). С. 127–149.
- Котляков, В.М., Коломыц Э.Г., Шарая Л.С. Экологические ресурсы бореальных лесов в поглощении парниковых газов и в адаптации к глобальному потеплению (к Парижскому Соглашению по изменению климата // ДАН. 2023. Т. 511 (1). С. 124–129.
- Курбанов Э.Л., Лежнин С.А., Александрова Т.Л., Вазиуллина З.З. Оценка фитомассы молодняков сосны Вятско-Марийского вала по спутниковым снимкам // Лесные экосистемы в условиях изменения климата: биологическая продуктивность, мониторинг и адаптационные технологии / Мат. междунар. конф. с элементами научной школы для молодежи, 28 июня — 2 июля 2010 г., Йошкар-Ола, Мар.ГТУ, 2010. С. 143–147.
- Курганова И.Н., Лопес де Гереню В.О., Розанова Л.Н. и др. Многолетний мониторинг эмиссии СО2 из дерново-подзолистой почвы: анализ влияния гидротермических условий и землепользования // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2007. Т. 21. С. 23–43.
- Леса России и изменение климата. Что нам может сказать наука / Ред. П. Лескинен, М. Линднер, П. Веркерк, и др. Bonn: European Forest Institute, 2020. 140 с.
- Максимова О.В., Минин А.А., Кухта А.Е. О связи сезонных явлений и процессов у деревьев в условиях Центрально-Лесного биосферного заповедника // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2021. Т. 32 (1–2). С. 56–66.
- Полынов Б.Б. Избранные труды. М.: Изд-во АН СССР, 1956. 751 с.
- Пузаченко Ю.Г., Скулкин В.С. Структура растительности лесной зоны СССР: системный анализ. М.: Наука, 1981. 275 с.
- Романовская А.А. К концепции государственного управления и мониторинга в сфере изменений климата в России // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2019. Т. 30 (3–4). С. 61–83.
- Розенберг Г.С. Модели в фитоценологии. М.: Наука, 1984. 265 с.
- Соколов В.Е., Пузаченко Ю.Г. Обоснование общей схемы размещения элементов сети глобального мониторинга и биосферных заповедников // Комплексный глобальный мониторинг состояния биосферы // Тр. III междунар. симпозиума. Т. 2. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. С. 20–26.
- Состояние и комплексный мониторинг природной среды и климата. Пределы изменений / Ред. Ю.А. Израэль. М.: Наука, 2001. 239 с.
- Сочава В.Б. Геотопология как раздел учения о геосистемах // Топологические аспекты учения о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1974. С. 3–86.
- Сочава В.Б. Растительный покров на тематических картах. Новосибирск: Наука, 1979. 189 с.
- Сукачев В.Н. Избранные труды. Т. 1. Основы лесной типологии и биогеоценологии. Л.: Наука, 1972. 418 с.
- Тимофеев-Ресовский Н.В. Структурные уровни биологических систем // Системные исследования. Ежегодник 1970. М.: Наука, 1970. С. 80–113.
- Тюрюканов А.Н. Избранные труды. М.: РЭФИА, 2001. 307 с.
- Уткин А.И. Углеродный цикл и лесоводство // Лесоведение. 1995. № 5. С. 3–20.
- Швиденко А.З., Щепащенко Д.Г. Углеродный бюджет лесов России // Сиб. лесн. журн. 2014. № 1. С. 69–92.
- Швиденко А.З., Щепаченко Д.Г., Кракснер Ф., Онучин А.А. Переход к устойчивому управлению лесами России: теоретико-методические предпосылки // Сиб. лесн. журн. 2017. № 6. С. 3–25.
- Beets P. N., Kimbereley M.O. Paul T.S. et al. Planted forest carbon monitoring system — forest carbon model validation study for Pinus radiata // New Zealand J. Forest Sci. 2011. V. 41. P. 177–189.
- Climate change 1995. The science of climatic change / Eds J.T. Houghton, L.G. Meira Filho, B.A. Callander et al. Cambridge, UK: The Cambridge Univ. Press, 1996. 572 p.
- Franklin J., Serra-Diaz J.M., Syphard A.D., Regan H.M. Big data for forecasting global change impact on plant communities // Glob. Ecol. Biogeogr. 2017. V. 26 (1). P. 6–17.
- Gamon J.A., Huemmrich K.E., Peddle D.R. et al. Remote sensing BOREAS: Lessons Learned // Rem. Sens. Environ. 2004. V. 89 (2). P. 139–162.
- Gauther S., Bernier P., Kuuluvainen T., Shvidenko A.Z. et al. Boreal forest health and global change // Science. 2015. V. 349 (6259). P. 819–821.
- King D., Bourennane H., Isampert M., Macaire J.J. Relationship of the presence of a non-calcareous clay-loam horizon to DEM attributes in a gently sloping area // Geoderma. 1999. V. 89 (1–2). P. 95–111.
- Kljun N., Black T.F., Griffis T.J. et al. Response of net ecosystem productivity of three boreal forest stands to drought // Ecosystems. 2007. V. 10. P. 1039–1055.
- Lischke H., Guisan A., Fischlin A., Bugmann H. Vegetation response to climate change in the Alps: modeling studies // Views from the Alps: regional perspectives on climate change. Cambridge, Massachusetts, USA: MIT Press, 1998. P. 309–350.
- Ontl T. A., Janowiak Maria K., Swanston Christopher W. et al. Forest management for carbon sequestration and climate adaptation // J. Forestry. 2020. V. 118 (1). P. 86–101.
- Paris Agreement on climate change (COP21) // Report of the Conference of the Parties, twenty-first session, Paris, France, 30 November — 13 December, 2015. Paris, 2015. 42 p.
- Quegan S., Beer C., Shvidenko A., McCallum I. et al. Estimating the carbon balance of central Siberia using a landscape-ecosystem approach, atmospheric inversion and Dynamic Global Vegetation Models // Glob. Change Biol. 2011. V. 17. P. 351–365.
- Rodriguez-Veiga P., Saatchi S., Tansey K., Balzter H. Magnitude, special distribution and uncertainty of forest biomass stock in Mexico // Rem. Sens. Environ. 2016. V. 183. P. 265–281.
- Santoro M., Cartus O., Carvalhais N. et al. The global forest above-ground biomass pool for 2010 estimated from high-resolution satellite observations // Earth Syst. Sci. Data, 2021. V. 13 (8). P. 3927–3950.
- Stinson G., Kurz W.A., Smyth C.E. et al. An inventory-based of Canada’s managed forest carbon dynamics, 1990 to 2008 // Glob. Change Biol. 2011. V. 17. P. 2227–2244.
- Svoray T., Mazor S., Bar (Kutiel) P. How is shrub cover related to soil moisture and patch geometry in the fragmented landscape of the Northern Negev desert? // Landscape Ecol. 2007. V. 22 (1). P. 105–116.
- Tchebakova N.M., Parphenova E.I., Soja A.J. The effects of climate, permafrost and fire on vegetation change in Sibiria in a changing climate // Environ. Res. Lett. 2009. V. 4 (4). P. 45–58.
Дополнительные файлы