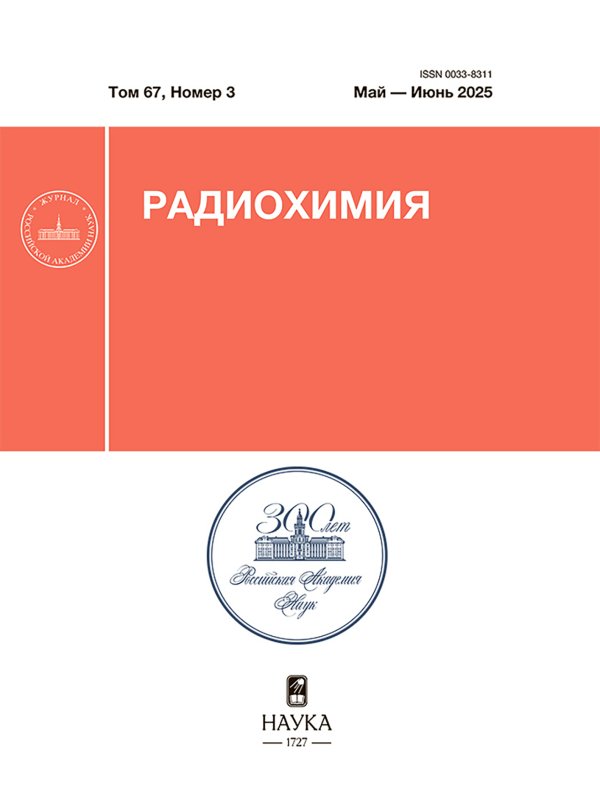Diffusion of radioactive waste elements from underground water and leachates of phosphate waste forms in pore solution of clay materials
- Authors: Martynov K.V.1, Zakharova E.V.1
-
Affiliations:
- Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 66, No 2 (2024)
- Pages: 191-204
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0033-8311/article/view/263865
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033831124020116
- ID: 263865
Cite item
Full Text
Abstract
Using through diffusion method at room temperature, migration of RW element simulators (P, Se, Br, Mo, Cs, U) in compacted samples of clay materials of various mineral compositions was studied during porous diffusion from model solutions: underground water and leachates of phosphate waste forms having a total salt content of up to 500 mg/L. Based on the results of experiments, effective diffusion coefficients and sorption distribution coefficients of elements in barrier materials were determined. Numerical models are proposed to describe diffusion transfer of selenium, cesium and uranium depending on porosity, mineral composition of materials, and concentration of elements in pore solution. Patterns of diffusion of elements from solutions of different salt composition were revealed.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Создание для объектов захоронения и консервации РАО барьеров безопасности из глинистых материалов минимизирует возможность наиболее опасного адвективного переноса радиоактивного загрязнения при выщелачивании радионуклидов подземными водами [1]. Однако никакие пористые материалы, к которым в том числе относятся глины, не могут предотвратить миграцию радионуклидов в результате диффузии в поровом растворе [2], но могут существенно ее замедлить за счет ограничения скорости диффузионного переноса, сорбции на поверхности глинистых минералов и осаждения из порового раствора на геохимическом барьере [3].
Ранее была экспериментально изучена диффузия радионуклидов (3H, 99Tc, 137Cs, 233U) из модельного выщелата фосфатной матрицы РАО в образцах глинистых материалов различного минерального состава, обладающих разными значениями плотности скелета. На основании полученных результатов были выделены основные факторы, влияющие на диффузионный перенос радионуклидов: химические свойства и концентрация элемента в поровом растворе, структура (плотность, пористость) и минеральный состав глинистых материалов [4]. Вместе с тем осталось не выяснено влияние на диффузию солевого состава порового раствора при прочих равных условиях. Не были изучены особенности диффузионного переноса многих важных элементов РАО, отличающихся по химическим свойствам: фосфора, селена, молибдена, иода, для которых потенциально возможно использование метода сквозной диффузии.
Поэтому целью настоящего исследования было дополнение массива экспериментальных данных по диффузии элементов в поровом растворе глинистых материалов, потенциально пригодных для создания защитных барьеров объектов захоронения и консервации РАО [5], из модельных растворов с разным содержанием солей. Для этого были проведены эксперименты по сквозной диффузии стабильных имитаторов элементов РАО: P (главный матричный элемент, определяющий солевой состав порового раствора), Se, Br (химический аналог иода), Mo, Cs, U из комплексных растворов, моделирующих подземную воду Енисейского участка Нижнеканского массива (НКМ), где начаты работы по строительству подземной исследовательской лаборатории для обоснования безопасности глубинного пункта захоронения РАО [6], и выщелат фосфатного стекла (ФС), который является главным кондиционным продуктом ФГУП «ПО «Маяк» для отверждения высокоактивных РАО [7], предназначенным для глубинного захоронения [8].
Таким образом, полученные результаты не только дополняют теоретическое понимание геохимических процессов миграции техногенных радионуклидов, но могут быть использованы для прогнозов безопасности радиационных объектов [9].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве барьерных материалов были использованы глинопорошки, приготовленные из восковидного бентонита месторождения Камалинское (Красноярский край) – КВ, бентонита месторождения 10-й Хутор (Хакасия) – ХБ, а также смесей 30 мас % хакасского бентонита с 70 мас % каолина (КБ) или полиминеральной тугоплавкой глины (ТБ) месторождения Кампановское (Красноярский край). Кроме барьерных материалов изучали глинистый заполнитель (ТЗ) из зоны милонитизации в долеритах Енисейского участка НКМ.
Подробная характеристика исходных глинистых материалов, использованных в экспериментах, приведена в работе [4]. Преобладающими фазами в материалах КВ и ХБ был монтмориллонит (61 и 71 мас % соответственно), в смешенных материалах – монтмориллонит и каолинит (КБ – 33 и 41 мас % соответственно, ТБ – 36 и 31 мас % соответственно), в милоните ТЗ – серицит и гейландит (24 и 31 мас % соответственно).
Для экспериментального исследования диффузионно-сорбционных характеристик глинистых барьерных материалов использовали три типа модельных растворов: модельную подземную воду (МПВ), модельную подземную воду с элементами-имитаторами РАО (МПВИ), модельный выщелат ФС с элементами-имитаторами РАО (МВ). Модельный раствор МПВ имел состав, аналогичный составу подземной воды Енисейского участка НКМ. Его готовили так же, как описано в работе [4], и использовали как раствор для выхода элементов в диффузионных экспериментах, а также как основу для приготовления других типов модельных растворов.
Из раствора МПВ с добавлением солей (чистота не ниже ч.д.а.) Cr(NO3)3·9H2O, MnCl2·4H2O, Fe(NO3)3·9H2O, Co(NO3)2·6H2O, Ni(NO3)2·6H2O, Na2SeO3, NaBrO3, SrCl2·6H2O, H2MoO4, CsCl, La(NO3)3·6H2O, Ce(NO3)3·6H2O, Nd(NO3)3·6H2O, Th(NO3)4·7H2O, UO2(NO3)2·6H2O готовили модельные растворы МПВИ. Значение рН растворов корректировали добавлением разбавленных растворов соляной кислоты и гидроксида натрия. Концентрации элементов-имитаторов РАО в модельных растворах варьировали в диапазоне, выбранном исходя из данных о выщелачивании модельного ФС при температуре 25°С в статическом режиме [10]. С учетом этих данных готовили третий тип модельных растворов, имитирующий выщелаты ФС (МВ). Для этого к модельным растворам МПВИ добавляли растворы Na2HPO4·6H2O. Модельные растворы МПВИ и МВ использовали в качестве источников элементов-имитаторов РАО для диффузионных экспериментов.
Содержание химических элементов в водных растворах определяли методами масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП МС) на масс-спектрометре Elan-6100 (Perkin Elmer, США) и атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП АЭС) на эмиссионном спектрометре Optima-4300 DV (Perkin Elmer, США) в ИПТМ РАН (г. Черноголовка). Элементный состав и значения рН использованных в экспериментах модельных растворов представлены в табл. 1.
Таблица 1. Элементный состав и значения рН модельных растворов, по данным ИСП МС и ИСП АЭС, мг/л
Раствор | Na | Mg | Al | Si | P | S | K | Ca | Cr | Mn | Fe | Co |
МПВ | 75 | 8.4 | <0.002* | 0.022 | < 0.08 | 11 | <0.01 | 7.4 | <0.002 | 0.0008 | <0.005 | <0.0001 |
МПВИ-4 | 73 | 7.8 | <0.002 | 0.25 | < 0.08 | 12 | 0.28 | 7.3 | <0.002 | 0.7 | <0.005 | 0.87 |
МПВИ-6 | 82 | 9.1 | <0.03 | 0.71 | < 0.1 | 12 | 0.11 | 20 | 0.22 | 0.46 | 0.17 | 1 |
МВ-5 | 258 | 7.9 | 0.0021 | 0.81 | 223 | 12 | 0.21 | 9.1 | <0.002 | 0.6 | 0.005 | 0.68 |
МВ-7 | 231 | 8.7 | <0.03 | 0.68 | 91 | 12 | 0.24 | 16 | <0.005 | 0.2 | <0.05 | 0.31 |
Раствор | Ni | Br | Se | Sr | Mo | Cs | La | Ce | Nd | Th | U | pH |
МПВ | <0.002 | <0.03 | <0.005 | 0.0081 | <0.0002 | 0.0013 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.000079 | 8.1 |
МПВИ-4 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | <0.0002 | 1.5 | 0.0013 | 0.0034 | 0.00086 | 0.0012 | 0.009 | 8.16 |
МПВИ-6 | 0.4 | 1.8 | 0.69 | 0.84 | 0.028 | 1.4 | 0.0005 | 0.00079 | 0.00049 | 0.0011 | 1.1 | 8.12 |
МВ-5 | 0.31 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | <0.0002 | 1.4 | 0.00077 | 0.0014 | 0.00042 | 0.0016 | 0.006 | 8.22 |
МВ-7 | 0.16 | 1.6 | 0.24 | 0.59 | 0.026 | 1.2 | 0.00006 | <0.00004 | 0.00007 | <0.00005 | 0.25 | 8.31 |
* Ниже предела обнаружения.
Для изучения диффузионно-сорбционных характеристик образцов уплотненных глинистых материалов использовали метод сквозной диффузии – наиболее эффективный из применяемых экспериментальных методов для изучения консервативных и слабо сорбирующихся трассеров [11]. Экспериментальная ячейка, методика подготовки, проведения экспериментов и обработки результатов были описаны в работе [4]. Исходные массогабаритные характеристики и абсолютная влажность образцов глинистых материалов для диффузионных экспериментов представлены в табл. 2. Площадь сечения образцов составляла 9.62 см2.
Таблица 2. Исходные массогабаритные характеристики образцов для изучения сквозной диффузии
Материал | Толщина образца L, cм | Плотность скелета ρт, см3/г | Влажность, мас% |
КБ | 0.32–0.36 | 1.74–1.79 | 16–17 |
ТБ | 0.32 | 1.78–1.85 | 15–17 |
ТЗ | 0.28 | 2.55–2.60 | 2–3 |
ХБ | 0.30 | 1.77–1.93 | 13–17 |
КВ | 0.28–0.30 | 1.89–2.11 | 10–14 |
Эксперименты по сквозной диффузии через образцы проводили в тефлоновой ячейке [12] при комнатной температуре. Образцы глинистых материалов, помещенные в тефлоновые перфорированные контейнеры, разделяли камеры ячейки объемом 140–180 см3, заполненные модельными растворами: камера-источник – модельными растворами с элементами-имитаторами РАО (МПВИ и МВ), камера-приемник – модельной подземной водой МПВ. В результате диффузии в поровом растворе образцов компоненты растворов переносились из источника (с большей концентрацией) в приемник (с меньшей концентрацией). Таким образом была изучена сквозная диффузии фосфора и элементов-имитаторов РАО (Se, Br, Sr, Mo, Cs, U), которые в модельных растворах образовывали различные по размеру и заряду ионы с различной сорбционной способностью: катионы Cs+, Sr2+, UO22+ и др., анионы РО43–, Br–, SeO32–, MoO42– и др. Сорбционный, зарядный и размерный эффекты различным образом влияли на диффузию элементов в поровом растворе глинистых образцов.
Модельные растворы подземной воды (МПВИ-4, МПВИ-6) или выщелата ФС (МВ-5, МВ-7) с элементами-имитаторами РАО заливали в камеру-источник диффузионных ячеек. В камеру-приемник заливали модельную подземную воду (МПВ). Из источника периодически отбирали пробы объемом 1 мл. Их разбавляли для анализа в 10 раз раствором 0.1 моль/л HNO3. Одновременно из приемника сливали весь раствор и заменяли на такой же объем раствора МПВ. Из слитого раствора отбирали пробу для анализа элементного состава.
Типы кривых выхода элементов при сквозной диффузии в поровом растворе, приведенные на рис. 1 в координатах масса элемента/время [4], характеризуют смену режимов диффузии: от нестационарного для нелинейных (с повышающейся или понижающейся скоростью выхода) кривых выхода к стационарному – для линейных (с постоянной скоростью) кривых выхода (кривая 1 и линейные участки кривых 2–4). Нелинейность кривых выхода может быть связана с сорбционным процессом, по мере протекания которого скорость выхода элемента повышается (кривая 2), или с осадительным процессом в поровом растворе, по мере протекания которого скорость выхода элемента понижается (кривая 3). Осадительный и сорбционный эффекты в процессе диффузии могут наблюдаться одновременно (кривая 4).
Рис. 1. Типы кривых выхода для сквозной диффузии, по данным работы [4]: 1 – для несорбирующегося радионуклида, 2 – для сорбирующегося радионуклида, 3 – с осаждением из порового раствора для несорбирующегося радионуклида, 4 – с осаждением из порового раствора для сорбирующегося радионуклида.
Наличие осадительного процесса устанавливали в экспериментах по понижению суммарной массы элемента в растворах камер диффузионной ячейки при стационарном выходе элемента в приемник. В этом случае за концентрацию элемента в поровом растворе образца со стороны источника принимали концентрацию в источнике на момент прекращения понижения его суммарной массы в жидкой фазе камер диффузионной ячейки. При отсутствии осаждения за концентрацию элемента в поровом растворе образца со стороны источника принимали его концентрацию в источнике.
Анализ и обработку результатов диффузионных экспериментов для элементов-имитаторов проводили так же, как для радионуклидов [4], только вместо удельной активности брали концентрацию элемента в растворе, а вместо суммарной активности – массу элемента (m). Вид экспериментальных данных и методика их обработки показаны на рис. 2 на примере диффузии цезия через образец милонита ТЗ из модельного раствора МПВИ-6 (кривая выхода типа 2). Падение концентрации сорбирующегося элемента в камере-источнике (Cист) происходило тем круче, чем выше коэффициент сорбционного распределения элемента (рис. 2, а). Изменение концентрации элемента в приемнике (Cпр) не показано, так как оно носило циклический характер из-за смены раствора на каждом шаге опробования.
Рис. 2. Сквозная диффузия Cs через образец милонита ТЗ (ρт = 1.96 г/см3, L = 3.5 мм) из модельного раствора МПВИ-6: (а) – изменение концентрации Cs в камере-источнике, (б) – суммарная масса Cs в источнике и приемнике, (в) – изменение усредненного значения разницы концентраций Cs в источнике и приемнике, (г) – удельный суммарный выход массы Cs в приемник; DeCs = 7.72 × 10–8 см2/с, KdCs = 26 см3/г.
Понижение суммарной массы сорбирующегося элемента в жидкой фазе источника и приемника (Ʃmист+пр), рассчитанное с учетом суммирования массы в приемнике на всех шагах опробования, при диффузии цезия через образец милонита ТЗ из модельного раствора МПВИ-6 было связано с сорбционной фиксацией элемента на поверхности минеральных фаз образца. Понижение суммарной массы в жидкой фазе обеих камер диффузионной ячейки происходило до третьего шага опробования, после чего резко уменьшалось (рис. 2, б). Усредненная разница концентраций (ΔСt) цезия в источнике и приемнике показывала плавное нелинейное понижение с течением времени (рис. 2, в).
Временной отрезок до третьего шага опробования для цезия характеризовался нестационарным протеканием диффузионного процесса, связанным с заполнением сорбционной емкости образца, что отражается в изменении угла наклона кривой выхода (рис. 2, г). Начиная с третьего шага наклон стабилизируется. Для расчета эффективного коэффициента диффузии (De) использовали наклон линейного участка кривой выхода, соответствующего стационарному этапу диффузии:
De = (mL)/(St),
где m – масса элемента (г), диффундировавшего через образец за время t (с); величину (г/мл) рассчитывали аналогично [4], L – толщина образца (см), S – геометрическая площадь сечения образца (см2). Для расчета действительного коэффициента диффузии (Da) использовали время задержки (tз), отсекаемое продолжением линейного участка кривой выхода на оси времени:
Поскольку из характеристик для описания диффузионного процесса только две являются независимыми, удобным представляется использование De и коэффициента сорбционного распределения Kd (см3/г):
,
где α – коэффициент сорбционной емкости:
α = De / Da
ρт – плотность скелета образца (г/см3), ε – пористость образца, которую рассчитывали как
ε = 1 – ρт / 2.75
где 2.75 г/см3 – средняя плотность частиц глинистых материалов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Уплотненные образцы глинистых материалов в процессе диффузионных экспериментов набухали, в результате чего происходило изменение их массогабаритных характеристик и влажности. Прессование образцов при подготовке к экспериментам до плотности, превышающей равновесную в условиях эксперимента, было необходимо для достижения их плотного прилегания к элементам ячейки за счет набухания с тем, чтобы устранить пристеночные эффекты. На достижение образцами равновесного набухания и проверку герметичности заполненных ячеек отводили не меньше одной недели, что было достаточно в условиях водонасыщения. Только после этого раствор в источнике заменяли на рабочий и начинали отсчет времени эксперимента. В течение эксперимента изменения объема образцов не происходило. Массогабаритные характеристики и влажность образцов определяли после завершения экспериментов. Эти данные использовали для расчетов. Плотность скелета образцов после экспериментов представлена в табл. 3 вместе с основными экспериментальными условиями и результатами, в том числе массовой долей смектитовых минералов (монтмориллонита) в материале (Cсм) и значениями средних концентраций элементов в поровых растворах со стороны источника диффузионной ячейки за время стационарной диффузии (Cпор). Более представительные из полученных результатов опытов по диффузии цезия, урана и селена показаны также на рис. 3.
Таблица 3. Диффузионно-сорбционные характеристики элементов в поровых растворах глинистых материалов
Обозначение эксперимента | Раствор в источнике | ρт, г/см3 | Cсм | Cпор, мг/л | De × 107, см2/с | Kd, см3/г |
Cs | ||||||
КБ-4 | МПВИ-4 | 1.33 | 0.33 | 0.085 | 3.95 | 115 |
КБ-5 | МВ-5 | 1.37 | 0.14 | 2.00 | 69 | |
ТБ-4 МПВИ-4 | 1.35 | 0.36 | 0.048 | 2.01 | 72 | |
ТЗ-6 | МПВИ-6 | 1.96 | 0.06 | 0.05 | 0.77 | 26 |
ТЗ-7 | МВ-7 | 1.95 | 0.069 | 0.66 | 23 | |
ХБ-6 | МПВИ-6 | 1.12 | 0.71 | 0.13 | 3.47 | 95 |
ХБ-7 | МВ-7 | 0.96 | 0.078 | 2.78 | 107 | |
КВ-6 | МПВИ-6 | 1.09 | 0.61 | 0.045 | 2.30 | 73 |
U | ||||||
КБ-4 | МПВИ-4 | 1.33 | 0.33 | 0.0044 | 0.68 | 4 |
КБ-5 | МВ-5 | 1.37 | 0.00071 | 0.34 | 2 | |
ТБ-4 | МПВИ-4 | 1.35 | 0.36 | 0.0049 | 0.57 | 4 |
ТЗ-6 | МПВИ-6 | 1.96 | 0.06 | 0.55 | 0.45 | 5 |
ТЗ-7 | МВ-7 | 1.95 | 0.04 | 0.046 | 0.0 | |
ХБ-6 | МПВИ-6 | 1.12 | 0.71 | 0.62 | 0.46 | 8 |
ХБ-7 | МВ-7 | 0.96 | 0.002 | 0.050 | 0.0 | |
КВ-6 | МПВИ-6 | 1.09 | 0.61 | 0.54 | 0.33 | 11 |
Se | ||||||
КБ-4 | МПВИ-4 | 1.33 | 0.33 | 0.12 | 1.16 | 32 |
КБ-5 | МВ-5 | 1.37 | 0.30 | 0.51 | 4 | |
ТБ-4 | МПВИ-4 | 1.35 | 0.36 | 0.37 | 0.95 | 25 |
ТЗ-6 | МПВИ-6 | 1.96 | 0.06 | 0.11 | 0.63 | 23 |
ТЗ-7 | МВ-7 | 1.95 | 0.041 | 0.10 | 0.8 | |
ХБ-6 | МПВИ-6 | 1.12 | 0.71 | 0.11 | 0.46 | 23 |
ХБ-7 | МВ-7 | 0.96 | 0.077 | 0.66 | 4 | |
КВ-6 | МПВИ-6 | 1.09 | 0.61 | 0.104 | 0.49 | 17 |
Мо | ||||||
ТЗ-6 | МПВИ-6 | 1.96 | 0.06 | 0.02 | 0.85 | – |
ТЗ-7 | МВ-7 | 1.95 | 0.019 | 0.86 | – | |
ХБ-6 | МПВИ-6 | 1.12 | 0.71 | 0.020 | 0.92 | – |
ХБ-7 | МВ-7 | 0.96 | 0.021 | 1.14 | – | |
КВ-6 | МПВИ-6 | 1.09 | 0.61 | 0.015 | 0.42 | 5 |
Br | ||||||
КБ-4 | МПВИ-4 | 1.33 | 0.33 | 0.76 | 3.09 | – |
КБ-5 | МВ-5 | 1.37 | 1.3 | 0.48 | – | |
ТБ-4 | МПВИ-4 | 1.35 | 0.36 | 1.1 | 1.59 | – |
Р | ||||||
КБ-5 | МВ-5 | 1.37 | 0.33 | 84 | 0.30 | – |
ТЗ-7 | МВ-7 | 1.95 | 0.06 | 37 | 0.85 | 7 |
ХБ-7 | МВ-7 | 0.96 | 0.71 | 49 | 0.14 | 0.0 |
Рис. 3. Стационарные участки кривых выхода элементов при диффузии из модельных растворов через уплотненные образцы глинистых материалов: (а) – Cs/МПВИ, (б) – Cs/МВ, (в) – U/МПВИ, (г) – U/МВ, (д) – Se/МПВИ, (е) – Se/МВ.
Из элементов-имитаторов, введенных в комплексные растворы МПВИ и МВ для изучения сквозной диффузии (Р, Мn, Со, Ni, Se, Br, Sr, Mo, Cs, La, Ce, Nd, Th, U), выход в камеру-приемник диффузионной ячейки в количестве, достаточном для анализа и расчетов коэффициентов диффузии, за время экспериментов наблюдался для семи элементов: Р, Se, Br, Sr, Mo, Cs и U. Для остальных элементов-имитаторов (Мn, Со, Ni, La, Ce, Nd, Th) сорбционная задержка или осаждение в поровом растворе не позволили обнаружить сквозную диффузию через образцы глинистых материалов из-за недостаточного времени для наблюдения (Мn, Со, Ni) или из-за чрезмерного понижения концентрации в поровом растворе (La, Ce, Nd, Th).
Изучить сквозную диффузию стронция через образцы барьерных глинистых материалов из модельных растворов помешало выщелачивание стронция, содержащегося в самих глинах. По данным анализа на вакуумном рентгенофлуоресцентном спектрометре последовательного действия с дисперсией по длине волны Axios Advanced (PANalytical, Нидерланды), проведенном в ИГЕМ РАН (г. Москва), содержание стронция в исследованных глинистых материалах составляло от 100 до 450 мкг/г. В материале ХБ методом электронной микроскопии с рентгеноспектральным микроанализом на сканирующем электронном микроскопе Vega II XMU (Tescan, Чехия) с рентгеновским энергодисперсионным спектрометром INCAx-sight (Oxford Instruments, Великобритания) в ИЭМ РАН (г. Черноголовка) был найден целестин – SrSO4.
Стабильный цезий является полным химическим аналогом осколочных радионуклидов 134,135,137Cs. В модельных растворах цезий находился в форме однозарядного катиона Cs+. В отличие от стронция содержание цезия в природных минералах крайне незначительное. Это позволяет изучать диффузию стабильного цезия без опасения, что ее результаты будут искажаться за счет выщелачивания цезия из природных материалов. Сквозная диффузия цезия из обоих модельных растворов через образцы всех исследованных материалов проходила по типу 2 и предварялась продолжительной (100 сут и более) сорбционной задержкой (рис. 3, а, б). Наиболее быстрая стационарная диффузия наблюдалась в поровом растворе материалов КБ и ХБ, наиболее медленная – в материале ТЗ.
Значения диффузионно-сорбционных характеристик для цезия, рассчитанные из результатов этих экспериментов, представлены в табл. 3. Эффективные коэффициенты диффузии цезия при диффузии из модельного выщелата ФС немного ниже, чем из модельной подземной воды, и находятся в диапазоне (0.77–3.95) × 10–7 см2/с, в зависимости от состава глинистых материалов и плотности скелета образцов. Это величины сопоставимые, но не превышающие коэффициенты самодиффузии воды в глинистых материалах, определенные для этих материалов по тритию [4]. Уплотненные образцы глинистых барьерных материалов имеют по цезию самые высокие коэффициенты сорбционного распределения из всех изученных элементов в обоих модельных растворах с имитаторами элементов РАО. При этом значения KdCs для обоих модельных растворов – МПВИ (26–115 см3/г) и МВ (23–107 см3/г) – были близки.
Уран в химическом реактиве UO2(NO3)2·6H2O, использованном для подготовки модельных растворов, представляет собой природную смесь изотопов, преимущественно 238U, которые являются полными химическими аналогами долгоживущих радионуклидов 234,235U. В модельных растворах уран находился в форме оксокатиона уранила UO22+ и сложных ионов уранила с карбонатными, фосфатными и гидроксильными анионами.
Сквозная диффузия урана через уплотненные образцы барьерных глинистых материалов и милонита наблюдалась во всех проведенных экспериментах. Диффузия урана из модельного раствора МПВИ (рис. 3, в) проходила по типам 2 (с сорбцией на образце) и 4 (с осаждением из порового раствора и сорбцией на образце). Диффузия урана из модельного раствора МВ (рис. 3, г) проходила только по типу 4. В случаях, когда осаждения урана в поровом растворе не наблюдалось (ТЗ-6, ХБ-6, КВ-6), диффузия проходила при большой разнице концентраций урана в источнике и приемнике (ΔСt) и высоких концентрациях урана в поровом растворе со стороны источника диффузионной ячейки (Cпор) (табл. 3), а время сорбционной задержки было максимальным (от 50 до 160 сут). В остальных случаях, соответствующих диффузии с осаждением в поровом растворе (тип 4), концентрации урана в растворе со стороны источника (Cпор) и разница концентраций урана в источнике и приемнике (ΔСt) были минимальны (табл. 3). Таким образом, концентрация элемента (радионуклида) в поровом растворе является важной характеристикой результата его осаждения, если оно, конечно, происходит. Ее необходимо использовать в расчетах миграции радионуклидов в конкретных условиях объектов захоронения РАО.
Наклон кривых выхода урана для всех экспериментов значительно меньше, чем для цезия, и имеет максимальные значения для материалов КБ, ТБ и минимальные – для ТЗ, ХБ и КВ (рис. 3, в, г). Разница между максимальным и минимальным наклоном составляет для диффузии их раствора МПВИ два раза, для МВ – почти 10 раз. Эффективные коэффициенты диффузии урана варьируются в диапазоне (0.5–6.8) × 10–8 см2/с, в зависимости от состава материалов и плотности скелета образцов (табл. 3). Этот диапазон на порядок ниже, чем для цезия. Коэффициенты сорбционного распределения урана из модельной подземной воды с имитаторами элементов РАО имеют значения от 4 до 11 см3/г для разных материалов. Для модельного выщелата ФС они не превышают 2 см3/г (табл. 3). Сорбционные характеристики уплотненных образцов глинистых материалов по урану значительно ниже по сравнению с цезием.
Стабильный селен является полным химическим аналогом осколочного радионуклида 79Se. В модельных растворах он присутствовал преимущественно в виде анионов Se(IV): НSeO3– и SeO32–. Сквозная диффузия селена наблюдалась во всех сериях экспериментов с уплотненными образцами глинистых материалов. Характер диффузии селена в поровых растворах образцов барьерных материалов и милонита радикально отличался для разных типов модельных растворов. Для модельных растворов МПВИ (модельной подземной воды с имитаторами элементов РАО) во всех образцах диффузия проходила по типу 2 с временной задержкой (рис. 3, д), отражающей сорбционное взаимодействие селенит-иона с образцом. Максимальный наклон кривых выхода наблюдался для материалов КБ и ТБ, минимальный – для ТЗ, КВ и ХБ. Разница между максимальным и минимальным наклоном составляла 2.5 раза. Для модельных растворов МВ (модельный выщелат ФС) диффузия проходила по типу 4 (рис. 3, е). Максимальный наклон кривых выхода наблюдался для материалов ХБ и КБ, минимальный – для ТЗ. Разница между максимальным и минимальным наклоном составляла 6 раз.
Для большинства экспериментов значения эффективных коэффициентов диффузии селена находились в диапазоне (0.46–1.16) × 10–7 см2/с (табл. 3). Только для материала ТЗ, который обладал максимальной плотностью скелета 1.95 г/см3, при диффузии из модельного выщелата ФС значение DeSe составило 0.10 × 10–7 см2/с. Таким образом, селен имел промежуточные значения эффективных коэффициентов диффузии в поровых растворах глинистых образцов между цезием и ураном. Те же соотношения наблюдались для коэффициентов сорбционного распределения селена на изученных образцах. Причем так же, как для цезия и урана, значения KdSe выше для модельных растворов МПВИ (17–32 см3/г), чем для растворов МВ (0.8–4 см3/г).
Результаты экспериментов по диффузии брома, молибдена и фосфора представлены в табл. 3 и на рис. 4 и 5 в виде стационарных участков кривых выхода имитаторов элементов РАО через уплотненные образцы разных материалов при диффузии из модельных растворов. На рис. 4 также показаны результаты опытов по диффузии трития (НТО), полученные ранее [4]. Диффузия брома проходила во всех случаях по типу 3, молибдена – по типу 1 (кроме эксперимента с КВ-6 – тип 2), фосфора – по типу 3 из раствора МПВИ и типу 4 из растворов МВ. В отличие от примера на рис. 2, г, точки, отражающие сорбционную задержку и этап нестационарной диффузии, на рис. 3–5 не показаны с целью не перегружать эти рисунки. Поэтому участки кривых выхода элементов при диффузии по типу 4 и 3 на рис. 3–5 выглядят одинаково. Типизация кривых диффузионного выхода в этих случаях основана на не отображенных на рисунках данных об этапах, предшествующих стационарной диффузии. Указанные типы диффузии для брома, молибдена и фосфора означают, что молибден в поровых растворах глинистых материалов (кроме КВ) находился в форме химически инертной несорбирующейся частицы, бром во всех экспериментах и фосфор при диффузии из раствора МПВИ – в форме несорбирующихся частиц, но взаимодействующих с другими компонентами поровых растворов, а при диффузии из раствора МВ частицы фосфора были химически активны в поровом растворе и сорбировались на поверхности твердых фаз.
Рис. 4. Стационарные участки кривых выхода трития (НТО) по данным работы [4] и имитаторов элементов РАО через уплотненные образцы глинистых материалов при диффузии из модельной подземной воды (МПВИ): (а) – КБ, (б) – ТБ, (в) – ТЗ, (г) – ХБ, (д) – КВ.
Рис. 5. Стационарные участки кривых выхода имитаторов элементов РАО через уплотненные образцы глинистых материалов при диффузии из модельных выщелатов фосфатного стекла (МВ): (а) – КБ, (б) – ТЗ, (в) – ХБ.
Эффективные коэффициенты диффузии брома лежат в диапазоне (0.48–3.09) × 10–7 см2/с (максимальные значения – для диффузии из раствора МПВИ, минимальные – МВ). Для молибдена диапазон вариации составил DeМо = (0.42–1.14) × 10–7 см2/с, для фосфора – DeР = (0.14–0.85) × 10–7 см2/с (табл. 3). Коэффициенты сорбционного распределения для брома, молибдена и фосфора равны нулю, кроме эксперимента КВ-6 в модельном растворе МПВИ для молибдена – KdМо = 5 см3/г и эксперимента ТЗ-7 в модельном растворе МВ для фосфора – KdР = 7 см3/г. Два исключения (для молибдена и фосфора) пока следует рассматривать как предварительные результаты, требующие в дальнейшем подтверждения.
При диффузии из модельных растворов МПВИ (модельная подземная вода) в поровом растворе изученных материалов эффективные коэффициенты диффузии элементов убывают в ряду НТО > Cs > Br > Mo > Se > U (рис. 4). Максимальная разница с учетом трития составляет до 10 раз. При диффузии из модельного выщелата ФС (МВ) для барьерных материалов характерна другая последовательность: Cs > Mo = Br > Se > P = U, а для милонита – Mo = P > Cs > Se > U. Разница между максимальным и минимальным значением De из растворов МВ составляет от 6 до 60 раз.
Таким образом, полученные экспериментальные данные показали, что диффузия элементов РАО в поровом растворе уплотненных глинистых материалов из разных по солевому составу модельных растворов происходит по-разному как в отношении значений эффективных коэффициентов диффузии элементов, так и в отношении проявления сопряженных с диффузией процессов сорбции на глинистых материалах и осаждения в поровом растворе образцов.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На рис. 6 показаны результаты экспериментов по определению эффективных коэффициентов поровой диффузии селена, цезия и урана методом сквозной диффузии из малосолевых растворов (до 1 г/л) в зависимости от плотности скелета для различных глинистых материалов, включая результаты, представленные в табл. 3 и в работе [4] по диффузии элементов в поровом растворе уплотненных российских глинистых материалов, пригодных для создания защитных барьеров на объектах консервации и захоронения РАО.
Рис. 6. Экспериментальные данные по зависимости эффективных коэффициентов диффузии селена, цезия и урана от плотности скелета глинистых материалов: эта работа и [4] – разные глины (табл. 3); [11] – бентонит FEBEX (Испания): 93% Ca-смектита; [13, 14, 21] – бентонит MX-80 (США): 88.6% Na-смектита; [15] – Kunipia-F: обогащенный 95% Na-монтмориллонит из бентонита Kunigel-V1 (Япония); [16] – глины Opalinus Clay (Швейцария); [17] – Kunipia-P: обогащенный 99.9% Na-монтмориллонит из бентонита Kunigel-V1 (Япония); [18, 19, 20, 23] – бентонит GMZ (Китай): 75.4% Na-Ca-монтмориллонита; [22] – Сa-монтмориллонит (95%), полученный из Kunipia-F.
Экспериментальные данные по отечественным материалам попадают в диапазон варьирования эффективных коэффициентов диффузии элементов в поровых растворах глинистых материалов, который за исключением отдельных результатов, сильно отклоняющихся от общей массы, составляет около двух десятичных порядков. Такой значительный диа- пазон варьирования главной миграционной характеристики радионуклидов в материалах защитных барьеров обусловлен не только неопределенностями экспериментов и различием в методиках и оборудовании, но и тем, что на значения De влияют и другие факторы, кроме плотности скелета материалов.
При анализе экспериментальных данных по эффективным коэффициентам диффузии радионуклидов в поровом растворе уплотненных глинистых материалов [4] была предложена характеристика диффузионной системы, названная общим фактором диффузии FD, суммирующим эффект частных факторов: пористости образца (ε), содержания смектита (Cсм) и концентрации радионуклида (элемента) в поровом растворе (Спор, мг/л). Пористость может быть рассчитана исходя из плотности скелета материала. Содержание смектита в материале определяется как массовая доля смектитовых минералов (табл. 3). В качестве фактора влияния состава раствора была выбрана средняя за время стационарной диффузии концентрация радионуклида в поровом растворе со стороны источника (Спор, табл. 3).
Принципы учета всех частных факторов диффузии для расчета общего фактора диффузии описаны в работе [4]. Уравнения для расчета общего фактора диффузии в рассматриваемых ниже диффузионных системах приведены на рис. 7 под диаграммами зависимостей эффективных коэффициентов диффузии элементов от этой характеристики. Для расчета значений FD и построения этих диаграмм были использованы экспериментальные данные из табл. 3 и работы [4]. С левой стороны приведены зависимости De (см2/с) от FD для диффузии из растворов МПВИ (модельная подземная вода), справа – МВ (модельный выщелат ФС).
Рис. 7. Зависимости эффективного коэффициента поровой диффузии цезия, урана и селена из модельных растворов МПВИ и МВ от общего фактора диффузии для уплотненных глинистых материалов: (а) – Cs/МПВИ, (б) – Cs/МВ, (в) – U/МПВИ, (г) – U/МВ, (д) – Se/МПВИ, (е) – Se/МВ.
Зависимости DeCs от FDCs для диффузии из обоих модельных растворов и уравнения для расчета FDCs по частным факторам диффузии однотипны (рис. 7, а, б). Различие наблюдается только в знаке учета концентрации цезия в поровом растворе, но вклад этого фактора в величину FDCs очень небольшой. Решающее значение имеет предположение о том, что доля смектита в обоих случаях одинаково незначительно влияет на изменение эффективного коэффициента диффузии цезия. Если данные по обоим модельным растворам объединить (n = 12), то общий фактор диффузии для цезия и зависимость от него эффективного коэффициента диффузии могут быть описаны уравнениями:
В отличие от цезия диффузия урана чрезвычайно чувствительна к солевому составу раствора. В разных модельных средах на общий фактор диффузии разное воздействие оказывают как содержание смектита в глинистом материале, так и концентрация урана в поровом растворе. Первый частный фактор диффузии имеет определяющее значение в модельном растворе МПВИ (рис. 7, в), второй – в модельном растворе МВ (рис. 7, г). Зависимости DeU от общего фактора диффузии также имеют совершенно разный вид для разных растворов: для модельной подземной воды (МПВИ) –
для модельного выщелата (МВ) –
При диффузии селена в разных солевых системах решающую роль играет степень влияния содержания смектита в глинистом материале (Cсм). В модельной подземной воде этот фактор очень весом и во многом определяет общий фактор диффузии (рис. 7, д), в модельном выщелате влияние содержания смектита невелико и общий фактор диффузии определяется в основном пористостью материала (рис. 7, в). Концентрация селена в поровом растворе (СSeпор) в обоих случаях влияет на FDSe одинаково. Общий вид зависимостей эффективного коэффициента диффузии селена в поровых растворах глинистых материалов подобен для обоих составов модельных растворов. Однако с учетом разницы в расчете значений FDSe эти зависимости могут быть корректно описаны модельными уравнениями только по отдельности: для модельной подземной воды (МПВИ) –
для модельного выщелата (МВ) –
Таким образом, проведенные эксперименты показали, что смена солевого состава модельного раствора не изменила диффузию цезия, но оказала значительное влияние на диффузию урана и селена в поровом растворе уплотненных глинистых материалов. Это может объясняться по крайней мере двумя причинами, которые обе связаны с формой нахождения элементов в поровом растворе.
Первой причиной может быть изменение степени набухания смектитовых минералов (монтмориллонита) при взаимодействии с растворами разного солесодержания. В растворах модельного выщелата с более высокой концентрацией солей, содержащих фосфатные анионы, набухание выражено в меньшей степени, чем в менее соленых растворах модельной подземной воды (табл. 1). Набухание смектитовых пакетов глинистых минералов изменяет структуру пористости и водонасыщенности материалов, уменьшая межзерновую составляющую и увеличивая водонасыщенное межслоевое пространство смектитовых минералов [24]. Однако на диффузию относительно небольшого катиона Cs+ это не оказывает сильного влияния, так как оба уровня водонасыщенной пористости доступны для его диффузионного переноса.
Крупные сложные анионы уранила, например (UO2)2CO3(OH)3− и UO2(CO3)34−, и селенита, например НSeO3– и SeO32–, более заметно реагируют на изменение поровой структуры. Кроме того, при значении рН раствора около 8 происходит инверсия в преобладании частиц в растворах для обоих приведенных пар анионов [2, 18]. Значения рН модельных растворов находились в интервале рН 8–9 (табл. 1). В этом же диапазоне находились значения рН при выщелачивании ФС модельной подземной водой в присутствии бентонита БХ при комнатной температуре [10], а в поровом растворе щелочных или модифицированных содой бентонитов значения рН могут быть еще выше. То есть формы нахождения элементов в растворах очень чувствительны к диапазону значений рН как в диффузионных экспериментах, так и в условиях реальных барьеров, а разные частицы водного раствора для одного элемента обладают разными значениями эффективных коэффициентов диффузии. Это является второй причиной влияния состава раствора на поровую диффузию урана и селена в уплотненных глинистых материалах. В совокупности с первой причиной (структурной) может возникать синергетический эффект.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные при комнатной температуре эксперименты по сквозной диффузии имитаторов элементов РАО позволили изучить перенос P, Se, Br, Mo, Cs и U в уплотненных образцах глинистых материалов различного минерального состава при поровой диффузии из модельных растворов: подземной воды и выщелата фосфатной матрицы с суммарным содержанием солей до 500 мг/л. По результатам экспериментов были определены эффективные коэффициенты диффузии и коэффициенты сорбционного распределения P, Se, Br, Mo, Cs и U в барьерных материалах.
Для численного описания эффективных коэффициентов диффузии селена, цезия и урана была использована предложенная ранее характеристика диффузионной системы – общий фактор диффузии FD, суммирующий эффект частных факторов: пористости образца, содержания смектита и концентрации радионуклида (элемента) в поровом растворе. Проведенный анализ показал, что общий фактор диффузии и зависимость от него эффективных коэффициентов диффузии в поровом растворе уплотненных глинистых материалов для цезия одинаковы для обоих модельных растворов: подземной воды и выщелата ФС, в то время как для селена и урана диффузионные характеристики для разных по солевому составу растворов существенно различаются, что требует их отдельного модельного описания для разных диффузионных систем.
Незначительное для цезия и определяющее для селена и урана влияние состава раствора на диффузию объяснено разной реакцией частиц этих элементов в растворе на изменение структуры пористости в результате набухания смектитовых минералов и различием коэффициентов диффузии разных частиц селена и урана, форма которых чувствительна к составу и значениям рН порового раствора.
Эмпирические решения для численного прогноза диффузионных свойств элементов в поровых растворах барьерных глинистых материалов могут быть использованы для расчетов миграции радионуклидов в конкретных физико-химических условиях и оценки безопасности защитных инженерных барьеров объектов захоронения и консервации РАО.
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
K. V. Martynov
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: mark0s@mail.ru
Russian Federation, Leninskii pr. 31, korp. 4, Moscow, 119071
E. V. Zakharova
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences
Email: mark0s@mail.ru
Russian Federation, Leninskii pr. 31, korp. 4, Moscow, 119071
References
- Sellin P., Leupin O.X. // Clays Clay Miner. 2013. Vol. 61. N 6. P. 477.
- Wang C., Myshkin V.F., Khan V.A., Panamareva A.N. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2022. Vol. 331. P. 3401.
- Мартынов К.В., Захарова Е.В. // Тр. Всерос. ежегод. семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии (Москва, 2022) / Отв. ред. О.А. Луканин. М: ГЕОХИ РАН, 2022. С 379.
- Мартынов К.В., Коневник Ю.В., Захарова Е.В. // Радиохимия. 2023. Т. 65. № 4. С. 364.
- Ильина О.А., Крупская В.В., Винокуров С.Е., Калмыков С.Н. // Радиоактивные отходы. 2019. № 4(9). С. 71.
- Абрамов А.А., Большов Л.А., Дорофеев А.Н., Игин И.М., Казаков К.С., Красильников В.Я., Линге И.И., Трохов Н.Н., Уткин С.С. // Радиоактивные отходы. 2020. № 1 (10). С. 9.
- Вашман А.А., Демин А.В., Крылова Н.В., Кушников В.В., Матюнин Ю.И., Полуэктов П.П., Поляков А.С., Тетерин Э.Г. Фосфатные стекла с радиоактивными отходами / Под ред. А.А. Вашмана, А.С. Полякова. М.: ЦНИИатоминформ, 1997. 172 с.
- Кочкин Б.Т., Мальковский В. И., Юдинцев С.В. Научные основы оценки безопасности геологической изоляции долгоживущих радиоактивных отходов (Енисейский проект). М.: ИГЕМ РАН, 2017. 384 с.
- Мартынов К.В., Захарова Е.В., Кулюхин С.А. // Радиоактивные отходы. 2022. № 2 (19). С. 68.
- Мартынов К.В., Захарова Е.В. // Радиоактивные отходы. 2023. № 2 (23). С. 63.
- Garcia-Gutierrez M., Cormenzana J.L., Missana T., Mingarro M., Molinero J. // J. Iber. Geol. 2006. Vol. 32. N 1. P. 37.
- Martynov K.V., Konstantinova L.I., Konevnik Yu.V., Proshin I.M., Zakharova E.V. // Exp. Geosci. 2014. Vol. 20. N 1. P. 94.
- Muurinen A., Pemtilä-Hiltunen P., Uusheimo K. // MRS Online Proc. Library. 1988. Vol. 127. P. 743.
- Muurinen A., Ollila K., Lehikoinen J. // MRS Online Proc. Library. 1992. Vol. 294. P. 409.
- Kozaki T., Sato Y., Nakajima M., Kato H., Sato S., Ohashi H. // J. Nucl. Mater. 1999. Vol. 270. P. 265.
- Joseph C., Van Loon L.R., Jakob A., Steudtner R., Schmeide K., Sachs S., Bernhard G. // Geochim. Cosmochim. Acta. 2013. Vol. 109. P. 74.
- Tachi Y., Yotsuji K. // Geochim. Cosmochim. Acta. 2014. Vol. 132. P. 75.
- Wang Z., Wang H., Li O., Xu M., Guo Y., Li J., Wu T. // Appl. Geochem. 2016. Vol. 73. P. 1.
- Wu T., Wang Z., Wang H., Zhang Z., Van Loon L.R. // Appl. Clay Sci. 2017. Vol. 141. P. 104.
- Wang Z., Wu T., Ren P., Hua R., Wu H., Xu M., Tong Y. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2019. Vol. 322. P. 801.
- Kong J., Lee C.-P., Sun Y., Hua R., Liu W., Wang Z., Li Y., Wang Y. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2021. Vol. 328. P. 717.
- Fukatsu Y., Yotsuji K., Ohkubo T., Tachi Y. // Appl. Clay Sci. 2021. Vol. 211. Art. 106176.
- Wu T., Geng Z., Feng Z., Pan G., Shen Q. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2022. Vol. 331. N 4. P. 2311.
- Zhu C.-M., Ye W.-M., Chen Y.-G., Chen B., Cui Y.-J. // Eng. Geol. 2013. Vol. 166. P. 74–80.
Supplementary files