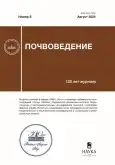Atmospheric Solid Fallouts as a Source of Hydrophobicity of Urban Soils and Material for Their Formation
- Authors: Goncharov N.V.1, Prokofyeva T.V.1, Potapov D.I.1, Fedotov G.N.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: No 8 (2024)
- Pages: 1133-1144
- Section: DEGRADATION, REHABILITATION, AND CONSERVATION OF SOILS
- URL: https://bakhtiniada.ru/0032-180X/article/view/275727
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0032180X24080085
- EDN: https://elibrary.ru/KMKFQM
- ID: 275727
Cite item
Full Text
Abstract
In urban conditions, the soil is exposed to a number of adverse effects that have a great impact on its hydrophobic and hydrophilic properties. The water-repellent properties of urban dust and soil samples were determined using a WDPT test, the process of hydrophobization of Albeluvisols in the conditions of a megalopolis was modeled and its speed was estimated. The study used three dust samples with different values of the WDPT test from 420 to 850 seconds. According to the results of the model experiment it is shown that with an increase in the amount of solid atmospheric precipitation in the Retisols material, the level of its hydrophobicity also increases. The rate of increase depends on the water-repellent properties of the dust sample. When polluted with the most hydrophobic dust, the maximum hydrophobization of the humus-accumulative soil horizon is achieved at a 70-year load. For other dust samples, an increase in the time of absorption of a drop was observed up to the maximum period of aerial soil contamination within the model experiment (200 years). Values of the WDPT test for the studied soil horizons ranged from 2.4 s for background soil, to 1493.5 s for urban soil formed near a major highway for 90 years. In the soil of residential buildings of 40 years of age, the value was 237.1 s. The correspondence of the levels of hydrophobicity, the degree of anthropogenic load and the residence time of sites in the urban environment in the model experiment and in samples of real urban soils at the study sites indicates that solid atmospheric fallouts is a component of humus-accumulative horizons of urban soils and has a significant impact on their water-repellent properties.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Оптимальное содержание воды в почве является одним из важнейших физических свойств, определяющих рост и развитие растений. Водоотталкивающая способность почв может зависеть от множества факторов, таких как гранулометрический состав, плотность, содержание и состав почвенного органического вещества и многих других [34]. В городских условиях почва подвергается влиянию ряда неблагоприятных экологических процессов: увеличению запечатанности территорий, снижению озелененности, захламлению поверхности, переуплотнению корнеобитаемого слоя, нарушению теплового режима, поступлению загрязняющих веществ из атмосферы и многих других [6]. Часть из этих процессов оказывает большое влияние на гидрофобно-гидрофильные свойства почв. Как результат, затрудняется выполнение почвами главных экологических функций, в том числе плодородия, т.е. пригодности для произрастания зеленых насаждений [4]. Из-за увеличения гидрофобности почвенных агрегатов почва имеет низкую водопроницаемость и практически не увлажняется, в результате растения не получают необходимого количества влаги [1]. Считается, что главным образом гидрофобность твердой фазы почв зависит от содержания в ней органического вещества [1, 20, 52]. В то же время показано, что органическое вещество, обладая амфифильными свойствами, не всегда приводит к увеличению гидрофобности [7, 36, 44, 45]. Зафиксирована зависимость водоотталкивающей способности от величины pH [44, 45]. Исследования влияния гранулометрического состава показали, что увеличение содержания глинистых частиц может приводить как к уменьшению [40, 43], так и росту [41] гидрофобности. Подобные различия объясняются тем, что глинистые частицы при наличии высоких концентраций органического вещества и его гидрофобной природы могут быть покрыты гидрофобными пленками, вследствие чего степень гидрофобности увеличивается. В случае, когда имеется ограниченное количество почвенных гидрофобных соединений, покрывающих частицы почвы, увеличение содержания глинистых частиц приводит к уменьшению гидрофобности из-за роста площади поверхности частиц. Также площадь поверхности глинистой почвы может уменьшаться при агрегировании, что может объяснить наблюдаемую сильную водоотталкивающую способность почвы с высоким содержанием глины [51]. Обнаружено увеличение гидрофобности почв при загрязнении углеводородами [27].
В городе основным агентом привноса антропогенных частиц в почву являются твердые атмосферные выпадения (ТАВ). В настоящее время изучению влияния ТАВ посвящено множество работ [12, 13, 24, 26, 32]. В составе городской пыли, в зависимости от местных особенностей, может встречаться большое количество частиц, оказывающих то или иное негативное воздействие на городские почвы. К таковым можно отнести частицы, содержащие тяжелые металлы, которые являются производными от эксплуатации автотранспорта [3, 13, 19, 47], первичные биологические аэрозольные частицы, в том числе патогенные [24, 42], выбросы промышленных предприятий строительной отрасли, обогащенные Pb, Ca, Fe [28], угледобывающей отрасли, имеющие повышенные концентрации редкоземельных элементов [29, 30], полиароматические углеводороды [46, 48, 54]. При сопряженном изучении городской пыли и почв, в них обнаружено сходство в содержании углеводородов [12, 21], концентрации тяжелых металлов [13], составе микроорганизмов [24] и других компонентов [25], что может говорить об участии ТАВ в формировании поверхностных горизонтов почв [53].
Для исследования гидрофобности почв используются различные методы: краевой угол смачивания (КУС) [27], метод просачивания водной капли (WDPT-тест) [37, 50], метод цветной капли [23]. В отечественной науке метод КУС приобрел широкое распространение [14, 27, 31, 33], однако результаты применения данного метода могут сильно варьировать в зависимости от геометрии поверхности образца, размера частиц, температуры и времени высушивания, минералогии образца, влажности и других факторов [31]. Преимуществами метода просачивания водной капли являются отсутствие больших трудозатрат в процессе пробоподготовки, высокая скорость анализа, а также возможность повторно произвести опыт на использованном образце. Минусом данного метода можно назвать большую погрешность измерений, что реально отчасти компенсировать увеличением количества повторностей.
В качестве экспресс-теста оценки комплексного антропогенного воздействия в городских условиях широко используется анализ пространственного распределения объемной магнитной восприимчивости (ОМВ) почв. В этом аспекте можно отметить диссертационную работу [5], в которой были определены фоновые значения ОМВ почв (0.15–0.3 ед. СИ × 10–3), а также средние значения ОМВ почв г. Москвы (1.14 ед. СИ × 10-3). При этом следует упомянуть, что территория г. Москвы отличается сильной техногенной неоднородностью, например, для парков и лесопарков характерны значения ОМВ, близкие к фоновым (<0.3 ед. СИ × 10–3), для промышленных зон, напротив, характерны повышенные значения (> 1.0 ед. СИ × 10–3). Таким образом, было обосновано, что увеличение техногенной нагрузки приводит к увеличению ОМВ почв. Автор [18] при оценке техногенного загрязнения почв методом каппаметрии показал, что изменение магнитных свойств почв позволяет дать экспрессную оценку содержания тяжелых металлов.
Цели работы – смоделировать процесс гидрофобизации почв в условиях мегаполиса, оценить его скорость и подтвердить гипотезу о том, что материал пылевых выпадений оказывает влияние на свойства поверхностных горизонтов городских почв.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
В качестве объектов исследования выбраны почвы семи участков на территории Москвы и Московской области, имеющие разную степень техногенной нагрузки. Территория отбора проб находится в подзоне южной тайги хвойно-широколиственных лесов, в области умеренно-континентального климата с теплым летом и умеренно-холодной, достаточно снежной зимой. Среднегодовая температура +5…+6°C, количество осадков достигает 600–650 мм [10]. Участки, расположенные в городской черте, немного отличаются по климатическим условиям. В отличие от температуры в области, среднегодовая температура в Москве составляет +6.3°C. Среднегодовая сумма осадков в Москве превышает количество осадков в Московской области и составляет 712 мм [9].
Участки исследования отличаются по времени нахождения в городской черте и, следовательно, по длительности антропогенного воздействия. С другой стороны, они характеризуются разным типом функционального использования, что также может отражаться на итоговых результатах.
Участок 1. В качестве фоновых почв за пределами города выступают дерново-подзолистые почвы средне-тяжелосуглинистые (Dystric Albic Retisol (Loamic)) на покровных суглинках, подстилаемых мореной. Поверхностный горизонт почв был отобран недалеко от УОПЭЦ “Чашниково” (координаты места отбора проб 56.0434° N, 37.1728° E). Данный участок находится вдали от источников антропогенной нагрузки. От ближайшей автомагистрали 800 м, до ближайшего крупного населенного пункта, Зеленограда, около 3.5 км, до Москвы около 20 км. Почвы именно этого участка были использованы в опыте по моделированию аэрального загрязнения.
Участок 2. Внутригородской фон представлен почвами Алешкинского леса (наиболее лесистая часть природно-исторического парка Тушинский), располагающегося в районе “Северное Тушино” на северо-западе Москвы. Последние рубки зафиксированы во время Великой отечественной войны. После 1945 г. лесной массив без изменений находился в состоянии городского леса. Район вошел в состав Москвы в 1960 г. Почвы – дерново-подзолистые средне-тяжелосуглинистые (Dystric Albic Retisol (Loamic)) на покровных суглинках, подстилаемых мореной.
Участок 3 также расположен на территории Алешкинского леса, однако не в центральной, а в восточной его части. Во время Великой отечественной войны данная территория подвергалась распашке, зафиксированы постагрогенные дерново-подзолистые почвы (Dystric Albic Retisol (Aric, Loamic)) [21]. В непосредственной близости от участка с 1975 г. существует депо “Планерное”. Данную территорию можно рассматривать как переходную между более естественной экосистемой Алешкинского леса и селитебными территориями города.
Участок 4 расположен в Ботаническом саду на Воробьевых горах на участке культурных растений. В данном месте почва неоднократно удобрялась компостами, определена как рекреазем на техногенных отложениях (Endostagnic Phaeozem (Loamic, Relocatic, Organotransportic, Technic)), подстилаемых агродерново-подзолистой почвой на покровных суглинках.
Участок 5 расположен на перекрестке ул. Менделеевской и ул. Академика Хохлова, в непосредственной близости от Ботанического сада МГУ. Почвы участка представлены урбостратоземом (Urbic Technosol (Arenic Mulminovic Transportic)), стратифицированным слоем рекультиванта. Стоит отметить, что свойства почвогрунтов, добавляемых при работах по благоустройству, такие как кислотность, содержание органического вещества и нефтепродуктов, гранулометрический состав, варьируют в широких пределах [13, 22], что может влиять и на гидрофильно-гидрофобные свойства почв.
Участок 6 располагается на территории ИМГРЭ РАН вдоль ул. Вересаева. Газон сформировался после строительства здания института в 1985 г. Почвенный покров представлен маломощным урбостратоземом (Urbic Technosol (Loamic Transportic)), на техногенных отложениях, сформированных из турбированных и загрязненных строительно-бытовым мусором дерново-подзолистых почв с микрофрагментами морены. В парке на той же улице обнаружены дерново-подзолистые почвы на покровном суглинке.
Участок 7 приурочен к территории ИПЭЭ РАН, расположенной вдоль Ленинского проспекта, крупной транспортной артерии города. Само здание ИПЭЭ РАН было построено в 1934 г. Почва – урбостратозем (Urbic Technosol (Calcaric Siltic Transportic)), на техногенном грунте. В течение длительного времени почва развивалась без значительных турбаций в условиях постоянной интенсивной аэральной нагрузки от Ленинского проспекта.
Таким образом был сформирован ряд ключевых участков (от участка 1 до участка 7) на суглинистых отложениях, различающихся по ряду показателей (табл. 1).
Таблица 1. Сравнительная характеристика ключевых участков
Параметр | Номер участка | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Срок с момента последней турбации почвы | – | 80 | 80 | 10 | 5 | 40 | 90 |
Тип землепользования | Земли лесного фонда | ООПТ | ООПТ | ООПТ | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
Тип функционального использования | – | Рекреационный | Рекреационный | Рекреационный | Рекреационный | Жилой | Транспортный |
Количество лет в черте города | – | 60 | 60 | 60 | 70 | 40 | 300 |
Фактическое землепользование | Лес | Лес, рекреация | Лес, рекреация | Участок культурных растений | Придорожный газон | Общественная – жилая территория | Общественная –транспортная территория |
В качестве дополнительной характеристики антропогенного воздействия использовался показатель объемной магнитной восприимчивости почв. ОМВ определялась при помощи каппаметра KT-5 в соответствии с методикой Гладышевой и Иванова с некоторыми изменениями в размере площади обследования для получения более репрезентативных результатов. Полученные значения ОМВ помогли выстроить участки в ряд по возрастанию антропогенной нагрузки (табл. 2).
Таблица 2. Значения объемной магнитной восприимчивости поверхностных горизонтов почв ключевых участков
Номер участка | Местоположение | ОМВ, ед. СИ × 10-3 | Коэффициент вариации, % | ||
cреднее | медиана | cтандартное отклонение | |||
1 | Чашниково | 0.19 | 0.18 | 0.04 | 21 |
2 | Алешкинский лес (центр) | 0.19 | 0.22 | 0.07 | 30 |
3 | Алешкинский лес (восток) | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 42 |
6 | ИМГРЭ РАН | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 22 |
4 | Ботанический сад МГУ (рекреазем) | 0.49 | 0.43 | 0.13 | 27 |
5 | Ботанический сад МГУ (урбостратозем) | 0.85 | 0.62 | 0.61 | 72 |
7 | ИПЭЭ РАН | 1.75 | 1.76 | 0.12 | 28 |
В практике метод КУС стал эффективным методом определения изменения физико-химических свойств почв, оценки их деградационных изменений в условиях повышенной антропогенной нагрузки [8, 14, 31, 39]. Тем не менее, из-за своей простоты и скорости анализа для исследования использовали метод просачивания водной капли, так как полагали, что он также является эффективным способом отслеживания изменения гидрофильно-гидрофобных свойств почв. Этим методом была определена гидрофобность образцов, полученных в результате модельного опыта, а также образцов поверхностных горизонтов почв с участков исследования и образцов пыли, задействованной в эксперименте. В зависимости от времени проникновения водной капли почвы разделяют на следующие классы по степени гидрофобности [38]: смачиваемая (гидрофильная) – <5 c, слабогидрофобная – 5–60 с, умеренно-гидрофобная – 60–600 с, сильногидрофобная – 600–3600 с; чрезвычайно гидрофобная – > 3600 с.
Для исследования взаимосвязи между объемом пылевых выпадений и изменением гидрофобности был поставлен модельный опыт. Образец почвы для опыта был отобран из гумусово-аккумулятивного горизонта дерново-подзолистой почвы на участке 1 в исходной влажности методом конверта. Было смоделировано загрязнение пылевыми выпадениями слоя почв в 10 см, так как именно в поверхностном слое почвы происходит наиболее активная зоотурбация [8]. После определения влажности образцов и плотности [34], исходя из среднегодовой аэральной нагрузки в г. Москве в 32.85 г/м2 в год [2], рассчитывали объемы пыли, которые нужно добавить в фоновую почву для моделирования аэрального загрязнения. Были взяты объемы пыли, эквивалентные 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 150, 200-летнему загрязнению. Навески почвы, просеянной через 2 мм сито, массой 30 г вручную перемешали с загрязнителем и довели до воздушно-сухого состояния. Для уплотнения и равномерного распределения пыли внутри образца использовали вибрацию. Для предотвращения процесса самосортировки почвенных частиц и агрегатов при вибровоздействии на поверхность образца перед включением вибростола помещали груз цилиндрической формы массой 900 г, имеющий диаметр, равный внутреннему диаметру (70 мм) чашки Петри. Использовали вибростол Renfert Vibrax. Уплотнение производили в течение 10 с, при частоте вибрации 50 Гц с использованием длинноволнового диапазона прибора на втором уровне интенсивности. Одну каплю дистиллированной воды (объем 0.046 мл) помещали на поверхность почвы с помощью бюретки на высоте около 10 мм. Время, затраченное на полное проникновение капли, измеряли с помощью секундомера. Измерения проводили в десятикратной повторности.
Было поставлено 3 варианта опыта с 3 разными образцами городской пыли:
Пыль 1. Смет с дорожных конструкций Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Кутузовского тоннеля (зимний образец 2021 г.);
Пыль 2. Смет с дорожных конструкций Третьего транспортного кольца в районе площади Гагарина (летний образец 2022 г.);
Пыль 3. Смет с элементов зданий прилегающих территорий вдоль Ленинского проспекта в районе парка “Нескучный сад” (зимний образец 2022 г.).
Использование сметов вблизи автомагистралей обусловлено тем, что именно вблизи крупных транспортных артерий пыль имеет наибольшую интенсивность накопления [2, 54], а также обладает наибольшей степенью загрязнения [3, 47, 48, 54, 49].
Лабораторное определение концентрации нефтепродуктов проводили согласно ПНД Ф 16.1:2.21-98 [11], массовой доли органического вещества – согласно ГОСТ 26213-91 (по Тюрину) [16], pH водной вытяжки – согласно ГОСТ 26423-85 [17], массовой доли кремния – по методике М-2 2016 [15]. Гранулометрический состав определяли с помощью метода лазерной дифракции. Пробоподготовку осуществляли путем диспергации водной суспензии образца (соотношение дистиллированной воды в миллилитрах к массе образца в граммах – 1 : 1) на ультразвуковом диспергаторе зондового типа Digital Sonifier S-250D (Branson Ultrasonics, США) со стандартным наконечником (standard horn tip). Энергия диспергации достигала 450 Дж/мл. Для каждого типа пыли измерения проводили в трехкратной повторности с последующим вычислением среднего арифметического. Модель лазерного анализатора размеров частиц – Microtrac Bluewave. Вышеприведенные анализы проводились в испытательном лабораторном центре ФГБНУ ФИЦ “Почвенный институт им. В.В. Докучаева”.
Статистическую обработку проводили с помощью программного пакета Statistica. Хотя большинство групп из модельного опыта (9 из 13) в выборках подчинялись закону нормального распределения по критерию Шапиро–Уилка, результаты расчета критерия Бартлетта во всех выборках не позволили принять гипотезу об однородности дисперсий (p < 0.05), поэтому анализ различий и апостериорные сравнения осуществляли с помощью непараметрического анализа Краскела–Уоллиса. Уровень взаимосвязи значений ОМВ, WDPT-теста, Cорг и уровня pH ключевых участков определяли с помощью непараметрического коэффициента корреляции Спирмена, так как распределения не подчинялись закону нормального распределения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Состав образцов пыли и их гидрофобность. Образец пыли 1 может быть охарактеризован как сильногидрофобный, образцы пыли 2 и 3 – как умеренно гидрофобные. Химический анализ пылевых выпадений (табл. 3) показал, что пыль с наибольшей степенью гидрофобности имеет наибольшую массовую долю органического вещества. Однако для других образцов подобной тенденции не выявлена. Для образца 2, имеющего самую слабую степень гидрофобности, зафиксированы наименьшая среди других кислотность, а также наибольшая массовая доля кремния, однако полученная погрешность метода не позволяет сделать каких-либо значимых выводов о степени зависимости гидрофобности от содержания кремния. Количество нефтепродуктов, напротив, не продемонстрировало никакой взаимосвязи с водоотталкивающей способностью.
Таблица 3. Химическиe показатели образцов городской пыли
Номер пыли | Просачивание водной капли, с | Cорг, % | рН H2O | Содержание нефтепродуктов, мг/г | Массовая доля Si, г/кг |
1 | 851 ± 126 | 9.5 ± 0.8 | 7.7 ± 0.1 | 2.66 ± 0.66 | 275 ± 82 |
2 | 420 ± 31 | 7.4 ± 0.6 | 8.2 ± 0.1 | 4.03 ± 1.01 | 297 ± 89 |
3 | 556 ± 60 | 6.2 ± 0.5 | 7.4 ± 0.1 | 1.79 ± 0.45 | 236 ± 71 |
Анализируя гранулометрический состав образцов пылевых выпадений (рис. 1), можно сказать, что преобладающими в них являются фракции ила (<1 мкм) и мелкой пыли (1–5 мкм). Содержание фракций больше 5 мкм составляет менее 5%. Подобный гранулометрический состав можно объяснить местом отбора проб, все 3 образца отбирали с высоты 0.5 м и более в условиях сильных ветровых потоков от активного трафика, что исключало наличие крупных гранулометрических фракций. Пыль 1 имеет более тонкий гранулометрический состав, чем пыль 2 и 3, которые, в свою очередь, имеют схожее между собой соотношение гранулометрических фракций.
Рис. 1. Гранулометрический состав образцов пыли, участвующих в модельном опыте
Анализ образцов городской пыли подтверждает тезис о том, что не всегда высокое содержание органического вещества приводит к увеличению гидрофобности [7, 36, 45, 51]. Исследования степени водоотталкивающей способности по отношению к отдельным характеристикам, таким как реакция среды, содержание нефтепродуктов, не показали наличие какой-либо взаимосвязи, что может говорить о сложном совместном действии данных факторов. В образце с преобладанием физической глины степень гидрофобности заметно выше, в отличие от других образцов. Тем не менее, образцы пыли с одинаковым гранулометрическим составом все же демонстрировали разную степень водоотталкивающих свойств, что снова говорит о сложном взаимодействии физико-химических свойств, определяющих гидрофильно-гидрофобные свойства почвы [51].
Моделирование загрязнения почв. Моделирование загрязнения почв пылью 1 (ТТК–Кутузовский тоннель) показало, что начальные дозы пыли, моделирующие загрязнение первых десятилетий, не оказывают значимого (p > 0.05) влияния на степень гидрофобности почвы (рис. 2a). По-видимому, это связано с чувствительностью метода. Далее наблюдается резкий рост времени просачивания водной капли на участке 30–60 лет. При добавлении доз, аналогичных аэральному загрязнению почв в течение 70 лет, наблюдается резкое увеличение с дальнейшим выходом “на плато” с приближением времени просачивания к времени просачивания водной капли на образце самой пыли, медианное значение которого составляет 867 с. Данный факт может говорить о том, что почвенный образец достиг практически максимальной степени гидрофобности.
Рис. 2. Скорость просачивания водной капли в зависимости от концентрации пыли 1 (а), 2 (b), или 3 (c) в фоновом образце дерново-подзолистой почвы
При использовании в качестве аэрального агента пыли 2 (ТТК–площадь Гагарина) гидрофобность опытных образцов почвы имеет на порядок более низкие значения (рис. 2b). Начальные дозы также не оказывают значимого влияния на время просачивания водной капли (p > 0.05), однако далее наблюдается устойчивый рост гидрофобности, который не прекращается даже после добавления количества пыли, аналогичного 200-летнему загрязнению. Время просачивания водной капли на исходной пыли показало медианное значение 411 с. Данный факт, вместе с результатами моделирования, может говорить о меньшем влиянии данного образца пыли на гидрофобно-гидрофильные свойства почв.
Внесение городской пыли 3 (территории вдоль Ленинского проспекта) не приносит значимых (p > 0.05) различий вплоть до предполагаемого загрязнения в 60 лет (рис. 2c). Добавление больших концентраций приводит к более или менее равномерному увеличению степени гидрофобности фоновой почвы. Медианное значения WDPT-теста на исходном образце пыли составляет 534 с, что говорит о том, что, в отличие от пыли 1, где выход на плато лежит в районе 700 с, для пыли 3 характерны меньшие значения для достижения максимальной степени гидрофобности, и они почти достигнуты в процессе эксперимента.
Результаты WDPT-теста для поверхностных горизонтов почв участков исследования и их связь с другими почвенными характеристиками и условиями землепользования. Анализируя результаты применения WDPT-теста, помимо сравнения с химическими показателями, при работе с натурными образцами не менее важной становится информация об истории землепользования участка, его местоположении относительно источников аэрального загрязнения, типе его функционального использования. Исследованные почвы различались по степени водоотталкивающей способности. Данные из табл. 4 не позволяют сделать выводов о наличии каких-либо однозначно трактуемых корреляций. Однако с уверенностью можно сказать, что почвы участков, находящиеся в селитебных и транспортных зонах, имеющие большую историю в черте города, ожидаемо имеют наибольшую степень гидрофобности (участки 6 и 7). Наибольшие значения WDPT-теста, составляющие 119, 237 и 1494 с (участки 4, 6, 7 соответственно), наблюдаются в почвах с нейтральными и слабощелочными значениями рН. Причина низких значений WDPT-теста на участке 5 (3 с) может быть связана с неоднократными подсыпками разного материала при ремонте коммуникаций, придорожных конструкций и реставрации газонов. Для лесных почв первых трех участков ожидались малые значения гидрофобности. Явной разницы между лесными почвами Москвы и Московской области не обнаружено. Увеличение гидрофобности целинной дерново-подзолистой почвы в Алешкинском лесу (смешанный лес), по-видимому, связано с большим количеством органических остатков в гумусово-аккумулятивном горизонте под подстилкой. Таким образом, почвы на участках 1, 3, 5 можно охарактеризовать как смачиваемые (гидрофильные), почвы участка 7 относятся к сильногидрофобным. Почвы остальных участков умеренно гидрофобные.
Таблица 4. Характеристики образцов поверхностных горизонтов городских почв
Номер участка | Местоположение | Время просачивания водной капли, с | ОМВ, ед. СИ × 10–3 | Cорг, % | рН H2O | Нефтепродукты, мг/г |
1 | Чашниково | 2 ± 1 | 0.19 | 5.51 | 5.5 | 0.01 |
2 | Алешкинский лес (центр) | 97 ± 25 | 0.19 | 2.82 | 4.2 | – |
3 | Алешкинский лес (восток) | 3 ± 1 | 0.17 | 1.22 | 4.3 | – |
6 | ИМГРЭ РАН | 237 ± 22 | 0.43 | 1.8 | 7.8 | 0.36 |
4 | Ботанический сад МГУ (рекреазем) | 119 ± 31 | 0.49 | 4.89 | 7.1 | – |
5 | МГУ (урбанозем) | 3 ± 1 | 0.85 | 5.55 | – | – |
7 | ИПЭЭ РАН | 1494 ± 289 | 1.75 | 6.3 | 8.1 | 1.35 |
Если наложить значения гидрофобности почв на участках на кривые, полученные в результате модельного опыта, то можно увидеть, что значение на участке 6, учитывая погрешность, лежит в районе 30–60-летней аэральной нагрузки пылью 1 (рис. 3), что примерно соответствует возрасту комплекса зданий микрорайона (примерно 40 лет). Гидрофобность почв на участках 2 и 3 в целом совпадают с результатами моделирования 80-летнего загрязнения образцами пыли 2 и 3, что соответствует времени воздействия городской среды. Разница в значениях на участках 2 и 3, по-видимому, связана с различиями в составе лесной подстилки. На участке культурных растений Ботанического сада МГУ (участок 4) периодические внесения компоста и турбации верхнего горизонта почвы сочетаются с постоянной аэральной нагрузкой от автотранспорта на ул. Менделеева. Самой гидрофобной является почва участка 7 (Ленинский проспект). Ее гидрофобность превысила значения гидрофобности всех образцов пыли и почв. Это можно объяснить гидрофобным характером органического вещества из-за длительного накопления нефтепродуктов, продолжительного времени без активных турбаций (минеральная часть верхних почвенных горизонтов состоит преимущественно из оседающей пыли) и затормаживанием микробиологической активности в условиях поступления загрязнителей вблизи крупной автомагистрали.
Рис. 3. Скорость просачивания водной капли в зависимости от концентрации пыли 1, 2, или 3 в фоновом образце дерново-подзолистой почвы по сравнению с гидрофобностью почв на участках исследования
Расчет взаимосвязи между значениями ОМВ, WDPT-теста, Cорг и уровня pH ключевых участков показал отсутствие значимых корреляций. Требуется больший объем ключевых участков для исследований данных зависимостей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Привнос пыли в почву увеличивает ее гидрофобность, хотя, как показали разные варианты опыта, характер этой зависимости может быть разный при использовании разных образцов загрязняющего агента. Увеличение происходит постепенно, в течение ряда десятилетий. Степень увеличения гидрофобности почвы зависит от количества и состава пыли, а также модифицируется другими факторами.
Установлено, что образцы твердых атмосферных выпадений, собранные в разные сезоны, в разных метеорологических условиях, в разных локациях, имеют разные свойства. Образец пыли 1 может быть охарактеризован как сильногидрофобный, образцы пыли 2 и 3 – как умеренно гидрофобные.
Результаты модельного опыта показали, что с увеличением количества твердых атмосферных выпадений в материале дерново-подзолистой почвы возрастает и уровень ее гидрофобности.
Варианты опыта по загрязнению дерново-подзолистых почв разными образцами пыли демонстрируют различную скорость увеличения степени водоотталкивающей способности. Чем менее гидрофобна пыль, тем более плавно происходит увеличение значений WDPT-теста на графике. Выход на плато был достигнут только для сильно-гидрофобной пыли 1 на отметке 70 лет модельного загрязнения. Почва также стала сильногидрофобной. Для других образцов пыли наблюдался рост значений WDPT-теста вплоть до максимального срока аэрального загрязнения почвы в рамках модельного опыта (200 лет). При загрязнении образцом пыли 2 почва достигла уровня слабой гидрофобности, при загрязнении образцом 3 – умеренной гидрофобности.
Соответствие уровней гидрофобности, степени антропогенной нагрузки и времени пребывания участков в городской среде в модельном опыте и в образцах реальных городских почв на участках исследования свидетельствует о том, что твердые атмосферные выпадения являются составляющей гумусово-аккумулятивных горизонтов городских почв и оказывают существенное влияние на их водоотталкивающие свойства.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
В данной работе отсутствуют исследования человека или животных.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии у них конфликта интересов.
About the authors
N. V. Goncharov
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: nvnv.goncharov@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-7305-1605
Russian Federation, Moscow
T. V. Prokofyeva
Lomonosov Moscow State University
Email: nvnv.goncharov@gmail.com
Russian Federation, Moscow
D. I. Potapov
Lomonosov Moscow State University
Email: nvnv.goncharov@gmail.com
Russian Federation, Moscow
G. N. Fedotov
Lomonosov Moscow State University
Email: nvnv.goncharov@gmail.com
Russian Federation, Moscow
References
- Архипова Л.В., Кормилицына О.В., Бондаренко В.В., Коолен Д. Проблемы с гидрофобностью почвы и пути их решения // Вестник МГУЛ – Лесной вестник. 2007. № 7. С. 102–106.
- Ачкасов А.И., Башаркевич И.Л., Варава К.В., Самаев С.Б. Загрязнение снегового покрова под влиянием противогололедных реагентов // Разведка и охрана недр. 2006. № 9–10. С. 132–137.
- Безбердая Л.А., Касимов Н.С., Черницова О.В., Лычагин М.Ю., Ткаченко А.Н. Тяжелые металлы и металлоиды в почвах, дорожной пыли и их фракции РМ10 в Севастополе: уровни, источники и опасность загрязнения // Почвоведение. 2022. № 12. С. 1571–1591.
- Герасимова М.И., Строганова М.Н., Можарова Н.В., Прокофьева Т.В. Антропогенные почвы (генезис, география, рекультивация) М.: Ойкумена, 2003. 226 c.
- Гладышева М.А. Магнитная восприимчивость урбанизированных почв. Дис. … канд. биол. наук. М., 2007. 200 c.
- Добровольский Г.В., Строганова М.Н., Прокофьева Т.В., Стриганова Б.Р., Яковлев А.С. Почва, город, экология. М.: Фонд “За экономическую грамотность”, 1997. 320 с.
- Дымов А.А., Милановский Е.Ю., Холодов В.А. Состав и гидрофобные свойства органического вещества денсиметрических фракций почв Приполярного Урала // Почвоведение. 2015. № 11. С. 1335–1345.
- Захаров А.А., Бызова Ю.Б., Уваров А.В., Залесская Н.Т., Ланина В.В., Мазанцева Г.П., Орлова Т.А., Сергеева Т.К., Суворов А.А., Янушев В.В. Почвенные беспозвоночные рекреационных ельников Подмосковья. М.: Наука, 1989. 233 с.
- Климат Москвы: [Электронный ресурс]. https://cugms.ru/pogoda-i-klimat/klimat-moskvy/ (дата обращения: 10.07.2023).
- Климат региона: [Электронный ресурс]. URL: https://cugms.ru/pogoda-i-klimat/klimat-regiona/ (дата обращения: 10.07.2023).
- Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости “Флюорат-02”. М.: ООО “Люмэкс”, 1998. 26 с.
- Кошелева Н.Е., Власов Д.В., Шопина О.В. Индикация загрязнения полиароматическими углеводородами дорожной пыли г. Москвы // Инженерно-экологические изыскания – нормативно-правовая база, современные методы и оборудование: матер. Общерос. науч.-пр. конф. М.: Геомаркетинг, 2020. С. 39–44.
- Ладонин Д.В., Михайлова А.П. Тяжелые металлы и мышьяк в почвах и уличной пыли Юго-Восточного административного округа г. Москвы: результаты многолетних исследований // Почвоведение. 2020. № 11. С. 1401–1411.
- Матвеева Н.В., Милановский Е.Ю., Хайдапова Д.Д., Рогова О.Б. Краевой угол смачивания как интегральный показатель физико-химических свойств черноземов Каменной степи // Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2020. № 101. С. 76–123.
- Методика измерений массовой доли кремния в пробах отходов производства и потребления, почв, грунтов и донных отложений методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. М.: ФГБУ “ЦЛАТИ”, 2016.
- Методы определения органического вещества. М.: Издательство стандартов, 1992. 6 с.
- Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки. М.: Стандартинформ, 2011. 4 с.
- Миков О.А. Оценка техногенного загрязнения почв методом каппаметрии при эколого-геохимическом мониторинге. Дис. … канд. геол.-минер. наук. Томск, 1999. 148 с.
- Московченко Д.В., Пожитков Р.Ю., Соромотин А.В. Геохимическая характеристика снежного покрова г. Тобольск // Известия ТПУ. 2021. № 5. С. 156–159.
- Панина Л.В. Локальные сухие пятна на газонах гольф гринов как следствие дефицита воды и гидрофобности почвы // Вестник МГУЛ – Лесной вестник. 2010. № 7. С. 99–104.
- Попутников В.О. Тенденции антропогенной трансформации автоморфных почв территорий городских парков и прилегающих жилых кварталов. Дис. … канд. биол. наук. М., 2011. 232 c.
- Постановление Правительства Москвы от 27 июля 2004 г. № 514-ПП “О повышении качества почвогрунтов в городе Москве”. https://docs.cntd.ru/document/3654347 (дата обращения: 10.07.2023).
- Потапов Д.И. Влияние влажности на гидрофильно-гидрофобные свойства почв различных типов // Экологический вестник Северного Кавказа. 2022. Т. 18. № 1. С. 17–22.
- Прокофьева Т.В., Шоба С.А., Лысак Л.В., Иванова А.Е., Глушакова А.М., Шишков В.А., Лапыгина Е.В., Шилайка П.Д., Глебова А.А. Органические компоненты и биота в составе городского атмосферного пылеаэрозоля: потенциальное влияние на городские почвы // Почвоведение. 2021. № 10. С. 1247–1261. https://doi.org/10.31857/S0032180X21100099
- Прокофьева Т.В., Шишков В.А., Кирюшин А.В., Калушин И.Ю. Свойства твердых (пылеаэрозольных) атмосферных выпадений придорожных территорий г. Москвы // Известия РАН. Сер. Географическая. 2015. № 3. С. 107–120.
- Самаев С.Б., Морозова И.А., Якубов Х.Г. Влияние магистралей на состояние прилегающих территорий // Экология большого города. Альманах. 2001. № 5. С. 49–54.
- Софинская О.А., Костерин А.В., Костерина Е.А. Краевые углы смачивания на границе вода-воздух препаратов загрязненных углеводородами почв и глинистых минералов // Почвоведение. 2016. № 12. С. 1456–1463. https://doi.org/10.7868/S0032180X16120121
- Таловская А.В., Володина Д.А., Язиков Е.Г. Макроэлементный и минерально-фазовый состав пыли в зоне воздействия цементного завода по данным изучения снегового покрова (Кемеровская обл.) // Химия в интересах устойчивого развития. 2019. Т. 27. № 2. С. 201–210.
- Таловская А.В., Осипова Н.А., Язиков Е.Г., Осипов К.Ю., Сапрунова И.А. Редкоземельные элементы в уличной пыли моногорода с наличием угледобывающих предприятий (на примере г. Междуреченска, Кемеровская обл.) // Инженерная экология: Докл. междунар. симп. М.: РНТОРЭС им. А.С. Попова. 2021. С. 181–185
- Таловская А.В., Язиков Е.Г., Беспалова А.И. Пространственно-временные тренды пылевого загрязнения снежного покрова в многопрофильном промышленном городе (на примере г. Томск, юг Западной Сибири) // Инженерная экология: Докл. междунар. симп. РНТОРЭС им. А.С. Попова. 2021. С. 186–190.
- Тюгай З., Быкова Г.С., Милановский Е.Ю., Дембовецкий А.В., Мешалкина Ю.Л. Поверхностные свойства почв: краевой угол смачивания // Фундаментальные концепции физики почв: развитие, современные приложения и перспективы. Сб. науч. тр. Междун. науч. конф., посвященной 90-летию со дня рождения Анатолия Даниловича Воронина. М., 2019. С. 208–212.
- Федоров Ю.А., Кузнецов А.Н., Дмитрик Л.Ю., Кузнецова Е.В., Бэллинджер О.Ю. Особенности распределения содержания нефтепродуктов в почвах, дорожной пыли и снеге по мегапрофилю в Ростовской области // Антропогенная трансформация природной среды. 2022. Т. 8. № 2. С. 61–66.
- Холодов В.А., Ярославцева Н.В., Яшин М.А., Фрид А.С., Лазарев В.И., Тюгай З.Н., Милановский Е.Ю. Контактные углы смачивания и водоустойчивость почвенной структуры // Почвоведение. 2015. № 6. С. 693–701. https://doi.org/10.7868/S0032180X15060064
- Шеин Е.В., Карпачевский Л.О. Теории и методы физики почв. М.: Гриф и К, 2007. 616 с.
- Шеин Е.В. Курс физики почв. М.: Изд-во МГУ, 2005. 432 с.
- Шеин Е.В., Милановский Е.Ю. Органическое вещество и структура почвы: учение В. Р. Вильямса и современность // Известия ТСХА. 2014. № 1. С. 42–51.
- Bachmann J., Horton R., van der Ploeg R. R., Woche S. Modified sessile drop method for assessing initial soil–water contact angle of sandy soil // Soil Sci. Soc. Am. J. 2000. Т. 64. № 2. P. 564–567.
- Bisdom E.B.A., Dekker L.W., Schoute J.F.Th., Water repellency of sieve fractions from sandy soils and relationships with organic material and soil structure // Geoderma. 1993. V. 56. P. 105–118
- Bykova G.S., Umarova A.B., Guo P., Klepikova E.A., Zavgorodnyaya Ju.A. Urban Road dust properties and its effect on the model soil’s wettability // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2021. Т. 862. № 1. P. 12–40.
- Daniel N.R.R., Uddin S.M.M., Harper R.J., Henry D.J. Soil water repellency: A molecular-level perspective of a global environmental phenomenon // Geoderma. 2019. V. 338. P. 56–66.
- Doerr S.H., Shakesby, R.A., Walsh, R.P.D. Soil hydrophobicity variations with depth and particle size fraction in burned and unburned Eucalyptus globulus and Pinus pinaster forest terrain in the Águeda Basin, Portugal // Catena. 1996. V. 27. P. 25–47.
- Glushakova A.M., Prokof’eva T.V., Lysak L.V., Goncharov N.V., Belov A.A. Antibiotic-resistant strains of Escherichia coli in urban atmospheric dust aerosols of Moscow city–the potential human health risks // ProScience. 2021. V. № 8. P. 11–20.
- Harper R.J., McKissock I., Gilkes R.J., Carter D.J., Blackwell P.S. A multivariate framework for interpreting the effects of soil properties, soil management and landuse on water repellency // J. Hydrology. 2000. V. 231–232. P. 371–383.
- Huang J., Hartemink A.E. Soil and environmental issues in sandy soils // Earth-Science Reviews. 2020. V. 208. P. 103295.
- Hurraß J., Schaumann G.E. Properties of soil organic matter and aqueous extracts of actually water repellent and wettable soil samples // Geoderma. 2006. Т. 132. № 1–2. P. 222–239.
- Karpuhin M.M., Padalka S.A., Streletskiy R.A., Buzin I.S. Determination of total petroleum hydrocarbons, 3,4-benzo[a]pyrene and various factions of heavy metals concentrations in urban soils and city dust on the South-Eastern administrative district, Moscow // 9th International Congress on Soils of Urban Industrial Traffc Mining and Military Areas (SUITMA). RUDN University, 2017. P. 66–68.
- Kasimov N.S., Vlasov D.V., Kosheleva N.E. Enrichment of road dust particles and adjacent environments with metals and metalloids in eastern Moscow // Urban Climate. 2020. V. 32. P. 100638.
- Kosheleva N.E., Vlasov D.V., Timofeev I.V., Samsonov T.E., Kasimov N.S. Benzo[a]pyrene in Moscow Road dust: pollution levels and health risks // Environ. Geochem. Health. 2023. V. 45. P. 1669–1694.
- Kasimov N.S., Kosheleva N.E., Vlasov D.V., Nabelkina K.S. Physicochemical properties of road dust in Moscow // Geography, Environment, Sustainability. 2019. V. 12. P. 96–113.
- Leelamanie D.A.L., Karube J., Yoshida A. Characterizing water repellency indices: Contact angle and water drop penetration time of hydrophobized sand // Soil Sci. Plant Nutrition. 2008. Т. 54. № 2. P. 179–187.
- Mao, J., Nierop, K.G., Dekker, S.C., Dekker, L.W., Chen B. Understanding the mechanisms of soil water repellency from nanoscale to ecosystem scale: a review // J. Soils Sediments. 2019. V. 19. P. 171–185.
- Milanovskiy E.Yu., Protsenko E.P., Tyugai Z.N., Bykova G.S., Kosolapova N.I., Protsenko A. Aggregate composition and the contact angle of the soil solid phase after incubation with peat gel // Proceeding of the Internetional Congress on “Soil Science in International Year of Soil”. 2015. P. 274–278.
- Prokof’eva T.V., Kiryushin A.V., Shishkov V.A., Ivannikov F.A. The importance of dust material in urban soil formation: the experience on study of two young Technosols on dust depositions // J. Soils Sediments. 2017. Т. 17. P. 515–524.
- Zavgorodnyaya Y.A., Chikidova A.L., Biryukov M.V., Demin V.V. Polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric particulate depositions and urban soils of Moscow, Russia // J. Soils Sediments. 2019. V. 19. P. 3155–3165.
Supplementary files