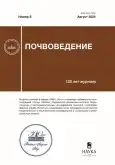Ecological Structure of Soil Nematode Communities of Southern Chukotka
- 作者: Migunova V.D.1, Tabolin S.B.1, Rybalov L.B.1
-
隶属关系:
- Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences
- 期: 编号 8 (2024)
- 页面: 1102-1113
- 栏目: SOIL BIOLOGY
- URL: https://bakhtiniada.ru/0032-180X/article/view/275724
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0032180X24080056
- EDN: https://elibrary.ru/KMYBPE
- ID: 275724
如何引用文章
全文:
详细
The paper analyses the soil nematode communities of typical tundra of southern Chukotka. We have examined five types of shrub and grass-shrub biotopes formed on the Cryosol, Fluvisol, Histosol, Gleysol and Cambisol. The animals were extracted from the soil by the Baermann technique with subsequent determination of taxonomic diversity, total and relative numbers, and trophic groups. The highest number (7044 individuals/100 g of soil) and biomass (12.15 mg) of nematodes were found in the histosol, and the minimum number (1000 individuals/100 g of soil; 1.96 mg) of nematodes in the Cryosol. Bacterivorous nematodes dominated in all soil types. The maximum percentage of bacterivorous nematodes (94%) were found in the Cambisol. Their percentages of fungivorous nematodes in the studied soils ranged from 1 to 42%. Predatory and omnivorous nematodes were present in all soils except for the litter of the Cambisol. Their percentage ranged from 2 to 32%. Phytonematodes were few, their highest number was found in the Gleisol (18%). The nematode fauna of the soils under analysis differed significantly. The greatest diversity of nematodes was found in the turf horizon of the Fluvisol, and the smallest diversity of nematodes was in the litter of the Cambisol. The values of Sigma Maturity Index ranged between 2 and 3. The Enrichment Index had low and middle (1.40–41.02) values, and the Structure Index had high values (59.51–84.07). The genera of Eudorylaimus and Plectus were eudominants in all soil types. The soil food webs formed in the biocenoses under consideration can be characterized as stable and structured except for the alder biocenose.
全文:
ВВЕДЕНИЕ
Нематоды – многочисленная группа почвенных животных, представляющая один из основных биологических компонентов наземных экосистем. Они определяют многие почвенные процессы и влияют на биогеохимические циклы [22, 40]. Структуры нематодных сообществ уже давно и успешно используются в качестве индикаторов изменения окружающей среды [23, 27]. Индексы, полученные на основании фаунистического состава нематод, являются в настоящее время базой для характеристики состояния пищевых сетей [26].
По сравнению с умеренными и тропическими регионами численность и биомасса нематод выше в Субарктике [38]. Информации о свободноживущих нематодах Арктики и Субарктики немного [24, 33, 36]. Для России это исследования в основном водных нематод таких регионов, как архипелаг Новая Земля, Западный Таймыр, Северо-Восточная Якутия, побережье Баренцева моря [5]. По причине удаленности и труднодоступности почвенные нематоды субарктических почв России изучены недостаточно. Основные работы по изучению нематод тундровых почв в нашей стране были проведены на полуострове Таймыр [13, 14, 20]. В последнее время также появились работы, в которых представлены исследования нематод подзоны южных тундр Республики Коми [10].
Необходимость анализа экосистем Арктики и Субарктики постоянно возрастает в связи с расширением исследований в области сохранения почвенного биоразнообразия в условиях изменения климата и увеличения антропогенного влияния на природные биоценозы.
Полуостров Чукотка расположен в арктическом и субарктическом поясах. Главными факторами, определяющими характер биоты этой территории, являются высокоширотное расположение, преобладание низкогорного рельефа и окружение с трех сторон холодными морями. Одной из уникальных особенностей природы Чукотки является анклав типичных или средних гипоарктических тундр в пределах подзоны южных гипоарктических тундр на северо-восточном побережье Карякского нагорья – в окрестностях озера Пекульнейского, чуть севернее 62°N. Это кустарничковые, луговые, ивковые и болотные тундры [21].
Почвы этой области формируются на почвообразующих породах, представленных элювием и делювием коренных пород, различными моренами и морскими наносами. Наиболее существенными факторами, определяющими большинство процессов почвообразования, являются длительное сезонное промерзание почвенных горизонтов и распространение многолетней мерзлоты [1].
Исследования нематод Чукотки редки, они представлены списком нематод ягодников [16] и описанием нескольких новых видов [6, 28]. Для этого уникального региона не проведены систематические исследования состава и численности почвенных нематод [5, 29]. Отсутствуют оценки биомассы почвенных нематод для типичных растительных сообществ и компонентов почвенного покрова Чукотки. Нераскрытыми остаются и не менее интересные вопросы связи нематодных комплексов с тундровыми сообществами растений, распределение этих животных по почвенному профилю и возможность оценки цикла углерода в тундровых почвах Чукотки на основе нематологических показателей.
В 2022 г. в рамках работы экспедиции Русского общества сохранения и изучения птиц на Чукотке стало возможным отобрать почвенные образцы разных элементов ландшафтного профиля, формирующегося на юге Чукотки. Эти образцы почв явились материалом для настоящего исследования, целью которого было охарактеризовать состав и структуру сообществ нематод в тундровых почвах Южной Чукотки.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Характеристика района исследования. Исследования проводили в двух местах Анадырского района Чукотского автономного округа Российской Федерации. Основная часть материала отобрана в Мейныпильгынской озерно-речной системе. Район исследования представляет обширную приморскую низменность с озерами лагунного типа, отграниченными от моря галечниковыми косами. К низменности прилегают моренные холмы и низкогорья. Моренные холмы возвышаются на 100–200 м над ур. м., вдоль берега наблюдается полоса более низких холмов (с превышениями 10–20 м) конечной морены. Речная сеть относительно густая, берущая начало с Мейныпильгинского горного узла [3]. Вторая точка исследования – в районе поселка Угольные копи на склоне горы Гудым, где исследовали ольховник (Alnus fruticosa). Оба района находятся на побережье Берингова моря. Характер землепользования традиционный (охота, сбор ягод и грибов). Климат морской, муссонный, относящийся к субарктическому поясу [4].
Почвы и растительность. Растительность обоих исследованных районов относится к Южно-Чукотской флористической подпровинции и представлена кустарниковыми и травяно-кустарничковыми тундрами [21]. В июле 2022 г. были заложены почвенные разрезы, расположенные по градиентам влажности почв и общей фитомассы, характеризующие типичные компоненты биогеоценотического покрова изучаемых территорий (табл. 1). Основной ключевой участок, охарактеризованный четырьмя почвенными разрезами, был расположен между озерами Ваамъечгын и Пекульнейское и включал сообщества рододендрово-шикшевой, морошково-багульниково-голубично-сфагновой, шикшево-лаузилерово-багульниковой тундры, а также лугово-ивковый биоценоз в понижении между грядами. Одним из характерных типов растительности приокеанических (гумидных) районов Чукотки являются мощные заросли кустарниковой ольхи на речных террасах и конусах выноса [9, 21]. В 2022 г. наиболее доступные места локализации ольшаников на Чукотке были в районе поселка Угольные копи. На делювии склонов предгорий в нижней части горы Гудым в сходных с Мейныпильгынской озерно-речной системой ландшафтных условиях был заложен разрез и отобраны пробы. Площади пробных участков составляли 0.7–1.0 га. Для исследования отбирали образцы верхних органогенных горизонтов Ао (подстилка 0–3 см) и Ат (торфяной горизонт 3–10 см). Идентификацию почв осуществляли на основании диагностических признаков [1, 8, 30].
Таблица 1. Характеристика мест отбора почвенных проб в Южной Чукотке
Тип почвы | Биоценоз | Географические координаты |
К – Криозем типичный (криотурбозем). Тундровая мерзлотная криотурбированная (Cryosol) | Рододендрово-шикшевая тундра (Rhododendron aureum, Empetrum nigrum, Cassiope tetragona) на юго-западном склоне морены (край морены) | 62°33ʹ4.10ʺ N, 177° 1ʹ10.30ʺE |
А-Л – Аллювиальная серогумусовая глеевая типичная. Тундровая, аллювиально-луговая (Fluvisol) | Лугово-ивковый (Salix pulchra, Pentaphylloides fruticosa, Pyrola minor, Spiraea stevenii) биоценоз в понижении между грядами, слабозаболоченный, дважды в июне 2022 г. залитый паводковыми водами | 62°32′49″ N, 177°1′23″ E |
Т – Торфяная олиготрофная типичная. Плоскобугристые полигональные маломощные торфяники (Cryic Hemic Histosol) | Морошково-багульниково-голубичная сфагновая заболоченная тундра (Rubus chamaemorus, Ledum decumbens, Vaccinium uliginosum, Sphagnum sp.) на плоской вершине морены | 62°34′12″ N, 177°3′49″ E |
Т-Г – Торфяно-глеезем криотурбированный (мощный) на преимущественно суглинистых, сильнокаменистых, завалуненных отложениях моренной равнины (Gleysol) | Шикшево-лаузилерово-багульниковая тундра (Empetrum nigrum, Loiseleuria procumbens, Ledum decumbens) на преимущественно суглинистых, сильнокаменистых, завалуненных отложениях моренной равнины | 62°33ʹ33.50ʺ N, 176°58ʹ7.70ʺ E |
Д-К – Дерново-элювиально-метаморфическая. Дерново-криометаморфическая на делювии склонов предгорий (Сambisol) | Ольховник (Alnus fruticosa) мертвопокровный на делювии склонов предгорий в нижней части горы Гудым | 64°47′22″ N, 177°49′58″ E |
Нематоды. Почву для анализа нематодных сообществ отбирали с 8 по 16 июля в полиэтиленовые пакеты, после транспортировки на самолете пробы хранили в холодильнике в течение трех недель с периодическим проветриванием почвы. Нематод выделяли из образцов (массой 5 г) методом Бермана с экспозицией 42 ч с последующим пересчетом на 100 г влажной почвы. Использовали двойные бумажные фильтры (tolli classic) на металлических ситах (ячея 4 мм2). Выделенных из почвы нематод фиксировали подогретым (50–60°С) раствором формалина (4%), сохраняя в этикетированных пробирках Флоринского [7]. Нематод идентифицировали до рода под микроскопом Zeiss Primostar. Анализ фауны нематод дает возможность проанализировать сложность и состояние почвенных пищевых сетей. Используя трофические группы нематод и с-р шкалу (где с-р = 1 занимают быстро размножающиеся колонизаторы, устойчивые к неблагоприятным условиям существования, а к с-р = 5 относятся медленно размножающиеся персисторы с повышенной чувствительностью к изменению факторов окружающей среды), можно выделить функциональные гильдии нематод и рассчитать индексы, характеризующие трофическую сеть [26]. Эколого-трофические группы (бактериоядные, грибоядные, хищные, нематоды со смешанным типом питания и фитонематоды), а также принадлежность к с-р шкале определяли на основании классификации Йейтса с соавт. [39] и Nemaplex [41]. Для оценки разнообразия нематодных сообществ использовали общее количество родов, а также индексы, предложенные Феррисом и Бонгерсом [34]: сигма индекс зрелости сообществ (Sigma maturity index, SMI), базальный индекс (Basal index, BI), индекс обогащения (Enrichment index, EI) и структурный индекс (Structure index, SI), с последующим определением метаболических отпечатков [27]. SMI отражает нарушение окружающей среды, он принимает значения от 1 до 5, где 1 – начальные стадии сукцессии (или высокий уровень нарушения), а 5 – высокая структурированность и комплексность пищевых сетей, связанных потоками энергии между трофическими уровнями. BI – структура пищевых сетей и комплексность, индекс принимает значения от 0 до 100, где низкие значения (0–30%) и высокие (60–100%) характеризуют степень нарушения почвенной системы. EI – доступность пищевых ресурсов и их наличие, низкие значения (0–30%) и высокие (60–100%) показывают уровень доступности пищи (например лабильного углерода) и обогащения окружающей среды питательными веществами. SI – дает понятие о структуре и комплексности почвенных пищевых сетей, а также нарушениях окружающей среды (такие как засуха, засоление, химическое загрязнение). Низкие показатели (0–30%) отражают нарушенные, а высокие (60–100%) – структурированные почвенные сети [25]. Расчет этих индексов дан в работе [26]. Дальнейшее использование нематодных индексов привело к разработке концепции метаболических отпечатков. Метаболические отпечатки рассчитывают удельную биомассу нематод и использование углерода для определения экосистемных функций нематодных сообществ. Метаболические отпечатки можно подразделить на отпечатки обогащения и структуры, которые при пересечении на сетке координат дают площадь, отражающую метаболическую активность и величину потоков углерода и энергии на низких и высоких трофических уровнях [27]. Значения нематодных индексов, а также площадь и расположение метаболических отпечатков рассчитывали при помощи программы для биологического мониторинга NINJA [37]. При построении диаграммы метаболических отпечатков площадь делится на четыре квадрата, каждый из которых характеризует условия трофической цепи, включая такие параметры, как степень нарушения окружающей среды, обогащение органикой пищевой сети, тип микробиологического разложения и соотношение углерода к азоту[27].
Биомассу нематод на 100 г почвы расcчитывали исходя из общей численности и процентного соотношения родов нематод с использованием усредненных данных о биомассе каждого рода из информационного портала Nemaplex [41]. При определении доли участия рода нематод относительно общей численности выделяли следующие градации: субрецеденты (ниже 1.1%), рецеденты (1.1–2.0%), субдоминанты (2.1–5.0%), доминанты (5.1–10.0%) и эудоминанты (10% от всех обнаруженных особей) [18].
Статистическая обработка. Для проведения сравнения вариантов использовали тест Манна-Уитни. Различия между вариантами считали достоверными при р < 0.05. Повторность образцов почв в анализах пятикратная. Данные представляли как М ± SD (среднее значение ± стандартное отклонение). Статистический анализ проводили, используя компьютерные программы Excel 6.0, Past 4.04 и Ninja [37].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Общая численность и биомасса нематод. Общая численность нематод варьировала от 1000 особей/100 г почвы (криозем типичный) до 7044 особей/100 г почвы (торфяная почва). Во всех типах почв, за исключением криозема, численность нематод в подстилке и торфяном горизонте достоверно отличалась. Этот показатель был выше в 1.7 раза в подстилке для аллювиальной серогумусовой глеевой почвы и дерново-элювиальной метаморфической и в 6 раз – в торфяной почве. Только в торфяно-глееземе криотурбированном общая численность нематод в подстилке была меньше в 1.8 раз, чем в торфяном горизонте (рис. 1). Минимальные значения биомассы зарегистрированы в подстилочном горизонте криозема (1.96 мг), а максимальные в подстилке торфяной почвы – 12.15 мг (табл. 2).
Рис. 1. Общая численность нематод в почвах Южной Чукотки (экз./100 г почвы). Данные представляют среднее значение ± стандартное отклонение. Повторность пятикратная. Символ * показывает значимое отличие параметра между подстилочным и торфяным горизонтами (p < 0.05). Расшифровка названия почв дана в табл. 1 Ао – подстилка (0–3 см) и Ат – торфяной горизонт (3–10 см)
Таблица 2. Эколого-популяционные индексы и общая биомасса сообществ почвенных нематод в Южной Чукотке
Индекс | Почва, горизонт* | |||||||||
К Ao | К Ат | А-Л Ao | А-Л Ат | Т Ao | Т Ат | Т-Г Ao | Т-Г Ат | Д-К Ao | Д-К Ат | |
N | 14 | 13 | 13 | 20 | 9 | 11 | 18 | 14 | 5 | 14 |
SMI | 2.46 ± 0.05 | 3.03 ± 0.15 | 2.64 ± 0.32 | 2.92 ± 0.16 | 2.7 ± 0.19 | 2.99 ± 0.03 | 2.47 ± 0.04 | 2.78 ± 0.20 | 2.00 ± 0 | 2.15 ± 0.06 |
BI | 37.36 ± 2.67 | 15.15 ± 4.57 | 25.07 ± 8.89 | 20.79 ± 5.98 | 25.77 ± 7.62 | 15.89 ± 0.96 | 31.52 ± 0 | 26.94 ± 8.37 | 95.38 ± 0.41 | 66.38 ± 9.31 |
EI | 17.22 ± 0.04 | 31.81 ± 4.61 | 38.86 ± 2.2 | 2.88 ± 0.86 | 17.28 ± 0.7 | 1.4 ±1.98 | 41.02 ± 4.37 | 17.8 ± 0.59 | 4.62 ± 0.41 | 11.93 ± 2.0 |
SI | 59.49 ± 3.13 | 83.71 ± 5.02 | 69.51 ± 3.21 | 79.06 ± 6.1 | 72.67 ± 8.59 | 84.07 ± 1.02 | 59.51 ± 2.06 | 71.32 ± 9.36 | 0 | 27.16 ± 9.86 |
ОБ, мг/100 г почвы | 1.96 ± 0.66 | 6.43 ± 1.22 | 9.12 ± 4.55 | 6.47 ± 2.17 | 12.15 ± 0.75 | 3.48 ± 0.39 | 3.9 ± 1.94 | 6.58 ± 2.37 | 3.87 ± 0.66 | 6.86 ± 2.11 |
Примечание. N – количество родов, SMI – сигма индекс зрелости сообществ, BI – базальный индекс, EI – индекс обогащения и SI – структурный индекс, ОБ – общая биомасса.
* Расшифровка названия почв см. табл. 1. Ао – подстилка (0–3 см) и Ат – торфяной горизонт (3–10 см). Данные представлены в форме М ± SD (среднее значение ± стандартное отклонение).
Таксономическое разнообразие нематод. В исследуемых почвах Южной Чукотки обнаружено 15 родов бактериоядных нематод, 8 родов грибоядных нематод, 8 родов хищных нематод, 4 рода – со смешанным типом питания и 10 родов фитонематод. Суммарно фауна нематод была представлена 45 родами (табл. 3). Распределение нематод в исследуемых биотопах было неравномерным. Так, в подстилке мертвопокровного ольховника было обнаружено всего пять родов нематод, а в серогумусовом горизонте аллювиальной почвы – 20. Сигма индекс зрелости принимал значения близкие к 2 для сообществ нематод, формирующихся под ольховником. В основном значения SMI для большинства проанализированных сообществ лежали в диапазоне от 2.5 до 3. Только в торфяном горизонте криозема его значение было 3.03. Базальный индекс принимал низкие значения практически для всех типов почв с тенденцией увеличения в верхнем горизонте криозема (37.36). Лишь в дерново-элювиально-метаморфической почве BI достигал значительных значений (95.38 и 66.38). Индекс обогащения принимал в основном низкие значения. Средние значения этого показателя были в сообществах нематод, формирующихся в аллювиальной серогумусовой глеевой почве и в подстилке торфяно-глеезема. За исключением нематод дерново-элювиально-метаморфической почвы, структурный индекс исследуемых сообществ принимал высокие значения.
Таблица 3. Таксономическое разнообразие, эколого-трофические группы и доля нематод в почвах Южной Чукотки, %
Род нематод | Значение по c-p шкале | Относительное обилие, % | |||||||||
почва | |||||||||||
К* Ao | К Ат | А-Л Ao | А-Л Ат | Т Ao | Т Ат | Т-Г Ao | Т-Г Ат | Д-К Ao | Д-К Ат | ||
Бактериоядные | |||||||||||
Acrobeloides | 2 | 1.3 | 8.9 | 12.3 | |||||||
Alaimus | 4 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 4.4 | ||||||
Amphidelus | 4 | 1.9 | 1.4 | ||||||||
Anaplectus | 2 | 1.4 | |||||||||
Cephalobus | 2 | 2.9 | 3.8 | ||||||||
Chromadorina | 3 | 1.1 | |||||||||
Eucephalobus | 2 | 9.4 | 2.8 | 7.8 | 0.3 | ||||||
Monhystera | 2 | 1.9 | 0.9 | 7.5 | 1.1 | 3.4 | |||||
Monhystrella | 2 | 3.4 | |||||||||
Plectus | 2 | 45.8 | 21.8 | 33.0 | 29.3 | 40.9 | 26.0 | 6.8 | 15.6 | 94.1 | 78.6 |
Rhabditis | 1 | 3.3 | 1.6 | ||||||||
Rhabdolaimus | 3 | 1.7 | |||||||||
Teratocephalus | 3 | 12.4 | 8.6 | 1.1 | 1.9 | 15.6 | 9.4 | 1.1 | 5.0 | 0.4 | |
Theristus | 2 | 1.3 | |||||||||
Wilsonema | 2 | 1.6 | |||||||||
Грибоядные | |||||||||||
Aphelenchoides | 2 | 12.0 | 5.7 | 8.7 | 6.1 | 0.6 | 21.2 | 8.4 | 2.3 | 1.1 | |
Aphelenchus | 2 | 1.1 | |||||||||
Ditylenchus | 2 | 0.3 | 0.8 | ||||||||
Hexatylus | 2 | 2.2 | |||||||||
Paraphelenchus | 2 | 1.7 | 1.5 | 12.5 | 3.4 | 19.8 | |||||
Pseudhalenchus | 2 | 0.4 | |||||||||
Tylencholaimellus | 4 | 1.5 | |||||||||
Tylencholaimus | 4 | 0.6 | |||||||||
Хищные | |||||||||||
Achromadora | 3 | 1.5 | 6.6 | 0.6 | 2.4 | ||||||
Aporcelaimellus | 5 | 0.4 | 1.6 | ||||||||
Clarkus | 4 | 1.5 | 20.4 | ||||||||
Mylonchulus | 4 | 1.2 | |||||||||
Prionchulus | 4 | 5.2 | 24.5 | 5.0 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | ||
Seinura | 2 | 5.6 | |||||||||
Tobrilus | 3 | 1.4 | |||||||||
Tripyla | 3 | 3.7 | 6.3 | 6.6 | 3.9 | 8.3 | 6.3 | 1.4 | 2.2 | ||
Смешанное питание | |||||||||||
Dorylaimus | 4 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.1 | ||||||
Eudorylaimus | 4 | 6.7 | 13.6 | 13.8 | 10.2 | 22.7 | 38.5 | 16.3 | 13.3 | 2.9 | |
Dorylaimidae | 4 | 0.7 | 8.3 | 1.6 | |||||||
Mesodorylaimus | 4 | 3.5 | |||||||||
Фитонематоды | |||||||||||
Basiria | 2 | 1.4 | |||||||||
Filenchus | 2 | 11.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 5.8 | 2.2 | 3.4 | |||
Helicotylenchus | 3 | 1.1 | 2.1 | 16.7 | |||||||
Longidorella | 4 | 1.3 | |||||||||
Malenchus | 2 | 3.5 | |||||||||
Nagelus | 3 | 0.5 | |||||||||
Paratylenchus | 2 | 0.6 | |||||||||
Tylenchorhynchus | 3 | 1.9 | |||||||||
Tylenchus | 2 | 1.9 | 4.0 | 1.1 | 0.8 | ||||||
Tylenchidae | 2 | 1.3 | |||||||||
* Расшифровка названия почв дана в табл. 1, с-р шкала ранжирования пресноводных и почвенных нематод в соответствии с их жизненной стратегии, где 1 – колонизаторы (r-стратеги), а 5 – персисторы (К-стратеги) [26]. Жирным шрифтом выделено относительное обилие доминантов и эудоминантов, курсивом – эудоминантов.
Для всех типов почв можно отметить доминирование двух родов: Plectus и Eudorylaimus. При этом в одной пробе можно было выделить до трех и более видов этих нематод. Род Plectus являлся эудоминантом во всех образцах, за исключением подстилки торфяно-глеезема. Род Eudorylaimus отсутствовал в подстилке, был субдоминантом в торфяном горизонте дерново-элювиально-метаморфической почвы, доминантом – в верхнем горизонте криозема и эудоминантом во всех остальных почвах. Можно отметить доминирование рода Aphelenchoides в большинстве почв, за исключением дерново-элювиально-метаморфической почвы. В подстилке доля этого рода была в 2–2.5 раза выше, чем в нижележащих горизонтах криозема и торфяно-глеезема. Бактериоядная нематода Teratocephalus доминировала в торфяной почве и криоземе. Из хищных нематод можно отметить доминирование рода Prionchulus в криоземе и аллювиальной почве. В этих же типах почв, а также торфяной отмечено доминирование рода Tripyla. Среди фитонематод можно отметить роды Filenchus и Helicotylenchus, которые доминировали в торфяно-глееземе и криоземе. Остальные роды этой экологической группы в основном относились к рецедентам.
Относительное обилие трофических групп нематод. Для всех исследованных типов почв характерно преобладание бактериоядных нематод. Доля этой группы варьировала от 25% (подстилка торфяно-глеезема) до 94% (подстилка дерново-элювиально-метаморфической почвы). В подстилке относительное обилие бактериоядных нематод было достоверно больше по сравнению с торфяным горизонтом в дерново-элювиально-метаморфической почве и криоземе. Для первого типа разность составила 8.4%, а для второго – 38.2%.
Грибоядные нематоды занимали в общей структуре сообществ нематод от единичных значений (меньше 1% для аллювиально-серогумусовой глеевой и торфяной почв) до 42% – в подстилке торфяно-глеезема. Достоверность отличия между подстилкой и торфяным горизонтом была отмечена только для торфяной почвы и аллювиально-серогумусовой глеевой. Так, в подстилке торфяной почвы относительное обилие грибоядных нематод было в 15 раз выше, чем в торфяном горизонте, а для аллювиально-серогумусовой глеевой почвы этот параметр отличался в 35 раз.
Хищные нематоды не были обнаружены в подстилке мертвопокровного ольховника. Наибольшее число этих животных было зарегистрировано в торфяном горизонте криозема (32%). Для аллювиальной серогумусовой глеевой почвы и криозема отмечено достоверное увеличение процента хищников в торфяном горизонте по сравнению с подстилкой. Таким образом, в лугово-ивковом биоценозе в понижении между грядами число хищников в нижнем торфяном горизонте было в два раза выше, чем в подстилке, тогда как для рододендрово-шикшевой тундры эта же величина отличалась в 3.5 раза.
Нематоды со смешанным типом питания отсутствовали в подстилке дерново-элювиально-метаморфической почвы. Максимальные значения (27 и 39%) зарегистрированы в подстилке аллювиальной и торфяном горизонте торфяной почвы. Достоверных статистических отличий между подстилочным и торфяным горизонтом не было обнаружено.
Нематоды, питающиеся на корнях растений, а также ассоциированные с растениями, занимали незначительную часть в структуре нематодных сообществ. Их доля составляла от 1% (подстилочный горизонт ольховника) до 19% (торфяной горизонт торфяно-глеезема). Во всех типах почв наибольшая численность фитонематод наблюдалась в торфяном горизонте. Так, численность фитонематод в серогумусовом горизонте аллювиальной серогумусовой глеевой почвы превышала тот же показатель в подстилке больше, чем в 4 раза (рис. 2).
Рис. 2. Распределение эколого-трофических групп нематод в почвах Южной Чукотки. Повторность пятикратная. Расшифровка названия почв дана в табл. 1 Ао – подстилка (0–3 см) и Ат – торфяной горизонт (3–10 см). Б – бактериоядные, Г – грибоядные, Х – хищные, С – нематоды со смешанным типом питания, Ф – фитонематоды
Метаболические отпечатки сообществ нематод. При построении диаграммы метаболических отпечатков произошло разделение на три группы по типам почвенных горизонтов для образцов, отобранных в Мейныпильгынской озерно-речной системе: подстилка торфяно-глеезема и аллювиальной почвы, подстилка криозема и торфяно-глеезема, а также торфяной горизонт аллювиальной и торфяной почв. Все эти почвы попали в нижний правый квадрат диаграммы. Метаболические отпечатки дерново-элювиально-метаморфической почвы значительно отличались от вышеперечисленных почв и попали в левый нижний квадрат диаграммы (рис. 3).
Рис. 3. Метаболические отпечатки нематодных сообществ почв Южной Чукотки. EI – индекс обогащения, SI – структурный индекс. Расшифровка названия почв дана в табл. 1 Ао – подстилка (0–3 см) и Ат – торфяной горизонт (3–10 см). Точка в середине ромба представляет пересечение значений индекса обогащения и структурного индекса. Длина вертикальной и горизонтальной осей ромба соответствует метаболическим отпечаткам компонентов обогащения и структурности [27]
ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные данные по составу и численности почвенных нематод тундровых почв Южной Чукотки являются первой попыткой охарактеризовать сообщества этих животных в уникальных условиях субарктических почв. Эти данные могут быть использованы в целях охраны, рационального использования природных ресурсов, а также оценки антропогенной нагрузки на природные экосистемы.
Общая численность и биомасса нематод исследованных биоценозов имели сходные значения с численностью нематод в аналогичных биотопах типичных тундр Западного Таймыра [11–13].
Гидротермический режим является одним из важнейших факторов, к которому нематоды очень чувствительны [17, 34]. При увеличении фактора влажности, одновременно со сменой минеральных почв органогенными, наблюдается увеличение общей численности нематод в ряду: криозем, аллювиальная, торфяно-глеезем и торфяная олиготрофная почва. Нематод всегда больше в хорошо прогреваемых, богатых гумусом и органическими веществами почвах [7]. Максимальная численность нематод по профилю наблюдается в поверхностных горизонтах тундровых почв [14], что было подтверждено для большинства почв, исследованных в данной работе. Однако для криозема не обнаружена разница общей численности нематод между подстилкой и нижележащим торфяным горизонтом, а также отмечено снижение численности нематод в подстилке торфяно-глеезема по сравнению с торфяным горизонтом. Наличие мерзлоты и криотурбационных процессов в почвах Южной Чукотки [1] может вызывать перемещение нематод и являться причиной их неравномерного распределения по профилю почв.
Эколого-трофическая структура исследованных сообществ почвенных нематод Южной Чукотки сопоставима с сообществами нематод типичных тундр [13, 31]. Бактериоядные нематоды представляют наиболее многочисленную группу, что связано, по-видимому, с обилием бактерий в подстилках и органических горизонтах тундровых почв. Известно, что содержание бактерий в тундровых почвах в летние периоды может достигать (0.9–39) × × 109 кл./г почвы [15, 19]. Грибоядные нематоды были малочисленны. Всплеск их численности был зарегистрирован в торфяно-глееземе. Возможно, это связано с высокой численностью и биомассой грибов в данном типе почв [19]. Хищные и нематоды со смешанным типом питания в основном относятся к с-р-4 и с-р-5 классам по шкале Бонгерса. Это крупные нематоды с продолжительным жизненным циклом, низкой продуктивностью и высокой чувствительностью к нарушениям окружающей среды [26]. Отсутствие и низкие значения относительной численности этих групп в почве ольховника указывают на некоторые деструктивные процессы, происходящие в этом биоценозе. В остальных почвах исследованных биоценозов эти группы присутствовали и достигали значительных величин, что свидетельствует о стабильности экосистем. Особенно обильны эти группы были в аллювиальной и торфяной почвах, где содержание влаги достаточно высокое, позволяющее достигать значительных численностей таким водным организмам, как водоросли, энхитреиды, простейшие и коловратки, представляющим пищу для нематод со смешанным типом питания и хищников [32]. Невысокие показатели обилия фитонематод, возможно, связаны с коротким вегетационным периодом растений. Также очевидна их приуроченность к торфяному горизонту почв, где в основном концентрируются корни растений.
Показано, что видовое разнообразие и численность нематод тем больше, чем богаче флора и выше обилие цветковых растений, а характер растительного покрова влияет на соотношение экологических групп нематод [13, 34]. Среди исследованных биоценозов лугово-ивковая ассоциация обладала наибольшим растительным разнообразием и биомассой [2]. В этом биоценозе было зарегистрировано максимальное разнообразие нематод в аллювиальной почве. Несмотря на то, что растительная биомасса мертвопокровного ольховника была достаточно высока, отсутствие легкодоступной органики в подстилочном горизонте могло быть причиной низкого уровня разнообразия нематод в дерново-элювиально-метаморфической почве. Дальнейший анализ нематодных индексов [25] показал, что лугово-ивковый биоценоз представляет высокий уровень зрелости, низкий уровень нарушения трофических связей и высокую степень структурированности и комплексности, тогда как нематодные сообщества ольховника демонстрируют высокий уровень истощения, нарушения, низкую структурированность и разрозненность трофических связей. В дерново-элювиально-метаморфической почве практически отсутствуют легкодоступные питательные вещества, а также виден уровень нарушения, связанный либо с условиями окружающей среды, либо с антропогенным влиянием.
Доминирование родов Plectus и Eudorylaimus в тундровых почвах также отмечается другими авторами. Эти два рода могут включать 1/5 всех отмеченных видов, а их разнообразие может достигать 23 видов для рода Eudorylaimus и 11 видов – для рода Plectus [12].
В настоящее время нематоды – основной и еще не распознанный игрок в глобальном цикле углерода, при анализе которого используются так называемые метаболические отпечатки [35, 38]. Так как высокоширотные регионы содержат наиболее высокие численности нематод, то для понимания цикла углерода и его отражения на климатические условия необходимо изучать именно высокоширотные регионы, к которым относится Чукотка. Полученные данные могут быть в дальнейшем использованы для построения биогеохимических моделей изменения климата.
Все исследованные тундровые почвы можно охарактеризовать как ненарушенные, структурированные, с умеренным соотношением азота и углерода, с участием грибов в разложении органического вещества. Исключение составила дерново-элювиально-метаморфическая почва, которую на основании данных метаболических отпечатков можно отнести к истощенной, деградированной, с высоким соотношением углерода к азоту, находящейся в состоянии стресса [26]. Вероятно, биоценозы Мейныпильгынской озерно-речной системы не испытывали значительное стрессовое влияние факторов окружающей среды, тогда как ольховник, расположенный вблизи пос. Угольные копи, мог подвергаться антропогенному воздействию, что отразилось на фаунистическом составе нематод и соотношении их эколого-трофических групп.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ нематодных сообществ позволил впервые установить состав, численность, биомассу и соотношение эколого-трофических групп нематод, обитающих в тундровых почвах Южной Чукотки. Данные показатели значительно отличались в разных биоценозах и почвенных горизонтах. Вопреки ожиданиям, наибольшая численность нематод наблюдалась в верхнем подстилочном горизонте не во всех исследованных почвах.
В почвах исследованных биоценозов встречались все типы эколого-трофических групп нематод. Преобладающей группой были бактериоядные нематоды. Грибоядные нематоды, за редким исключением, были малочисленны. Для хищных нематод определена значительная численность в торфяных горизонтах криозема и аллювиальной серогумусовой почвы. Основная локализация и максимальная численность нематод со смешанным типом питания обнаружена в аллювиальной почве и торфянике. Нематоды паразиты и нематоды, ассоциированные с растениями, обнаружены во всех почвах и преобладали в корнеобитаемых горизонтах, находящихся под подстилкой.
Максимальное и минимальное разнообразие нематодных сообществ совпало с разнообразием и обилием растений, а также легкодоступностью субстратов для питания нематод. Plectus и Eudorylaimus оказались основными родами-эудоминантами исследованных тундровых почв. На основании таксономического состава и соотношения трофических групп нематод было выдвинуто предположение о сильном деструктивном воздействии на почвенный покров ольховника мертвопокровного. Для остальных типов почв установлены стабильные и структурированные типы почвенных пищевых сетей.
Дальнейшие исследования нематодных сообществ полуострова Чукотка предполагают установление видовой принадлежности выделенных родов нематод, а также их значение для функционирования арктических и субарктических экосистем.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Авторы выражают благодарность Д.В. Добрынину за помощь в идентификации почв.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа финансировалась за счет средств госбюджетной темы (FFER-2021-007) и Русского общества сохранения и изучения птиц.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с использованием теплокровных животных в качестве объектов экспериментов.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
作者简介
V. Migunova
Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences
编辑信件的主要联系方式.
Email: barbarusha@rambler.ru
俄罗斯联邦, Moscow
S. Tabolin
Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences
Email: barbarusha@rambler.ru
俄罗斯联邦, Moscow
L. Rybalov
Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences
Email: barbarusha@rambler.ru
俄罗斯联邦, Moscow
参考
- Афанасьева Т.В., Василенко В.И., Терешина Т.В., Шеремет Б.В. Почвы СССР. М.: Мысль, 1979. 380 с.
- Базилевич Н.И. Биологическая продуктивность экосистем Северной Евразии. М.: Наука, 1993. 293 с.
- Беликович А.В. Растительный покров северной части Корякского нагорья. Владивосток: Дальнаука, 2001. 420 с.
- Беликович А.В., Галанин А.В., Галанин А.А., Трегубов О.Д. и др. Природа и ресурсы Чукотки. Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2006. 323 с.
- Гагарин В.Г. Обзор фауны свободноживущих нематод водоемов Арктики и Субарктики России // Биология внутренних вод. 2001. № 2. С. 32–37.
- Гусаков В.А., Гагарин В.Г., Шкиль Ф.Н., Зленко Д.В. Eudorylaimus chukotkanus sp. n. и E. mylnikovi sp. n. (Nematoda: Dorylaimida) из оз. Эльгыгытгын на Чукотке (Россия) // Биология внутренних вод. 2022. № 2. С. 108–117.
- Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. Л.: Наука, 1969. Т. 1. 447 с.
- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 c.
- Кожевников Ю.П. Геосистемные аспекты растительного покрова Чукотки. Владивосток: ДВО АН СССР, 1989. 308 с.
- Кудрин А., Конакова Т., Таскаева А. Сообщества почвенных нематод различных тундровых фитоценозов, отличающихся степенью развития кустарникового яруса // Экология. 2019. № 6. С. 419–428.
- Кузьмин Л.Л. О фауне и экологии свободноживущих нематод Западного Таймыра // Зоологический журнал. 1972. Т. 11. Вып. 9. С. 1399–1402.
- Кузьмин Л.Л. Фауна свободноживущих нематод Западного Таймыра // Биогеоценозы таймырской тундры и их продуктивность. Л.: Наука, 1973. С. 139–148.
- Кузьмин Л.Л. Экология свободноживущих нематод подзон типичных тундр Западного Таймыра // Структура и Функции биогеоценозов Таймырской тундры. Л.: Наука, 1978. С. 228–244.
- Кузьмин Л.Л. Свободноживущие нематоды в подзоне южных тундр западного Таймыра // Южные тундры Таймыра. Л.: Наука, 1986. С. 118–122.
- Паринкина О.М. Биологическая продуктивность бактериальных сообществ тундровых почв // Биогеоценозы таймырской тундры и их продуктивность. Л.: Наука, 1973. С. 58–77.
- Скарбилович Т.С. Нематоды ягодников Чукотки // Проблемы паразитологии. Тр. VII науч. конф. паразитологов УССР. М., 1972. С. 259–261.
- Соловьева Г. И., Васильева А. П., Груздева Л. И. Свободноживущие и фитопаразитические нематоды северо-запада СССР. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1976. 107 с.
- Соловьева Г.И. Экология почвенных нематод. Л.: Наука, 1986. С. 5–14.
- Фокина Н.В., Корнейкова М.В., Редькина В.В., Мязин В.А., Сухарева Т.А. Биологическая активность и химические свойства тундровых почв Чукотского автономного округа в условиях промышленного загрязнения // Почвоведение. 2022. № 1. С. 55–67. https://doi.org/10.31857/S0032180X2201004X
- Чернов Ю.И., Ананьева С.И., Хаюрова Е.П. Комплекс почвообитающих беспозвоночных в пятнистых тундрах Западного Таймыра // Биогеоценозы таймырской тундры и их продуктивность. Л.: Наука, 1971. С. 198–212.
- Юрцев Б.А., Королева Т.М., Петровский В.В., Полозова Т.Г., Жукова П.Г., Катенин А.Е. Конспект флоры Чукотской тундры. СПб.: ВВМ, 2010. 628 с.
- Bardgett R.D., van der Putten W.H. Belowground biodiversity and ecosystem functioning // Nature. 2014. V. 515(7528). P. 505–511. https://doi.org/10.1038/nature13855
- Bongers T., Ferris H. Nematode community structure as a bioindicator in environmental monitoring // Trends in Ecology and Evolution. 1999. V. 14. Р. 224–228. http://dx.doi.org/10.1016/S0169-5347(98)01583-3
- Byzova J.B., Uvarov A.V., Petrova A.D. Seasonal changes in communities of soil invertebrates in tundra ecosystems of Hornsund, Spitsbergen. Polish Polar Res. 1995. V. 16. P. 245–266.
- Du Preez G., Daneel M., De Goede R., Du Toit M.J., Ferris H., Fourie H., Geisen S., Kakouli-Duarte T., Korthals G., Sánchez-Moreno S., Schmidt J.H. Nematode-based indices in soil ecology: application, utility, and future directions // Soil. Biol. Biochem. 2022. V. 169. P. 108640.
- Ferris H., Bongers T., Goede R.G. A framework for soil food web diagnostics: extension of the nematode faunal analysis concept // Appl. Soil Ecology. 2001. V. 18. Р. 13–29.
- Ferris H. Form and function: Metabolic footprints of nematodes in the soil food web // Eur. J. Soil Biol. 2010. V. 46. P. 97–104.
- Gagarin V.G., Gusakov V. A. Miconchus prokini sp. nov. (Nematoda: Mononchida) from lake El’gygytgyn, Chukotka, Russia // Nature Conservation Research. 2022. V. 7. P. 88–94.
- Holovachov O. Nematodes from terrestrial and freshwater habitats in the Arctic // Biodiversity Data J. 2014. V. 2. P. e1165. https://doi.org/10.3897/BDJ.2.e1165
- IUSS Working Group WRB. 2014. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.
- Kuzmin L.L. Free-Living Nematodes in the Tundra of Western Taimyr // Oikos.1976. V. 27. Р. 501–505.
- McSorley R. Ecology of the dorylaimid omnivore genera Aporcelaimellus, Eudorylaimus and Mesodorylaimus // Nematology. 2012. V. 14. P. 645–663.
- Mulvey R.H. Some soil-inhabiting, freshwater, and plant-parasitic nematodes from the Canadian Arctic and Alaska // Arctic. 1963. V 16. Р. 202–204.
- Nematodes as environmental indicators / Ed. Michael J. et al. N.Y.: CAB International. 2009. 326 p.
- Nielsen U.N., Ayres E., Wall D.H., Li G., Bardgett R.D., Wu T., Garey J.R. Global-Scale Patterns of Assemblage Structure of Soil Nematodes in Relation to Climate and Ecosystem Properties // Glob. Ecol. Biogeogr. 2014.№ 23. Р 968–978.
- Peneva V., Lazarova S., Elshishka M., Makarova O., Penev L. Nematode assemblages of hair-grass (Deschampsia spp.) microhabitats from polar and alpine deserts in the Arctic and Antarctic // Species and Communities in Extreme Environment. Pensoft–KMK, 2009. P. 419–438.
- Sieriebriennikov B., Ferris H., de Goede, R.G. NINJA: An automated calculation system for nematode-based biological monitoring // Eur. J. Soil Biol. 2014. V. 61. Р. 90–93.
- van den Hoogen J., Geisen S., Routh D. et al. Soil nematode abundance and functional group composition at a global scale // Nature. 2019. V. 572. P. 194–198.
- Yeates G.W., Bongers T., De Goede R.J.M., Freckmann D.V., Georgieva S.S. Feeding habits in soil nematode fauna and genera: an online for soil ecologist // J. Nematology. 1993. V. 25. P. 315–331.
- Yeates G.W. Nematodes as soil indicators: functional and biodiversity aspects // Biol. Fertil. of Soils. 2003. V. 37. P. 199–210.
- http://nemaplex.ucdavis.edu/Uppermnus/topmnu.htm
补充文件