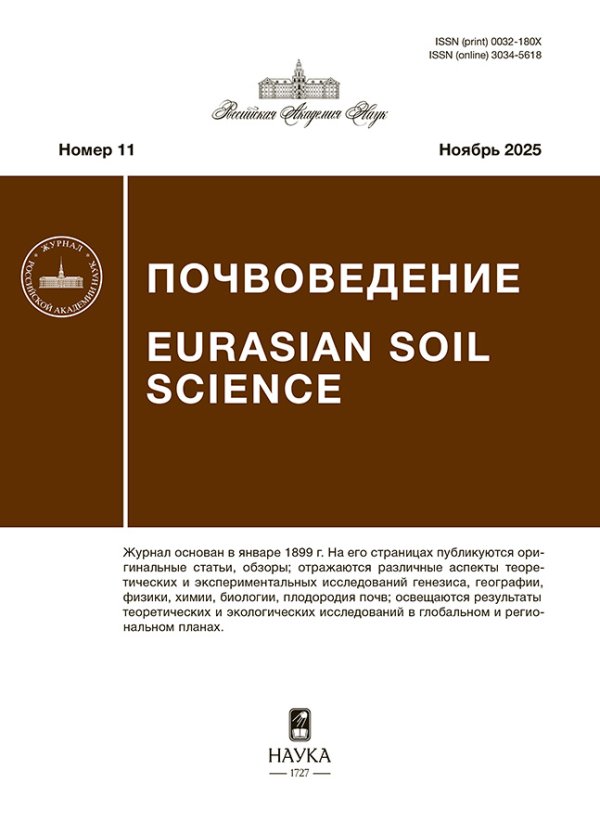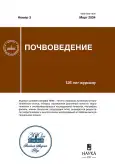Влияние весенних палов на свойства гумусового горизонта чернозема (юго-восток Западной Сибири)
- Авторы: Семенков И.Н.1, Леднев С.А.1, Клинк Г.В.2, Касымов Д.П.3,4, Агафонцев М.В.3,4, Кострова С.Н.5, Королева Т.В.1
-
Учреждения:
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН
- Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН
- Томский государственный университет
- Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН
- Выпуск: № 3 (2024)
- Страницы: 482-492
- Раздел: ДЕГРАДАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОХРАНА ПОЧВ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0032-180X/article/view/264072
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0032180X24030082
- EDN: https://elibrary.ru/YHYVSS
- ID: 264072
Цитировать
Полный текст
Аннотация
На примере почв Базового экспериментального комплекса Института оптики атмосферы СО РАН (г. Томск) изучено влияние весенних палов травы на свойства верхнего слоя гумусового горизонта миграционно-мицелярного чернозема (Haplic Chernozem). На участках, горевших два месяца, 1, 2, 3 и 11 лет назад, всего собрано 56 проб (5–14-кратная повторность). Выявлена высокая устойчивость контролируемых свойств почв (катионно-анионный состав водной вытяжки, содержание гранулометрических фракций и подвижных соединений широкого спектра элементов, общего C и N, величина рН, щелочность от HCO3–) к пирогенному воздействию от весенних палов травы. Информативными показателями, отражающими существенное пирогенное воздействие в течение последних 11 лет, являются содержание подвижных Ca, Mg и Sr, а также водорастворимого Mg2+ и щелочность от HCO3–. Их содержание выше в почвах молодых (0–3 года) палов относительно старого (11-летней) и негоревших участков. Среди изученных показателей низкие значения коэффициента вариации (преимущественно < 20% по всем обследованным выборкам) имели величина рН, содержание подвижных Ba и Sr и гранулометрических фракций с диаметром частиц 1–5, 5–10 и 10–50 мкм, высокие (>70%) – содержание водорастворимого аммония и подвижных Li и Zn.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
При усилении аридизации климата и антропогенной нагрузки на природные экосистемы пожары представляют все более значимую экологическую проблему по всему миру [28, 48]. Ежегодно в России палы травы охватывают обширные пространства, уничтожают инфраструктуру и приводят к гибели животных и людей [8]. Пожары неоднозначно влияют на функционирование экосистем [3, 6, 23]. Не обоснованы надежные индикаторы (“пирогенная метка”), отражающие прохождение лугов пожарами (пребывание в состоянии пала), и временного интервала, на котором данные свойства сохраняют свою индикационную роль. Для оценки влияния пожаров на химические и физико-химические свойства почв России за последние 5–6 лет больше всего материалов по величине рН, содержанию общего и органического углерода, обменных оснований и общего N (табл. S1). Если для почв лесных экосистем (гарей и горельников), а также малогумусных почв пустынь и полупустынь подобные работы многочисленны, то для черноземов редки [1, 2, 8].
Хотя химические и физико-химические свойства постпирогенных высокогумусных черноземов изучены в недостаточной мере, предполагается, что тенденции изменения их свойств должны быть сходны с наблюдаемыми в лесных почвах после низовых пожаров [2], когда сгорает напочвенный покров растительности и органогенные горизонты. Для малогумусных почв гарей и горельников аридных регионов отсутствует единое мнение о постпирогенных изменениях свойств поверхностного слоя [43].
Поступление золы в результате выгорания надземной фитомассы и разложение дополнительного количества корневой мортмассы отмерших в результате пожара многолетников может увеличить содержание в верхнем слое черноземов зольных элементов (прежде всего, щелочноземельных элементов), которыми богата лугово-степная растительность. В результате изменения гидротермического режима за счет изменения характера напочвенного покрова способна измениться глубина вскипания от карбонатов и связанные с ней щелочность от HCO3– и величина рН, в верхние горизонты почв могут переместиться гипс и даже легкорастворимые соли. Следовательно, в результате выгорания растительности могут измениться динамические свойства, связанные с существующими в данный момент условиями [21, 32]. В связи с этим необходимо проводить сопряженные исследования на палах и не затронутых пожаром участках. Гранулометрический состав, относимый к медленно трансформируемым или наследуемым от материнской породы показателям “почва-память” [19], должен быть устойчивым при выгорании растительности. Хотя имеются данные и о постпирогенных изменениях содержания гранулометрических фракций [32].
Цель исследования – выявление среди широкого спектра химических свойств и показателей элементного состава гумусового горизонта миграционно-мицелярных черноземов индикаторов наличия слабого пирогенного воздействия, обусловленного весенним палом травы. Индикационную роль в данном случае могут иметь только те показатели, значения которых монотонно повышаются или снижаются от недавно горевших участков к более старовозрастному и контрольному (фоновому).
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Характеристика обследованного участка. Объектом исследования являются черноземы (Haplic Chernozems) территории Базового экспериментального комплекса (БЭК) Института оптики атмосферы СО РАН, расположенного на древней террасе правого берега реки Ушайки (правый приток Томи, бассейн Оби), в восточной части макросклона Томь-Яйского междуречья с абсолютными отметками 152–160 м и доминирующими уклонами местности 0.3°–3.0°. Здесь находится самый север ареала черноземов Томской области, где данные почвы встречаются в виде небольших участков [12]. Материнскими породами являются лёссовидные суглинки еловской свиты. Это определяет низкую пространственную вариабельность свойств гумусового горизонта и относительную простоту структуры почвенного покрова [14]. Доминирующими являются темно-серые почвы с промывным типом водного режима [24]. Согласно карте биомов России [15], на рассматриваемой территории распространен западно-сибирский южный мелколиственный биом. По классификации Кеппена–Гейгера климат территории снежный, гумидный с теплой весной (Dbf; snow fully humid with warm summer) [41], средняя температура июля и января составляет +17.7 и –17.0°С соответственно, среднегодовая сумма осадков – 400 м при коэффициенте увлажнения по Высоцкому–Иванову 1.0.
По данным дистанционного зондирования, на месте БЭК до 2008 г. располагались сельскохозяйственные угодья и дачные участки. После создания БЭК антропогенная нагрузка на территорию снизилась, и на залежном лугу началось активное лесовозобновление. Поскольку порослевой лес мешает функционированию оптических приборов, испытываемых на БЭК, по свидетельству сотрудников ИОА СО РАН, на его территории 1–2 раза в год вырубают подрост и ежегодно скашивают травостой. Фоновые сообщества БЭК представлены разнотравно-злаковыми и злаково-разнотравными лугами с общим проективным покрытием 70–90% и высотой травяно-кустарничкового яруса 40–50 см. По нашим данным1, фоновые значения надземной фитомассы в основном лежат в интервале 200–300 г/м2. Среди злаков преобладают мятлик (Poa pratensis) и овсяница луговая (Festuca pratensis), ежа сборная (Dactylis glomerata). Из бобовых и разнотравья – клевер луговой (Trifolium pratense), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), подмаренник мягкий (Galium mollugo). Луга мозаичны и полидоминантны. Интенсивнее развивающийся на некосимых участках подрост (проективное покрытие < 5%) представлен в основном берёзой повислой (Betula pendula), ивой козьей (Salix caprea) и осиной (Populus tremula).
Осуществление контролируемых палов. На территории БЭК исследуют механизмы возникновения и распространения природных пожаров при переносе горящих частиц, а также самих частиц и процессы турбулентности в зоне пожара [13, 38]. Для этого в 2011 г. и далее ежегодно с 2019 г. на экспериментальных участках в последнюю декаду апреля – первую декаду мая проводили контролируемые палы прошлогодней травы на предварительно размеченных площадках с фиксацией температуры поверхностного слоя почвы при помощи контактных датчиков (термопар). На таких участках сохраняют травостой в течение предшествующего вегетационного сезона (табл. 1), чтобы на момент пала они были покрыты горючим материалом, поэтому уже выгоравшие участки повторно не поджигали. Распространение огня ограничивали с помощью удаления горючего материала за границами площадки и механической ликвидации пламени. Осуществляемые таким образом эксперименты можно рассматривать в качестве аналогов весенних палов травы, выполняемых в сельской местности России.
Таблица 1. Характеристика участков, пройденных пожарами на территории БЭК и использованных в настоящем исследовании
Год пожара | Время, прошедшее с выгорания | Площадь пала, м2 | n |
Фон | – | – | 11 |
2011 | 11 лет | 300 | 9 |
2019 | 3 года | 500 | 9 |
2020 | 2 года | 30 | 5 |
2021 | 1 год | 65 | 8 |
2022 | 2 мес | 400 | 14 |
Примечание. n – число проб.
С 2019 г. на участках контролируемых палов сохраняют мортмассу (не проводят сенокошение), поэтому здесь произрастают не косимые несколько лет луга. Луга на участках контролируемого пожара 2011 г. и условном фоне выкашивают. Температура в приповерхностном слое почвы БЭК в момент прохождения огненного фронта повышалась до 50°С в течение 40–120 с. При быстром выгорании растительности спустя 1–2 мин после прохождения огня температура на 5–10°С превышала изначальную (до возгорания). В то же время длительное горение растительности повышало температуру поверхностного слоя почвы до 300°С и более в течение нескольких минут [13, 35, 38]. Таким образом, весенний луговой пал гетерогенен по температурному режиму в поверхностном слое почвы, и температура конкретных локусов напрямую зависит от наличия долго прогорающего материала, что в рамках данного исследования не контролировалось.
Границы площадок пожаров 2021 и 2022 гг. воспроизведены по сохранившимся кольям, отмечавшим углы. Расположение остальных площадок восстановлено по фотографиям с земли, сделанным в соответствующие годы, и с квадрокоптера (в 2022 г.) за счет привязки к сохранившимся на местности объектам (ямам, стогам, дорогам, строениям и т.п.) и описаниям линейных расстояний до них, а также использования исторических данных дистанционного зондирования Земли.
Наиболее удаленные из обследованных участков находятся на расстоянии 250 м. Абсолютная высота обследованной территории колеблется в пределах 152–160 м при среднем уклоне 3% (по данным из открытого источника Google Earth Pro). В пределах БЭК отсутствует микро- и нанорельеф, который бы мог способствовать образованию гидроморфных комплексов.
Пробоотбор, аналитические работы и обработка данных. Полнопрофильное описание фоновой почвы и опробование верхнего 1 см слоя темно-гумусового горизонта черноземов2 с разновозрастных (0–11 лет) палов и фоновых участков выполнены на БЭК в июле 2022 г. (рис. 1). В пределах визуально определенных границ участков разновозрастных палов пробы отбирали по равномерной сетке. В качестве фоновых участков выбраны территории, максимально близкие к палам и схожие с ними по положению в мезорельефе. Из рассмотрения исключена восточная часть полигона, которая в настоящее время закустарена. Всего получено 56 проб: 11 на негоревших участках и 45 на разновозрастных палах.
Рис. 1. Расположение участков (многоугольники с красным контуром), обследованных в пределах БЭК. Цифры – годы, выполнения палов. Голубым отмечены фоновые участки, желтым – место заложения разреза (описание см. табл. 1).
Во всех пробах определены следующие показатели. Величина рН измерена в водной суспензии при постоянном перемешивании (соотношение почва : раствор – 1 : 2.5) потенциометрически [16, 22] на приборе И-160МИ (Измерительная техника, Россия). Удельная электропроводность (ЕС1:5) определена кондуктометрически в водной вытяжке (1 : 5) [22] на приборе Hanna HI 98331 (Германия). Гранулометрический состав исследован лазерно-дифрактометрически [16] в образцах, растертых пестиком с резиновым наконечником и предварительно обработанных 4% Na4P2O7 для разрушения структурирующих агентов [16, 37], на приборе Analysette 22 Nano Tech (Fritsch, Германия) с применением ультразвуковой диспергации в соответствии с рекомендациями производителя и современными представлениями [25]. Катионно-анионный состав (содержание NO3–, NO2–, SO42–, Ca2+, K+, Mg2+, Na+ и NH4+) водной вытяжки (1 : 5) изучен хроматографически [16] на приборе Стайер (Аквилон, Россия). Общая щелочность (щелочность от HCO3–) определена титриметрически с 0.02 М H2SO4 и метиловым оранжевым [16, 22]. Общее содержание углерода (Собщ) и азота (Nобщ) получено методом каталитического сжигания в токе кислорода [16] на CHNS-O элементном анализаторе EA 1110 (CE Instruments, Италия). Водорастворимое органическое вещество экстрагировали из почв холодной и горячей водой по методике, подробно описанной в [4]. Содержание подвижных форм соединений металлов, извлеченных ацетатно-аммонийным буфером с рН 7.0, измерено методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на приборе iCAP-6500 (Thermo Scientific, США).
В рассмотрение включены биогенные элементы (Ca, Co, К, Mg, Mn, Na, Ni, Zn), активно накапливаемые растениями, щелочные и щелочноземельные металлы (Ba, Ca, K, Li, Mg, Na, Sr), содержание которых также повышено в зольном остатке луговой и степной растительности, а также Al, Ca и Fe, содержание форм которых связано с изменением кислотности среды. Показатели гранулометрического состава использованы в качестве отрицательного контроля (предполагается отсутствие влияния пожаров на содержание гранулометрических фракций) и подтверждения того, что опробованные разновозрастные палы расположены в пределах одной почвенной разности.
Полученный массив данных разделен на 6 выборок в соответствии с возрастом пала, для которых подсчитаны статистические показатели. Значимость отличий почвенных показателей на разновозрастных горевших и негоревших участках сравнивали с помощью непараметрических H-критерия Краскела–Уоллиса (pH) и U-критерия Манна–Уитни (pU) в программе “Statistica”. Выборочные среднее, стандартное отклонение, медиана и коэффициент вариации (Cv) рассчитаны в программе “Statistica”. Пороговым считали уровень значимости p = 0.05 до поправки на множественное тестирование (FDR) по методу Холма–Бонферрони и 0.001 – после ее учета. Визуализация результатов выполнена в среде “R” с использованием стандартных команд.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Так как расстояние между наиболее удаленными точками пробоотбора не превышает 300 м, то предполагается, что все участки находятся в пределах одного элементарного почвенного ареала и характеризуются сходными свойствами. Это подтверждает близость гранулометрического состава почв рассматриваемых горевших и фоновых участков БЭК (рис. 2) и отсутствие значимых различий по H-критерию Краскела–Уоллиса (p = 0.06–0.24). Лишь илистой фракции на двухлетнем пале меньше, чем на фоне: 2.6 и 3.6% соответственно (рис. 2), хотя эти различия незначимы после поправки на множественное тестирование. Коэффициент вариации содержания гранулометрических фракций составляет 7–40%, повышаясь до 60–80% на участках с пониженным содержанием мелкого песка. Такой уровень вариабельности содержания гранулометрических фракций свойственен гумусовому горизонту западно-сибирских агрочерноземов [18, 44] и текстурно-дифференцированных почв Центрально-Лесного заповедника [7]. Повышение уровня вариабельности содержания песчаных фракций при приближении к нижнему порогу обнаружения также отмечали ранее в почвах Центрально-Лесного заповедника [7] и Брянского ополья [10].
Рис. 2. Свойства поверхностного слоя обследованных миграционно-мицелярных черноземов БЭК в выборках: 1 – горевший 2 месяца назад (в 2022 г.); 2 – горевший 1 год назад (в 2021 г.); 3 – горевший 2 года назад (в 2020 г.); 4 – горевший 3 года назад (в 2019 г.); 5 – горевший 11 лет назад (в 2011 г.); 6 – фон. На графиках показаны: прямоугольник – первый и третий квартили, черная линия – медиана, усы – 1.5 межквартильных интервала, точки – выбросы. Над графиками приведены значения pU для соответствующих выборок, отмеченных скобками.
(Физико-)химические параметры. Средние значения величины рН колеблются в пределах 5.8–6.3. Минимальны значения на выгоревшем 1 год назад участке (pU = 0.02), максимальны – на 11-летнем (pU < 0.0001; pH <0.0001;). Значения Cv составляют 1–4%, что типично для данного показателя в природных почвах [7, 9]. Все опробованные почвы не засолены и не содержат в темно-гумусовом горизонте карбонатов: средняя EC1:5 колеблется в пределах 0.53–0.74 дС/м без значимых различий после FDR и по H-критерию Краскела–Уоллиса.
Содержание Nобщ колеблется в пределах 0.29–0.37% при повышенных значениях на пале этого года и 2–3-летних (0.36–0.36%; pU = 0.002 – 0.027; pH = 0.0005). Среднее содержание Cобщ колеблется в пределах 3.7–4.7% (значения Cv = 10–20% на разновозрастных палах и несколько увеличиваются от молодых палов к старым), понижено в почвах молодых палов (pH = 0.02). Потери Cобщ в верхнем слое почв восполняются через 2 года после пожара. Распределение водорастворимого органического вещества, экстрагируемого холодной и горячей водой, варьирует в узких пределах (Cv = 7–25% с несколько более повышенными значениями на 11-летнем пале и негоревшем участке) и не зависит от времени, прошедшего с последнего пожара. Выявленный разброс (0.31–0.69 и 1.5–3.7 г/кг для вещества, экстрагируемого холодной и горячей водой соответственно) аналогичен значениям, обнаруженным в черноземах Ростовской агломерации [4] и почвах кукурузного поля в южной Канаде [34].
Пожары приводят к кратковременным и долговременным изменениям в свойствах почв. К кратковременным изменениям относят рост EC1:5 и pH и снижение содержания Cобщ, наблюдавшиеся в семиаридных лесных и кустарниковых сообществах Испании [26, 33, 29] и Австралии [39]. После пожаров в суглинистых почвах Намибии возросло содержание подвижных оснований, а в песчаных уменьшилось за счет выноса поступивших элементов в грунтовые воды [40]. В постпирогенных Cambisols Хорватии в течение первого года наиболее чувствительными индикаторами были величина рН, EC1:5, содержание CaCO3, Nобщ, начинавшие приближаться к фоновым показателям уже через 9 месяцев после пожара [36]. В первый вегетационный сезон после пожара отмечали повышенные значения pH для верхнего 0–5-сантиметрового слоя почвы [45]. В аналогичном слое зауральских постпирогенных черноземов Башкирии относительно фоновых в течение как минимум двух лет было выше содержание Nобщ, сухого остатка и токсичных солей, а также значения величины рН [1, 2]. В почвах семиаридных кустарниковых сообществ юго-восточной Испании увеличение частоты пожаров сопровождалось резким снижением содержания Сорг и Nобщ [27, 31]. Отмеченные послепожарные особенности почв лишь частично совпадают с результатами, полученными по черноземам БЭК. Возможность разнонаправленных изменений в свойствах почв постпирогенных экосистем отмечали и ранее [43]. Кроме того, на примере почв Европы отмечено минимальное воздействие пожаров на свойства почв луговых экосистем [42]. К долговременным изменениям в свойствах почв относят рост содержания растворимых солей, установленный для лугов восточной Венгрии [47].
Состав водной вытяжки. На двухлетнем пале содержание водорастворимого Na+ минимально (42 cмоль(экв)/кг; pU = 0.0005), Mg2+ – максимально (pU <0.007). Относительно фоновых значений содержание водорастворимого Ca2+ повышено на 0–3-летних палах. Но только для участков, прогоравших 2 мес. назад и 3 года назад, различия значимы (pU <0.044). Содержание водорастворимых NO2– повышено (1.42±0.72 смоль(экв)/кг; pU = 0.02) на выгоревшем 1 год назад участке, а на остальных меньше 0.4 смоль(экв)/кг. Пониженное содержание водорастворимых NO3– характерно для участков, горевших в этом сезоне и 3 года назад (pU < 0.001; pH = 0.004), а SO42– – в этом и позапрошлом году (pU < 0.0005; pH = 0.0001). Щелочность от HCO3– повышена на молодых палах (pU < 0.009) при локальном минимуме на старовозрастном пале (pU = 0.004; pH < 0.0001).
Подвижные соединения металлов. Содержание подвижных Ba, Fe, Cu, Na, Zn значимо не отличается в почвах разновозрастных палей. Относительно фонового участка в почвах молодых палов подвижного Mg больше (средние значения 504–532 мг/кг; pU = 0.003–0.052), а на старовозрастной – меньше (305 мг/кг; pU = 0.038; pH = 0.0002). Похожая, но менее четкая картина свойственна Ca и Sr. Сходным образом ведет себя и подвижный Li: его больше на молодых палах, чем на старовозрастных и фоне (pH < 0.0001). В почвах молодых палов подвижного Al меньше (средние значения 0.66–0.88 мг/кг при Cv = 19–42%), чем на старовозрастном и фоне (1.1–2.2 мг/кг; Cv = 42–43%), хотя значимые различия обнаружены только в отношении участков, горевших 1 и 11 лет назад (pU = 0.01–0.04; pH <0.0014). Похожие тенденции характерны для Mn2+. Подвижного K+ больше в почвах участков, горевших 1 и 11 лет назад (pU = 0.012–0.038; pH = 0.03). На двухгодичном пале минимально содержание подвижного Ni (<0.08 мг/ кг во всех пробах – нижний предел обнаружения).
Повышенный уровень вариабельности содержания подвижных соединений металлов относительно валового содержания того же элемента, величины рН, содержания гумуса и гранулометрических фракций отмечали для черноземов [18] и текстурно-дифференцированных почв [7, 9] фоновых и агроландшафтов, что, вероятно, является характерной особенностью данных показателей.
Выявленное повышенное содержание подвижных соединений щелочноземельных металлов, поступающих из золы растений и слабо подвижных в нейтральной среде гумусового горизонта чернозема, совпадает с литературными данными о том, что сгорание надземной фитомассы кратковременно увеличивает в почвах концентрацию элементов минерального питания растений, быстро возвращающуюся к допожарному уровню [42]. В первый вегетационный сезон после пожара в верхнем 5-сантиметровом слое почвы повысилось содержание подвижных Ca, Mg, Na и К [45]. Верхний 5-сантиметровый слой зауральских постпирогенных черноземов Башкирии относительно фоновых в течение как минимум 2 лет содержал больше подвижных Ca, K и Na [1, 2]. В течение 7–18 лет постпирогенные почвы северо-востока Иберийского полуострова содержали больше подвижных Ca и Mg, Nобщ относительно негоревших [30]. Однако, по нашим данным, повышенные концентрации сохраняются как минимум 3 года (но не более 10), так как на 11 год после пожара на БЭК концентрация подвижных соединений щелочноземельных металлов в верхнем 1-сантиметровом слое почвы близка к фоновому уровню. Снижение содержания подвижных соединений металлов по мере увеличения срока, прошедшего с момента пожара, может быть обусловлено их выносом в условиях периодически промывного водного режима, характерного для рассматриваемой территории.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Весенние палы травы слабо влияют на химические свойства почв Базового экспериментального комплекса, расположенного в пределах Томска. В верхнем слое гумусового горизонта изученной хроносерии постпирогенных миграционно-мицелярных черноземов не выявлено монотонных изменений электропроводности и катионно-анионного состава водной вытяжки, величины рН, содержания гранулометрических фракций, Cобщ и Nобщ, водорастворимого органического вещества, подвижных соединений Al, Ba, Fe, K, Li, Mn, Na, Ni, Zn. Следовательно, эти показатели гумусового горизонта черноземов юго-востока Западной Сибири на крайней северной границе своего ареала устойчивы к пирогенному воздействию от весенних палов травы. Среди изученных показателей в качестве индикаторов существовавшего до 11 лет назад пирогенного воздействия можно отметить содержание подвижных Ca, Mg и Sr, а также водорастворимого Mg2+ и щелочность от HCO3– при наличии сопряженных данных с негоревшего участка. Их содержание снижается по мере увеличения срока, прошедшего с момента пожара.
В верхнем слое гумусового горизонта фонового чернозема отмечена очень низкая вариабельность (Cv < 10%) в отношении величины рН; низкая (Cv = 10–20%) – содержания средней пыли, водорастворимого органического вещества, водорастворимого Na+ и подвижных катионов щелочено-земельных металлов (Ba, Ca, Sr); при повышенных значениях (50–100%) – содержания мелкого песка, Cобщ, Nобщ и водорастворимых NO3–, K+, NH4+; и очень высоких (>100%) – для подвижных Li и Zn. Значения Cv остальных изученных показателей варьировали в пределах 20–50%. На горевших участках повышены значения Cv содержания подвижного Na+ и понижены – EС1:5, содержания Nобщ, Собщ и подвижного Mg.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Полевые работы выполнены на территории БЭК Института оптики атмосферы СО РАН с использованием оборудования ЦКП “Атмосфера”, приобретенного из средств Минобрнауки России (cоглашение № 075-15-2021-661). Авторы благодарны В.В. Рейно (ИОА СО РАН) за содействие в организации работ и А.П. Гинзбургу (МГУ им. М.В. Ломоносова), выполнившему опробование почв и их морфологическое описание. Химико-аналитические работы выполнены в Эколого-геохимическом центре географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (физико-химические свойства и пробоподготовка – А.П. Гинзбург и П.Р. Енчилик, хроматография – Л.В. Добрыднева), ИПТМ РАН (элементный состав почвенной вытяжки – группа В.К. Карандашева) и в ЦКП “Хроматография” (регистрационный номер 3297), созданном на базе экоаналитической лаборатории ИБ Коми НЦ УрО РАН (Собщ и Nобщ – Е.А. Туманова). Водорастворимое органическое вещество исследовано в лаборатории Smart Urban Nature РУДН (группа В.И. Васенева). При подборе объектов исследования использованы материалы, предоставленные Центром коллективного пользования “Геопортал” (МГУ им. М.В. Ломоносова).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 22-27-00329.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Онлайн-версия содержит дополнительные материалы, доступные по адресу https://doi.org/10.1134/S1064229323603062.
1 Надземная фитомасса собрана с площадок 50 × 50 см путем срезания побегов под корень ножницами, доведена до постоянного веса при 40°С и взвешена, после чего произведен пересчет на площадку площадью 1 м2.
2 Оставшуюся на поверхности почвы недогоревшую стерню удаляли.
Об авторах
И. Н. Семенков
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: semenkov@geogr.msu.ru
Россия, Москва
С. А. Леднев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: semenkov@geogr.msu.ru
Россия, Москва
Г. В. Клинк
Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН
Email: semenkov@geogr.msu.ru
Россия, Москва
Д. П. Касымов
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН; Томский государственный университет
Email: semenkov@geogr.msu.ru
Россия, Томск; Томск
М. В. Агафонцев
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН; Томский государственный университет
Email: semenkov@geogr.msu.ru
Россия, Томск; Томск
С. Н. Кострова
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН
Email: semenkov@geogr.msu.ru
Россия, Сыктывкар
Т. В. Королева
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: semenkov@geogr.msu.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Габбасова И.М., Гарипов Т.Т., Комиссаров М.А., Сулейманов Р.Р., Суюндуков Я.Т., Хасанова Р.Ф., Сидорова Л.В., Комиссаров А.В., Сулейманов А.Р., Назырова Ф.И. Влияние пожаров на свойства степных почв Зауралья // Почвоведение. 2019. № 12. С. 1513–1523. https://doi.org/10.1016/10.1134/S1064229319120044
- Габбасова И.М., Гарипов Т.Т., Сулейманов Р.Р., Комиссаров М.А., Хабиров И.К., Сидорова Л.В., Назырова Ф.И., Простякова З.Г., Котлугалямова Э.Ю. Влияние низовых пожаров на свойства и эрозию лесных почв южного Урала (Башкирский государственный природный заповедник) // Почвоведение. 2019. № 4. С. 412–421. https://doi.org/10.1134/S0032180X19040075
- Гераськина А.П., Тебенькова Д.Н., Ершов Д.В., Ручинская Е.В., Сибирцева Н.В., Лукина Н.В. Пожары как фактор утраты биоразнообразия и функций лесных экосистем // Вопросы лесной науки. 2021. Т. 4. № 2. С. 82. https://doi.org/10.31509/2658-607x-202142-11
- Горбов С.Н., Безуглова О.С., Скрипников П.Н., Тищенко С.А. Растворимое органическое вещество в почвах Ростовской агломерации // Почвоведение. 2022. № 7. С. 894–908. https://doi.org/10.31857/S0032180X2207005X
- Дусаева Г.Х., Калмыкова О.Г. Влияние пожаров на растительный покров степей Евразии: обзор литературы // Бюл. Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2021. Т. 126. № 2. С. 25–37.
- Дымов А.А. Сукцессии почв в бореальных лесах Республики Коми. М.: ГЕОС, 2020. 318 с. http://doi.org/10.34756/GEOS.2020.10.37828
- Енчилик П.Р., Семенков И.Н. Пространственная изменчивость элементного состава почв в катене Центрально-Лесного заповедника // Лесоведение. 2022. № 4. С. 411–418. https://doi.org/10.31857/S0024114822030068
- Казеев К.Ш., Одабашян М.Ю., Трушков А.В., Колесников С.И. Оценка влияния разных факторов пирогенного воздействия на биологические свойства чернозема // Почвоведение. 2020. № 11. С. 1372–1382. https://doi.org/10.31857/S0032180X20110064
- Карпухина Н.Ю., Карпухин М.М., Самсонова В.П., Кротов Д.Г. Пространственная изменчивость содержания тяжелых металлов в агросерой почве в масштабе сельскохозяйственного угодья // Агрохимия. 2012. № 8. С. 57–65.
- Кротов Д.Г., Самсонова В.П. Пространственная изменчивость гранулометрического состава агросерых почв и агросерых со вторым гумусовым горизонтом // Вестник Моск. ун-та. Сер. 17, почвоведение. 2009. № 1. С. 19–23.
- Кудрявцев А.Ю. Воздействие пожаров на экосистемы заповедника “Приволжская лесостепь” // Степной бюл. 2015. № 43–44. С. 12–16.
- Кузнецов К.А. Почвы Томской области (предварительное сообщение) // Вопросы географии Сибири. Томск, 1949. № 2. С. 69–86.
- Лобода Е.Л., Касымов Д.П., Агафонцев М.В., Рейно В.В., Гордеев Е.В., Тарканова В.А., Мартынов П.С., Орлов К.Е., Савин К.В., Дутов А.И., Лобода Ю.А. Влияние малых природных пожаров на характеристики атмосферы вблизи очага горения // Оптика атмосферы и океана. 2020. Т. 33. № 10 (381). С. 818–823. https://doi.org/10.15372/AOO20201011
- Лойко С.В. Крицков И.В., Куликова О.Р., Истигечев Г.И. Влияние рельефа и крестьянского природопользования на цветность гумусовых горизонтов в предгорной подтайге юго-востока Западной Сибири. Отражение био-, гео-, антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове. Сб. матер. V Междунар. науч. конф., посвященной 85-летию кафедры почвоведения и экологии почв ТГУ. Томск: Национальный исследовательский Томский гос. ун-т, 2015. С. 56–61.
- Огуреева Г.Н., Леонова Н.Б., Булдакова Е.В., Кадетов Н.Г., Архипова М.В., Микляева И.М., Бочарников М.В., Дудов С.В., Игнатова Е.А., Игнатов М.С., Мучник Е.Э., Урбанавичюс Г.П., Даниленко А.К., Румянцев В.Ю., Емельянова Л.Г., Леонтьева О.А., Романов А.А., Константинов П.А. Биомы России. М-б 1 : 7 500 000. М.: Всемирный фонд дикой природы, 2018.
- Пансю М., Готеру Ж. Анализ почвы. Справочник. Минералогические, органические и неорганические методы анализа. СПб.: ЦОП Профессия, 2014. 800 с.
- Пивоварова Е.Г. Решение вопросов пространственной и временной вариации агрохимических свойств почв с помощью информационного-логического анализа // Агрохимия. 2006. № 8. С. 77–84.
- Семенков И.Н., Касимов Н.С., Терская Е.В. Латеральная дифференциация форм соединений металлов в почвеных суглинистых катенах центра Западно-Сибирской равнины // Вестник Моск. ун-та. Сер. 5, география. 2019. № 3. С. 25–37.
- Соколов И.А., Таргульян В.О. Взаимодействие почвы и среды: почва–память и почва–момент // Изучение и освоение природной среды. М.: Наука, 1976. С. 150–164.
- Ступакова Г.А., Лапушкина А.А., Щиплецова Т.И., Митрофанов Д.К., Холяева О.В. Вариабельность содержания показателей плодородия в стандартных образцах разных типов почв // Плодородие. 2022. № 5 (128). С. 11–16. https://doi.org/10.25680/S19948603.2022.128.03
- Таргульян В.О., Соколов И.А. Структурный и функциональный подход к почве: почва-память и почва-момент // Математическое моделирование в экологии. М.: Наука, 1978. С. 17–33.
- Теория и практика хиимческого анализа почв /Под ред. Воробьевой Л.А. М.: ГЕОС, 2006. 400 с.
- Титлянова А. А., Самбуу А. Д. Сукцессии в травяных экосистемах. Новосибирск: Изд-во со РАН, 2016. 191 с.
- Фридланд В.М. Почвенная карта РСФСР. М-б 1 : 2 500 000. М.: ГУГК, 1988. 16 л.
- Юдина А.В., Фомин Д.С., Валдес-Коровкин И.А., Чурилин Н.А., Александрова М.С., Головлева Ю.А., Филиппов Н.В., Ковда И.В., Дымов А.А., Милановский Е.Ю. Пути создания классификации почв по гранулометрическому составу на основе метода лазерной дифракции // Почвоведение. 2020. № 11. С. 1353–1371. https://doi.org/10.31857/S0032180X20110143
- Badia D., Martí C. Fire and rainfall energy effects on soil erosion and runoff generation in semi-arid forested lands // Arid L. Res. Manag. 2008. V. 22. P. 93–108. https://doi.org/10.1080/15324980801957721
- Carreira J. A., Niell F. X., Lajtha K. Soil nitrogen availability and nitrification in Mediterranean shrublands of varying fire history and successional stage // Biogeochemistry. 1994. V. 26. № 3. P. 189–209. https://doi.org/10.1007/BF00002906
- Fernandez-Anez N., Krasovskiy A., Müller M., Vacik H., Baetens J., Hukić E., Kapovic Solomun M. et al. Current Wildland Fire Patterns and Challenges in Europe: A Synthesis of National Perspectives // Air, Soil and Water Research. 2021. V. 14. https://doi.org/10.1177/11786221211028185
- Fontúrbel M.T., Barreiro A., Vega J.A., Martín A., Jiménez E., Carballas T., Fernández C., Díaz-Raviña M. Effects of an experimental fire and post-fire stabilization treatments on soil microbial communities // Geoderma. 2012. V. 191. P. 51–60. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2012.01.037
- Francos M., Ubeda X., Pereira P., Alcañiz M. Long-term impact of wildfire on soils exposed to different fire severities. A case study in Cadiretes Massif (NE Iberian Peninsula) // Sci. Total Environ. 2017. V. 615(1). P. 664–671. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.311
- Fultz L.M., Moore-Kucera J., Dathe J., Davinic M., Perry G., Wester D., Schwilk D.W., Rideout-Hanzak S. Forest wildfire and grassland prescribed fire effects on soil biogeochemical processes and microbial communities: Two case studies in the semi-arid Southwest // Appl. Soil Ecol. 2016. V. 99. P. 118–128. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2015.10.023
- Galaktionova L.V., Vasilchenko A.V. Sustainability of soils to fires as a factor of preservation the shape of steppe protected areas // Nature Conservation Research. Заповедная наука. 2019. V. 4 (Suppl. 2). P. 98–103. https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2019.041
- Granged A.J.P., Zavala L.M., Jordán A., Bárcenas-Moreno G. Post-fire evolution of soil properties and vegetation cover in a Mediterranean heathland after experimental burning: a 3-year study // Geoderma. 2011. V. 164. P. 85–94. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2011.05.017
- Gregorich E.G., Beare M.H., Stoklas U., St-Georges P. Biodegradability of soluble organic matter in maize-cropped soils // Geoderma. 2003. V. 113. P. 237–252. https://doi.org/10.1016/S0016-7061(02)00363-4
- Grishin A.M., Filkov A.I., Loboda E.L., Kuznetsov V.T., Kasymov D.P., Andreyuk S.M., Ivanov A.I., Stolyarchuk N.D., Reyno V.V., Kozlov A.V. A field experiment on grass fire effects on wooden constructions and peat layer ignition // Int. J. Wildland Fire. 2014. V. 23. № 3. P. 445–449. https://doi.org/10.1071/WF12069
- Hrelja I., Šestak I., Delač D., Pereira P., Bogunović I. Soil Chemical properties and trace elements after wildfire in Mediterranean Croatia: effect of severity, vegetation type and time-since-fire // Agronomy. 2022. V. 12(7). P. 1515. https://doi.org/10.3390/agronomy12071515
- Jillavenkatesa A., Dapkunas S.J., Lum L.-S.H. Particle size characterization. Vashington: US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2001. 164 p.
- Loboda E., Kasymov D., Agafontsev M., Tarakanova V., Martynov P., Loboda Y., Orlov K., Savin K., Dutov A., Reyno V., Gordeev Y. Effect of small-scale wildfires on the air parameters near the burning centers // Atmosphere. 2021. V. 12. № 1. P. 75. https://doi.org/10.3390/atmos12010075
- Muñoz-Rojas M., Erickson T.E., Martini D., Dixon K.W., Merritt D.J. Soil physicochemical and microbiological indicators of short, medium and long term post-fire recovery in semi-arid ecosystems // Ecol. Indic. 2016. V. 63. P. 14–22. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.11.038
- Nghalipo E., Joubert D., Throop H., Groengroeft A. The effect of fire history on soil nutrients and soil organic carbon in a semi-arid savanna woodland, central Namibia // African J. Range Forage Sci. 2019. V. 36. № 1. P. 9–16. https://doi.org/10.2989/10220119.2018.1526825
- Peel M.C., Finlayson B.L., McMahon T.A. Updated World Map of the Köppen-Geiger Climate Classification // Hydrology and Earth System Sciences. 2007. V. 11. № 5. P. 1633–1644. https://doi.org/10.5194/hess-11-1633-2007
- Pereira P., Francos M., Ubeda X. Brevik E.C. Fire impacts in European grassland ecosystems // Wildfires: Perspectives, Issues and Challenges of the 21st Century. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, 2017. P. 1–28.
- Semenkov I.N., Koroleva T.V., Karpachesky A.M., Lednev S.A., Sharapova A.V. Short-term changes in chemical properties of topsoil (0–10 cm) after low-intensity fires caused by landings of first stages of space rockets Proton-M in Central Kazakhstan // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. V. 862. P. 012109. https://doi.org/10.1088/1755-1315/862/1/012109
- Semenkov I.N., Yakushev A.I. Dataset on heavy metal content in background soils of the three gully catchments at Western Siberia // Data in Brief. 2019. V. 26. P. 104496. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104496
- Snyman H.A. Fire and the dynamics of a semi-arid grassland: Influence on soil characteristics African J. Range Forage Sci. 2002. V. 19. P. 137–45. https://doi.org/10.2989/10220110209485786
- Valkó O., Deák B. Increasing the potential of prescribed burning for the biodiversity conservation of European grasslands // Current Opinion in Environmental Science Health. 2021. V. 22. P. 100268. https://doi.org/10.1016/j.coesh.2021.100268
- Valkó O., Deák B., Magura T., Török P., Kelemen A., Tóth K., Horváth R., Nagy D.D., Debnár Z., Zsigrai G., Kapocsi I., Tóthmérész B. Supporting biodiversity by prescribed burning in grasslands — A multi-taxa approach // Sci. Total Environ. 2016. V. 572. P. 1377–1384. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.01.184
- Wittenberg L., Pereira P. Fire and soils: Measurements, modelling, management and challenges // Sci. Total Environ. 2021. V. 776. P. 145964. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145964
Дополнительные файлы