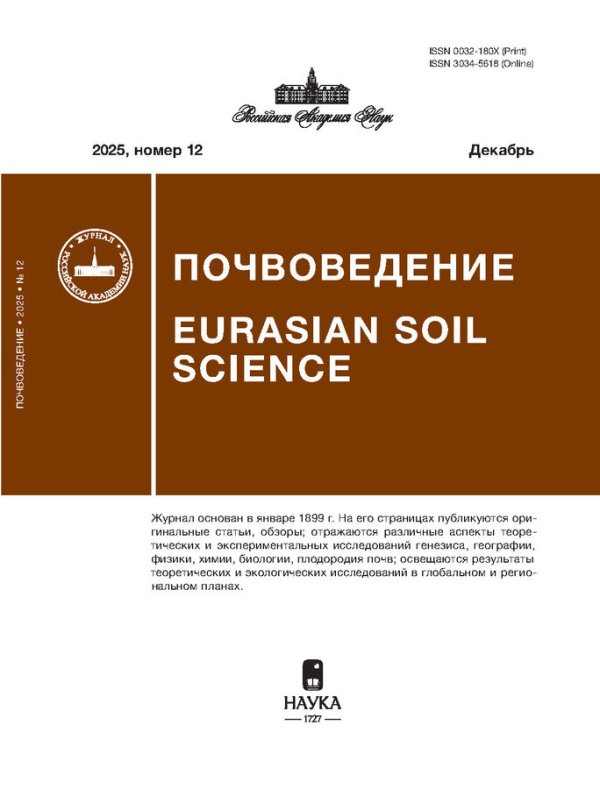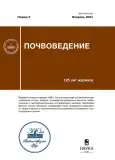Структурно-функциональное состояние микробных сообществ древних солоидов археологических памятников Черноморского побережья России
- Авторы: Рогожина Е.В.1, Захарихина Л.В.1, Кизилов А.С.1, Горленко М.В.2
-
Учреждения:
- Субтропический научный центр РАН
- МГУ им. М.В. Ломоносова
- Выпуск: № 2 (2024)
- Страницы: 303-314
- Раздел: БИОЛОГИЯ ПОЧВ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0032-180X/article/view/261912
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0032180X24020083
- EDN: https://elibrary.ru/XYGFXK
- ID: 261912
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Проведена комплексная оценка структурно-функционального состояния микробных сообществ разновременных погребенных древних солоидов (почвоподобное образование, похожее на почву, но не имеющее генетически сформировавшихся горизонтов) в открытых археологических шурфах мест стоянок древнего человека, расположенных в среднем течении р. Мзымта Сочинского черноморского побережья в гроте Ахцу и Ахштырской пещере. Отмечены изменения функционального биоразнообразия древних солоидов по сравнению с фоном (аллювиальные почвы, формирующиеся в непосредственной близости к исследуемым солоидам и имеющие сходные с ними мезоморфологические свойства): снижение удельной метаболической активности микробных сообществ в 1.2 раза, исследованных методом мультисубстратного тестирования, и повышение нестабильности палеомикробных систем по индексу ранцгового распределения спектров потребления субстратов d > 1, что характерно для необратимо нарушенных систем. Микробное сообщество древних солоидов претерпело ряд изменений, связанных с антропогенной деятельностью. Анализ основного спектра поглощения субстратов показал, что микробное сообщество солоида грота Ахцу ориентировано на более интенсивное потребление спиртов и аминокислот. Это позволяет предположить поступление органического вещества животного происхождения в культурный слой стоянки древнего человека. В микробиоме солоида Ахштырской пещеры обнаружено присутствие лактотококков и бифидобактерий, крайне редко встречающихся в почве и развивающихся в условиях избытка углеводов на богатых сложных средах, например, ферментированном мясе, растительных остатках. В культурном слое пещерной стоянки обнаружено повышение содержания кератинолитических грибов, способных к разложению кератина волос, шерсти, перьев и т. д. Сравнительный анализ таксономической структуры прокариотного сообщества выявил, что для всех изученных почв и древних солоидов, независимо от палеоантропогенного воздействия, характерно доминирование представителей класса Thermoleophilia, семейств Gaiellaceae и Solirubrobacterales, способных развиваться только при положительных температурах, что предполагает благоприятный климат в период их формирования. Реликтовые почвы грота Ахцу могут являться источником бактерий (родов Janthinobacterium, Lysobacter, Chitinophaga), обладающих биотехнологическим потенциалом и полезными прикладными свойствами.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Археологическая микробиология – междисциплинарное направление, в рамках которого решается ряд задач из области экологии микробных сообществ, таких как изучение структуры микробных сообществ и их функциональной активности в зависимости от условий существования (климата более ранних исторических эпох) и степени антропогенного воздействия [6, 7, 18, 21].
Объектами исследований археологической микробиологии являются микробные комплексы погребенных древних почв разновременных археологических памятников: от мест стоянок первобытного человека эпохи неолита до поселений, курганов, могильников, земляных насыпных валов средневековья (IV тыс. до н. э. – XIV век н. э.). География объектов исследования очень широка и охватывает Италию, в том числе Сицилию [28, 32]; Россию – Северный Кавказ [30], степную зона Нижнего Поволжья [5, 24, 25], Среднерусскую возвышенность [31]; Северный Иран [26], Китай [34], Америку [22] и др.
Микробные сообщества палеопочв рассматривались с точки зрения потенциальных стратиграфических маркеров и индикаторов различных климатических условий, в которых формировались древние почвы [16, 26], в качестве экофактов (биоиндикаторов) различных видов антропогенной деятельности [28] и как природный банк генов, обладающий биотехнологическим потенциалом [12].
Одной из гипотез в области изучения микробиома почв является предположение, что наиболее долгосрочные изменения системы почва–микробиом могут быть оценены только в геологическом масштабе времени. Палеопочвы разных типов и возрастов сохраняют различия в структуре и разнообразии своих микробных сообществ в зависимости от климата и основных факторов почвообразования [23]. Сегодня исследования микробиома как универсального экологического индикатора, который позволяет выявить скрытые до последнего времени из-за некультивируемости почвенные микроорганизмы, получили особую популярность [1]. Методы, основанные на анализе тотальной ДНК и РНК, обладают большой информативностью, однако лишь опосредованно раскрывают экологические и хозяйственно-ценные функции почвенного микробиома [30]. Выделение консорциумов микроорганизмов, обладающих биотехнологическим потенциалом (способность к азотфиксации, гидролизу природных полимеров и ксенобиотиков, синтезу вторичных метаболитов) – важнейшая научная проблема современной микробиологии [12, 23].
Подобно артефактам, микробные комплексы являются ключевыми показателями потребительского поведения человечества в прошлом.
Использование микроорганизмов в качестве биоиндикаторов позволило не только диагностировать антропогенное воздействие на почвы, но и существенно дополняло описание культурных слоев зон деятельности в населенном пункте, уточняя их назначение [30]. Микробиологические характеристики значительно различались в пределах поселений и резко контрастировали с эталонными (современными) почвами за пределами археологических раскопок. Большое количеcтво органичеcкиx материалов (пищевые отxоды, бытовой муcор, экcкременты, мочевина), попавших в почву в древноcти, вызывали увеличение продуцирования почвенными микроорганизмами ферментов (фосфатазы, уреазы), выcокая активноcть которыx cоxраняется на протяжении 4000 лет [2, 6]. Степень антропогенного воздействия определяли по биомассе грибного мицелия и доле гиф темного цвета, а также по количеству кератинофильных грибов [2, 25, 27, 30].
Горные районы играли значительную роль в заселении первобытным человеком евразийского континента в плейстоцене. Представляет интерес реконструкция климатических условий погребения почв стоянок Карахач, Мурадово и Агкворик (Эни-эль) (Армянское нагорье, Малый Кавказ) [9]. Пещеры и гроты, расположенные по берегам горных рек Сочинского Причерноморья, также являлись постоянным или временным местом стоянок древнего человека, о чем свидетельствовали археологические находки (орудия труда, кости животных) [10, 11]. Захоронение артефактов и сохранение их до нашего времени происходило одновременно с образованием почвоподобных тел (солоидов) в пространстве, ограниченном пещерой [19].
В настоящей работе представлен комплексный подход к изучению структурно-функциональных особенностей микробных сообществ древних солоидов, который перспективен для подтверждения значимости антропогенеза в эволюции почв, выделения биоиндикаторов, подтверждающих палеолитическую деятельность человека, маркеров в составе микробиома, позволяющих проводить ретроспективную оценку климата.
Подобных примеров исследования древних солоидов в местах обитания первобытного человека комплексом структурных (микробиом) и функциональных (мультисубстратное тестирование) биологических показателей, в литературе не представлено.
Цель работы – изучение структурно-функционального состояния микробных сообществ древних солоидов стоянок древнего человека в горных районах черноморского побережья России.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Образцы солоидов двух археологических памятников, расположенных на правобережной горной террасе р. Мзымта (Сочинское черноморское побережье Кавказа, зона влажных субтропиков), отбирали в открытых шурфах, заложенных при археологических изысканиях. Возраст органо-минеральных горизонтов солоидов устанавливали радиоуглеродным методом: в гроте Ахцу по костям древних животных (8.3 тыс. лет) [10], в Ахштырской пещере по углистой линзе (возраст 24.5 тыс. лет) [11]. Исследуемые солоиды [4], или почвоподобные образования, отвечали всем признакам, предложенным для их диагностики. Горизонты представляли собой рыхлый тонкодисперсный органо-минеральный материал с (микро)горизонтальной стратификацией in situ. Одновременно на тех же склонах долины реки отобрали современные аналоги – аллювиальные серогумусовые почвы под низкотравной растительностью [8]. Оба объекта – грот Ахцу и Ахштырская пещера – связаны с деятельностью древнего человека. Подтверждением этому являлись найденные археологами в гроте Ахцу артефакты – фрагменты кремниевых изделий каменного века, а также кости животных местной фауны (птиц, рыб, лисы, куницы, дикого барана, дикого козла, благородного оленя и бурого медведя) [10]. Стоянка первобытного человека в Ахштырской пещере была открыта в 1936 г. С.Н. Замятиным и хорошо изучена в ходе археологических экспедиций [11]. В Ахштырской пещере были обнаружены кости пещерного медведя – доисторического вида (Ursus spelaeus) (подвид бурого медведя), жившего в среднем и позднем плейстоцене и вымершего примерно 15000 л. н. В настоящее время Ахштырская пещера представляет собой археологический памятник, открытый для посещения туристов. Образец солоида Ахштырской пещеры отобрали с зачищенной стенки археологического раскопа, расположенного в 20 м от входа в пещеру. Безусловно, фактор открытости объекта накладывает отпечаток на его микробное сообщество. Однако по сравнению с фоновыми почвами существенное погребение солоида материалом пещеры позволяет, с известной долей вероятности, оценить данное микробное сообщество как образованное в давнюю эпоху. Влажность образцов соответствовала воздушно-сухому состоянию почвы (8%).
Нижняя часть археологического разреза пещеры на глубине 2–2.5 м представлена минеральными горизонтами от галечникового материала до горизонтов суглинков и глин красноземного типа (далее горизонт Bm), отложившихся здесь в плейстоцене в результате аллювиальных процессов. Горизонт Bm, возраст которого датирован 300 тыс. лет до н. э. [11], был увлажнен (28%) в результате близкого расположения подземных вод. Подобные раннеплейстоценовые почвообразующие горизонты морфологически представлены в раскопах и карьерах палеообъектов Малого Кавказа (Северная Армения, Армянское нагорье, стоянка Карахач, 1.9–1.75 млн лет л. н.) красновато-бурыми суглинистыми горизонтами, сформированными на галечниках [9]. Почвоподобный древний минеральный горизонт Bm Ахштырской пещеры также погребен слоем пещерных отложений раздробленной известняковой породы.
В гроте Ахцу солоид погребен плотной сцементированной в результате гидротермальных процессов известняковой породой, являющейся продуктом разрушения стен и потолка грота. Влажность образцов солоида грота близка к влажности современной почвы (18 и 24% соответственно). Вероятно, это связано с гидроморфными условиями генезиса погребенного солоида, сформированного в пойменных условиях или близких к ним.
Горный рельеф предполагает микрозональность геоклиматических условий. Солоиды двух исследуемых археологических памятников не только принадлежат к разным эпохам, но и формировались в несколько различных гидроморфных условиях. Грот Ахцу (43°56ʹ N, 39°99ʹ E) расположен в 20 км от береговой линии моря примерно в 70 м от уреза р. Мзымта, абсолютная высота составляет 133 м над ур. м., высота над уровнем реки 12 м. Ахштырская пещера (43°53ʹ N, 39°99ʹ E) – расположена ниже по течению от грота, в 15 км от береговой линии моря в скальных выходах в 120 м выше от уреза реки. Устья грота Ахцу и Ахштырской пещеры имеют разную удаленность от открытых поверхностей террас. Устье грота расположено существенно ближе к поверхности невысокой надпойменной террасы реки на низкой гипсометрической отметке. С большой долей вероятности можно предположить, что солоид грота формировался в более гидроморфных условиях и испытывал в большей степени влияние пойменных процессов, чем солоид пещеры.
Химический состав солоидов и почв, влажность образцов и глубина отбора представлены в табл. 1. Солоид грота и отобранные вблизи фоновые почвы значительно менее богаты подвижными формами фосфора и калия, по сравнению с солоидом пещеры и современными почвами ее окрестностей.
Таблица 1. Химические свойства древних солоидов и современных почв фона
Показатель | Грот Ахцу | Грот Ахцу (фон) | Ахштырская пещера | Ахштырская пещера, гор. Bm | Ахштырская пещера (фон) |
глубина, см | |||||
12–30 | 5–20 | 20–37 | 250 | 5–20 | |
рН H₂O | 7.60±0.15 | 7.60±0.09 | 7.40±0.13 | 7.12±0.12 | 7.12±0.16 |
рН КCl | 6.95±0.14 | 6.9±0.11 | 6.97±0.08 | 6.38±0.09 | 6.38±0.13 |
Гумус, % | 3.85±0.28 | 5.04±0.32 | 3.21±0.25 | 2.45±0.54 | 4.99±0.93 |
K₂O (по Масловой), мг/кг | 209±17 | 757±115 | 5636±732 | 3352±369 | 398±48 |
P₂O₅(по Олсену), мг/кг | 219±31 | 69±10 | 1375±96 | 1021±92 | 988±119 |
Ca2+, смоль(экв)/кг | 31.37±7.9 | 47.59±3.8 | 25.20±2.8 | 28.94±3.3 | 56.54±5.9 |
Mg2+, смоль(экв)/кг | 2.49±0.09 | 3.08±0.1 | 5.0±0.4 | 5.83±0.5 | 2.95±0.3 |
Сумма | 33.86 | 50.67 | 30.20 | 34.77 | 59.49 |
Гидролитическая кислотность, смоль(экв)/кг | 0.46±0.09 | 0.70±0.08 | 0.46±0.07 | 0.47±0.07 | 0.71±0.09 |
Влажность, % | 18 | 24 | 8 | 28 | 21 |
Образцы древних солоидов и фоновых почв для микробиологического анализа доставляли в лабораторию в стерильных полиэтиленовых пакетах, освобождали от мелких камней, корней и растительных остатков и хранили в холодильнике при температуре 4°C и естественной влажности от нескольких суток до недели. Для химического анализа образцы отбирали в полотняные мешочки, и после высушивания до воздушно-сухого состояния (при 22°C), измельчали и просеивали (сито с диаметром ячеек 1 мм). Образцы для молекулярно-генетического анализа отбирали с помощью стерильных перчаток и ножа, затем помещали в стерильные пластиковые пробирки с герметичной крышкой, которые замораживали в морозильной камере при температуре –20°C и через несколько дней доставляли в лабораторию Междисциплинарного центра коллективного пользования Казанского (Приволжского) федерального университета для дальнейших исследований.
Химические показатели определяли по общепринятым стандартным методикам [14]: pHKCl – потенциометрически (ионометр рН-121), гумус – по Тюрину в модификации Орлова и Гриндель, фосфор подвижный – по Олсену (прибор УСФ 01), калий обменный – по Масловой со спектрометрическим окончанием (прибор Квант-Афа), содержание обменных форм Ca²⁺ и Mg²⁺
– трилонометрическим методом в солевой NaCl вытяжке, гидролитическую кислотность по Каппену, влажность – весовым методом.
Функциональное биоразнообразие. Потенциальную метаболическую активность и функциональное разнообразие прокариотных микробных комплексов оценивали методом мультисубстратного тестирования [3]. В лунки планшета для иммуноферментного анализа вносили набор из 47 тест-субстратов в двух повторностях и минеральные соли, затем добавляли суспензии образцов и индикатор потребления субстратов (трифенилтетразолия бромид). Планшеты инкубировали в термостате при +28°C в течение 72 ч, фотометрически считывали оптическую плотность растворов в ячейках при длине волны 510 нм и на основании полученных данных с помощью программного обеспечения Эко+Лог© вычисляли массив коэффициентов функционального биоразнообразия исследуемого микробного сообщества, являющихся характеристическими признаками его состояния [13].
ДНК-метабаркодинг. Прокариотную ДНК анализировали с помощью количественной ПЦР и секвенирования ампликонов гена 16S рРНК. Подготовку библиотек для Illumina MiSeq осуществляли согласно протоколу Preparing 16S Ribosomal RNA Gene Amplicons for the Illumina MiSeq System. Для проведения первого раунда ПЦР готовили смесь, содержащую 2.5 мкл ДНК, 12.5 мкл 2 × KAPA HiFi HotStart ReadyMix и праймеры (прямой – TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGGNGGCWGCAG, обратный – GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACHVGGGTATCTAATCC). Амплификацию проводили согласно режиму: 1) 95°C в течение 3 мин, 2) 25 циклов: 95°C в течение 30 с, 55°C – 30 с, 72°C – 30 с, 72°C – 5 мин, удержание при 4°C. Далее ПЦР-продукты очищали с помощью магнитных частиц AMPure XP согласно протоколу. Производили маркировку ДНК индексами согласно протоколу Preparing 16S Ribosomal RNA Gene Amplicons for the Illumina MiSeq System. Для проведения полимеразной цепной реакции (второй раунд ПЦР) помещали пробирку в термоциклер и загружали необходимую программу: 1) 95°C в течение 3 мин (лигирование индексов), 2) 8 циклов: 95°C в течение 30 с, 55°C – 30 с, 72°C – 30 с, 72°C – 5 мин, удержание при 4°C. Повторную очистку проводили согласно протоколу Preparing 16S Ribosomal RNA Gene Amplicons for the Illumina MiSeq System. Смешивали все образцы в эквимолярных концентрациях и производили качественную и количественную проверку библиотек. Качественную проверку библиотек проводили на чипе Bioanalyzer DNA 1000 Chip, количественную – на Qubit. Секвенирование выполняли на платформе Illumina MiSeq (США) (режим парного чтения 300 пар нуклеотидов). При обработке данных секвенирования использовали алгоритм классификации операционных таксономических единиц (ОТЕ) с открытым референсом (Open-reference OTU), порог классификации 97% сходства, что обычно соответствует виду. На основе результатов анализа представленности OTE в пробах рассчитывали индексы биоразнообразия Шеннона (Shannon, H), Chao1 (оценка реального числа ОТЕ в микробиоме), Симпсона (Simpson, S):
,
где pi – доля i-го вида в сообществе;
где Sest – оцениваемое число ОТЕ, Sobs – наблюдаемое число ОТЕ, a – число ОТЕ, выявленных один раз, b – число ОТЕ, выявленных ровно 2 раза;
,
где ni – оценка значимости каждого вида (численность i-го вида), N – сумма оценок значимостей, число видов.
Таким образом, исследования представляли собой комплексную оценку микробных сообществ с применением метода оценки функционального состояния прокариотного микробного сообщества (мультисубстратное тестирование (МСТ)) и молекулярно-генетического анализа (ДНК-метабаркодинг), позволяющего оценить таксономическую структуру и видовое разнообразие сообщества, включая некультивируемые формы бактерий. Для выделения кератинолитических (кератинофильных) грибов из почвы применяли метод приманок [15].
Статистическую обработку данных проводили с использованием программ Statistica 8.0, Microsoft Office Excel 2007 и Эко+Лог©.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Параметры функционального биоразнообразия почв. В результате исследований погребенных почвоподобных образований (солоидов) разных исторических эпох Сочинского побережья было установлено снижение функциональной активности микроорганизмов относительно фона (современные почвы) в результате диагенеза (старения почв), влияния условий формирования и захоронения. Снижение активности микробных сообществ грота и пещеры в результате трансформации во времени подтверждалось уменьшением значений удельной метаболической работы (W) в 1.2 раза относительно фона. W – важный функциональный показатель, характеризующий общую метаболическую активность прокариотного микробного сообщества (метод мультисубстратного тестирования) (табл. 2).
Таблица 2. Изменение параметров функционального разнообразия микробного сообщества разновозрастных солоидов и современных почв
Параметр | Грот Ахцу (8.3 тыс. л.н.) | Грот Ахцу (фон) | Ахштырская пещера (24.5 тыс. л.н.) | Ахштырская пещера, гор. Bm (300 тыс. л.н.) | Ахштырская пещера (фон) |
Коэффициент рангового распределения спектров потребления субстратов, d | 1.41 | 0.83 | 1.41 | 0.65 | 0.88 |
Количество потребляемых субстратов, N | 27 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Удельная метаболическая работа, W | 1131 | 1392 | 1748 | 2400 | 2015 |
Количество потребляемых субстратов (N) было снижено в гроте в 1.4 раза и близко к фоновым значениям в пещере. Микробное сообщество более древних солоидов пещеры в большей степени сохранило свой исходный функциональный образ. Кластерный анализ интенсивности поглощения субстратов микроорганизмами демонстрировал функциональное сходство микробного сообщества в пещере и фоновых почвах (рис. 1).
Рис. 1. Кластеризация древних солоидов и современной фоновой почвы по интенсивности потребления основного спектра субстратов (метод МСТ).
В минеральном горизонте Bm пещеры значение W было в 1.2 раза выше, по сравнению с фоном (табл. 2). Здесь отмечено бóльшее потребление основного спектра субстратов (рис. 2), что подразумевает высокую потенциальную метаболическую активность микробного сообщества минерального горизонта Bm, сформированного около 300 тыс. л. н.
Рис. 2. Интенсивность поглощения субстратов древних солоидов и современной фоновой почвы в относительных единицах.
В древнем солоиде грота, при небольшом, относительно фона, снижении потребления пентоз и олигосахаридов и более значительном – органических кислот и полимеров, отмечено резкое увеличение потребления спиртов и аминокислот. Можно предположить, что в почвы культурного слоя стоянки древнего человека поступало органическое вещество животного происхождения.
Древние солоиды грота и пещеры имеют равные значения коэффициента d = 1.41, что подразумевает нестабильное состояние захороненных прокариотных микробных сообществ (значения индекса d > 1 характерны для необратимо нарушенных систем). Эти системы также показывают снижение количества потребленных субстратов N и метаболической работы W.
Значение коэффициента d в древнем минеральном горизонте Bm пещеры составляло 0.6, что характеризует микробное сообщество как стабилизированное, что обусловлено оптимальным увлажнением подземными водами (28%).
Анализ прокариотной ДНК. В исследованиях, опубликованных ранее [33], по результатам секвенирования последовательностей гена 16S рРНК, впервые был представлен сравнительный анализ видового разнообразия бактериального комплекса солоидов изучаемых археологических памятников и современных аллювиальных почв. В древних солоидах грота и пещеры показано снижение содержания бактериальной ДНК и видового разнообразия, а именно – уменьшение значений ОТЕ, индекса Чао 1, индекса Шеннона по сравнению с фоном (табл. 3). Кластеризация результатов секвенирования позволила наблюдать наибольшее генетическое сходство микробиомов древнего солоида, сформированного у входа в грот Ахцу 8.3 тыс. л. н. и современных фоновых почв грота и пещеры (рис. 3), что подтверждает их общий генезис. Микробиомы солоида Ахштырской пещеры 24.5 тыс. лет и особенно минерального горизонта красноземного типа, сформировавшегося в пещере в период плейстоцена 300 тыс. л. н. значительно отличались от фона.
Рис. 3. Кластеризация древних солоидов и современной фоновой почвы по результатам секвенирования последовательностей гена 16S рРНК.
Анализ таксономического состава доминантных групп домена Bacteria (филумов и видов, доля которых от общей ДНК составляет >1%) в образцах всех изученных почв подтверждал результаты кластерного анализа. В солоиде грота и фоновой почве было определено по 27 доминантных видов, 6 из которых совпадали. Преобладали представители филумов Proteobacteria и Actinobacteria, Chloroflexi, Nitrospirae, Firmicutes, Bacteroidetes, Gemmatimonadetes (табл. S1). Все перечисленные филумы являлись доминантными в составе прокариотного сообщества (7 филумов из 37). Соотношение двух доминантных филумов Actinobacteria/Proteobacteria в солоиде грота имело сходные значения с фоновыми почвами (2.3 и 2.8 соответственно). В солоиде пещеры и его минеральном горизонте Bm значение этого соотношения значительно увеличивается (в 9 и 21 раз соответственно) за счет увеличения доли представителей филума Actinobacteria и снижения доли видов филума Proteobacteria (рис. 4-II). Было предложено использовать соотношение филумов Actinobacteria/Proteobacteria в качестве диагностического показателя, указывающего как на степень минерализации органического вещества в результате диагенеза, так и на условия формирования почв [33]. Структурные различия микробиомов изученных древних солоидов и современных почв проявлялись и в доминировании видов. Интерес представляли виды, содержание которых в погребенном солоиде пещеры значительно различалось (более чем на 5%) по сравнению с фоном. К таким видам относились представители филума Actinobacteria семейство Pseudonocardiaceae и семейства Nocardioidaceae, содержание которых в солоиде пещеры было на 5–22% выше. Актиномицеты семейств Pseudonocardiaceae и Nocardioidacea характеризуются способностью использовать в качестве субстратов сложные органические вещества, кроме того, они засухоустойчивы, что и определило их существенное доминирование в солоиде пещеры. Обнаруженные структурные различия микробиома пещерного солоида по сравнению с фоном обусловлены, в первую очередь, процессом диагенеза, а также более закрытыми условиями его формирования, ограничивающими поступление свежего растительного субстрата и влаги.
Поскольку солоид пещеры содержал культурный слой стоянки, его микробное сообщество претерпело ряд изменений, связанных с антропогенной деятельностью. В микробиоме Ахштырской пещеры было обнаружено присутствие лактотококков и бифидобактерий, встречающихся в условиях избытка углеводов на богатых сложных средах, пищевых продуктах, например, ферментированном мясе, субстратах растительного происхождения [35]. Одной из особенностей культурных слоев древнего солоида Ахштырской пещеры являлась повышенная плотность кератинолитических (кератинофильных) грибов, выделенных методом приманок на детском волосе (кератинсодержащем субстрате) (рис. 5), что может подтверждать использование пещеры в качестве жилья древним человеком и временного хранения там животных, добытых человеком при охоте [2].
Таблица 3. Показатели таксономического богатства и индексы биоразнообразия солоидов голоцена (грот Ахцу), плейстоцена (Ахштырская пещера) и фоновых почв
Показатель | Грот Ахцу, 8.3 тыс. л.н. | Грот Ахцу (фон) | Ахштырская пещера, 25 тыс. л.н. | Ахштырская пещера, гор. Bm 300 тыс. л.н. | Ахштырская пещера, (фон) |
Видовое богатство, ОТЕ | 1732 | 2685 | 905 | 352 | 2555 |
Chao 1 | 1940 | 2944 | 977 | 421 | 2978 |
Shannon, Н | 8.8 | 9.9 | 6.7 | 3.5 | 9.4 |
Simpson, S | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.81 | 0.99 |
Микробиом солоида грота, имея сходную с фоновыми почвами таксономическую структуру (рис. 4-IV, 4-V) и незначительно более низкие, по сравнению с фоном, показатели видового разнообразия прокариотного сообщества (ОТЕ меньше в 1.6 раза, а индекс Шеннона – в 1.2 раза (табл. 4)), обладал минимальными показателями метаболической активности, выявленными с помощью метода МСТ.
Результаты секвенирования показали богатую метаболическую историю микробиома солоида грота, сформированного как культурный слой стоянки древних охотников. Вероятно, что там были накоплены сложные и богатые субстраты в результате человеческой деятельности, на которых развивалось микробное сообщество с доминированием видов r-стратегов. С помощью анализа матрицы непараметрических корреляций было выявлено около 100 видов бактерий, в наибольшей степени влияющих на формирование солоида грота (коэффициенты Спирмена от 0.73 до 1.0) (табл. S2). Некоторые виды потенциально могут быть связаны с деятельностью человека, например, представители филума Chlamydiae семейства Parachlamydiaceae и филума Firmicutes класса Clostridia семейства Lachnospiraceae рода Blautia. Известно, что род Blautia – анаэробные бактерии с пробиотическими характеристиками, широко встречающийся в фекалиях и кишечнике млекопитающих [36]. Следовательно, имеем дело с законсервированным ДНК, поэтому необходимо с осторожностью относиться к результатам молекулярно-генетического анализа, так как они показывают прошлое экосистемы, а не настоящий метаболический статус. Cегодня микробное сообщество солоида грота не обладает прежней активностью. Низкий метаболический статус обусловлен не только древностью солоида, но и условиями захоронения. Переувлажнение, возможно, являлось основным фактором, влияющим на активность бактерий-аэробов. Можно предположить, что периодическое затопление грота приводило к реакции микроорганизмов на стресс и переходу в неактивное, анабиозное состояние.
Рис. 4. Филогенетическая карта структуры бактериальной компоненты (%) (по данным секвенирования ампликонов гена 16S рРНК) в образцах солоидов археологических памятников и современных естественных ценозов.
Анализ таксономической структуры микробиома минерального горизонта Bm пещеры показал, что ДНК на 96.5% было представлено бактериями филума Actinobacteria, 1.5% – филума Proteobacteria, 0.9% – Chloroflexi (рис. 4-III). При этом было выявлено 5 доминантных видов бактерий, а в числе минорных компонентов бактериального сообщества присутствовали представители термофильных бактерий класса Thermoleophilia, семейств Gaiellaceae (0.1%) и Solirubrobacterales (0.4%). Отмечено снижение всех показателей видового разнообразия: число ОТЕ в микробиоме горизонта Bm ниже в 7.3 раза, индекс Шеннона – в 2.8 раза по сравнению с фоном. Вместе с тем именно микробное сообщество минерального горизонта солоида пещеры характеризовалось наибольшими значениями показателей функционального биоразнообразия (W, N) и более высокой интенсивностью поглощения субстратов по сравнению фоновыми почвами. Таким образом, снижение видового разнообразия микробиома не сопровождалось уменьшением метаболической активности, при этом увлажнение древнего горизонта Bm имело здесь основное значение.
Присутствие в древних солоидах и современных фоновых почвах видов (филум Actinobacteria, класс Thermoleophilia), относящиеся к специфической группе микроорганизмов, обладающих чувствительностью к температурному фактору (мезо- и термофилы), позволило предположить благоприятные климатические условия в периоды их формирования. В ранее опубликованной работе [33] показана возможность применения видов класса Thermoleophilia, семейства Gaiellaceae в качестве хроноиндикаторов аллювиальных почв субтропической зоны, доля ДНК которых снижается пропорционально возрасту почв (рис. 4-II, 4-V).
Биотехнологический потенциал солоидов. Большой интерес представляли доминантные виды, известные в биотехнологии, как продуценты биологически активных веществ: антибиотиков, ферментов, веществ, обладающих противовирусной активностью и др. Так, в микробиоме древнего солоида грота доминировали представители рода Janthinobacterium (1.5%) известные своими бактерицидными, фунгицидными и вироцидными свойствами благодаря высокому содержанию виолацеина в клетках [29], рода Lysobacter (1.2%) – продуцентов антибиотиков, гидролитических ферментов, летучих веществ и органических веществ, участвующих в индукции механизмов защиты растений [17], рода Mycoplana (1.07%), способных осуществлять активный гидролиз гербицидов в составе микробных консорциумов [20] (рис. 4-V).
Представители рода Chitinophaga (0.1%) известны как продуценты нового антибиотика фальцитидина, обладающего активностью в отношении малярии [12]. Присутствие этих микроорганизмов в солоидах и почвах малярийной зоны выглядело вполне естественно.
Рис. 5. Кератинофильные грибы солоидов Ахштырской пещеры на волосе современного человека, используемого в качестве приманки.
Можно предположить, что реликтовые солоиды Сочинского черноморского побережья являются источником бактерий с прикладными свойствами, а значит, обладают биотехнологическим потенциалом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опробован и представлен комплексный методологический подход в изучении структурно-функционального состояния микробных сообществ разновозрастных солоидов аллювиального типа, сформированных в условиях горного рельефа влажно-субтропической зоны черноморского побережья.
Комплексная оценка древних солоидов позволила прогнозировать благоприятные условия климата, в которых формировались почвы периодов плейстоцена и голоцена (грот Ахцу 8.3 тыс л. н., Ахштырская пещера 24.5 тыс. л. н.), подтвердить присутствие древнего человека, основной деятельностью которого являлась охота, а также выделить увлажнение как наиболее важный фактор, влияющий на процесс диагенеза (старения) почв.
Показана возможность применения видов класса Thermoleophilia, семейства Gaiellaceae, доля ДНК которых снижается пропорционально возрасту почв, в качестве хроноиндикаторов аллювиальных почв субтропической зоны.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Публикация подготовлена в рамках реализации государственного задания ФИЦ СНЦ РАН FGRW-2024-0004 №1022040700994-8-1.5.4;1.5.5;1.5.8;1.5.10
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии у них конфликта интересов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Онлайн версия содержит дополнительные материалы, доступные по адресу https://doi.org/10.31857/S0032180X24020083
Об авторах
Е. В. Рогожина
Субтропический научный центр РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: RogojinaEW@yandex.ru
Россия, ул. Яна Фабрициуса, 2/28, Краснодарский край,
Сочи, 354002
Л. В. Захарихина
Субтропический научный центр РАН
Email: rogojinaew@yandex.ru
Россия, ул. Яна Фабрициуса, 2/28, Краснодарский край, Сочи, 354002
А. С. Кизилов
Субтропический научный центр РАН
Email: rogojinaew@yandex.ru
Россия, ул. Яна Фабрициуса, 2/28, Краснодарский край, Сочи, 354002
М. В. Горленко
МГУ им. М.В. Ломоносова
Email: rogojinaew@yandex.ru
Россия, Ленинские горы, 1, Москва, 119991
Список литературы
- Андронов Е.Е., Иванова Е.А., Першина Е.В., Орлова О.В., Круглов Ю.В., Белимов А.А., Тихонович И.А. Анализ показателей почвенного микробиома в процессах, связанных с почвообразованием, трансформацией органического вещества и тонкой регуляции вегетационных процессов // Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2015. Вып. 80. С. 83–94.
- Борисов А.В., Петерс С., Чернышева Е.В., Коробов Д.С., Рейнхольд С. Химические и микробиологические свойства культурных слоев поселений кобанской культуры (XIII IХ вв. до н. э.) в окрестностях г. Кисловодска // Вестник археологии, антропологии, этнографии. 2013. № 4 (23). С. 142–153.
- Горленко М.В., Кожевин П.А. Мультисубстратное тестирование природных микробных сообществ. М.: МАКС Пресс, 2005. 87 с.
- Горячкин С.В. География экстремальных почв и почвоподобных систем // Вестник РАН. 2022. T. 92. № 6. С. 564–571. https://doi.org/10.31857/S0869587322060056
- Демкина Т.С. Пространственно-временная динамика состояния микробных сообществ почв степей Волго-Донского междуречья // Аридные экосистемы. 2020. Т. 26. № 1(82). С. 76–83.
- Каширская Н.Н., Хомутова Т.Э., Кузнецова Т.В., Шишлина Н.И., Борисов А.В. Динамика химических и микробиологических свойств почв пустынно-степной зоны юго-востока русской равнины во второй половине голоцена (IV тыс. до н. э. – XIII в. н. э.) // Аридные экосистемы. 2018. Т. 24. № 1 (74). С. 52–61.
- Каширская Н.Н., Чернышева Е.В., Хомутова Т.Э., Дущанова К.С., Потапова А.В., Борисов А.В. Археологическая микробиология: теоретические основы, методы и результаты // Российская археология. 2021. № 2 C. 7–18. https://doi.org/10.31857/S086960630010975–1
- Классификация почв России. Смоленск: Ойкумена, 2008. 242 с.
- Ковалева Н.О., Столпникова Е.М. Вулканические почвенные толщи Малого Кавказа как архив раннеплейстоценовой палеоэкологической информации // Палеонтологический журнал. 2020. 54. С. 872–881.
- Кулаков С.А., Кизилов А.С., Дятлов А.С. Открытие нового памятника мезолита в Сочинском Причерноморье // Археологические открытия. 2015. Т. 2015. С. 233–234.
- Кулаков С.А., Кулькова М.А. Предварительная корреляция результатов стратиграфического и литолого-минералогического изучения отложений Ахштырской пещерной стоянки. Палеолит и мезолит Восточной Европы: М., 2011. С. 59–77.
- Манучарова Н.А., Чепцов В.С., Белов А.А., Воробьева Е.А., Зенова Г.М., Степанов А.Л. Почва как природный банк микробного разнообразия: новые подходы и актуальные аспекты // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. 2020. Т. 106. № 2. С. 88–100.
- Пат. № 2335543 C2 РФ, МПК C12Q 1/02. Способ мультисубстратного тестирования микробных сообществ и его применение.
- Практикум по агрохимии / Под ред. Минеева В.Г. М.: Изд-во МГУ, 2001. 687 с.
- Практикум по микробиологии / Под ред. Нетрусова А.И. М.: Издательский центр “Академия”, 2005. 608 с.
- Рябогина Н.Е., Якимов А.С. Палинологические и палеопочвенные исследования на археологических памятниках: анализ возможностей и методика работ // Вестник археологии, антропологии и этнографии (палеоэкология). 2010. № 2 (13). C. 186–200.
- Салливан Р.Ф., Холтман М.А., Зилстра Дж.Дж.Дж., Уайт Дж.Ф., Кобаяши Д.Ю. Таксономическое положение двух агентов биологической борьбы с болезнями растений как Лизобактер энзимогены основан на филогенетическом анализе 16S рДНК, составе жирных кислот и фенотипических характеристиках // Журнал прикладной микробиологии. 2003. № 94. C. 1079–1086.
- Таргульян В.О., Бронникова М.А. Память почв: теоретические основы концепции, современное состояние и перспективы развития // Почвоведение. 2019. № 3. С. 259–275. https://doi.org/10.1134/S0032180X19030110
- Турчинская С.М., Семиколенных А.А., Мазина С.Е., Зазовская Э.П. Изотопный состав углерода и азота компонентов подземных карстовых геосистем на примере экскурсионных пещер Предуралья и Кавказа // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2022. № 86(5). С. 715–730.https://doi.org/10.31857/S2587556622050132
- Хоробрых Р.Р., Галиулин Р.В., Галиулина Р.А., Башкин В.Н. Управление риском загрязнения водоисточников из почвы гербицидом 2.4-Д // Проблемы анализа риска. 2020. № 1. https://doi.org/10.32686/1812-5220-2020-17-1-24-29
- Чеpнышева Е.В., Боpиcов А.В., Коpобов Д.C. Биологичеcкая память почв и культуpныx cлоев аpxеологичеcкиx памятников. М.: ГЕОC, 2016. 245 с. https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1968437
- Brockman F.J., Kieft T.L., Fredrickson J.K., Bjornstad B.N., Li S.W., Spangenburg W., Long P.E. Microbiology of vadose zone paleosols in south-central Washington State // Microb. Ecol. 1992. V. 23. P. 279–301. https://doi.org/10.1007/BF00164101
- Chernov T.I., Kholodov V.A., Kogut B.M., Ivanov A.L. The Method of Microbiological Soil Investigations within the Framework of the Project “Microbiome of Russia” // Dokuchaev Soil Byulleten. 2017. V. 87. P. 100–113. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2017-87-100-113
- Chernov T.I., Zhelezova A.D., Kutovaya O.V. Makeev A.O., Tkhakakhova A.K., Bgazhba N.A., Kurbanova F.G., et al. Comparative Analysis of the Structure of Buried and Surface Soils by Analysis of Microbial DNA // Microbiology. 2018. V. 87. P. 833–841. https://doi.org/10.1134/S0026261718060073
- Demkina T.S., Khomutova T.E., Kashirskaya N.N., Stretovich I.V., Demkin V.A. Microbiological investigations of paleosols of archeological monuments in the steppe zone // Eurasian Soil Sc. 2010. V. 43. P. 194–201. https://doi.org/10.1134/S1064229310020092
- Frindte K., Lehndorff E., Vlaminck S, Werner K., Kehl M., Khormali F., Knief C. Evidence for signatures of ancient microbial life in paleosols // Sci Rep. 2020. V. 10. P. 16830. https://doi.org/10.1038/s41598–020–73938–9
- Marfenina O.E., Gorbatovskaya E.V., Gorlenko M.V. Mycological Characterization of the Occupation Deposits in Excavated Medieval Russian Settlements // Microbiology. 2001. V 70. P. 738–742. https://doi.org/10.1023/A:1013152202535
- Margesin R., Siles J.A., Cajtham T., Öhlinger B., Kistler E. Microbiology Meets Archaeology: Soil Microbial Communities Reveal Different Human Activities at Archaic Monte Iato (Sixth Century BC) // Microbial Ecology. 2017. V.73(4). P. 925–938. https://doi.org/10.1007/s00248–016–0904–8
- Pantanella F., Berlutt, F., Passariello C., Sarl, S., Morea C., Schippa S. Violacein and biofilm production in Janthinobacterium lividum // J. Applied Microbiology. 2007. V. 102(4). P. 992–999. https://doi.org/10.1111/j.1365–2672.2006.03155.x
- Peters S., Borisov A.V., Reinhold S., Korobov D.S., Thiemeyer H. Microbial characteristics of soils depending on the human impact on archaeological sites in the Northern Caucasus // Quaternary International. 2014. V. 324. P. 162–171. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2013.11.020.
- Semenov M.V., Chernov T.I., Zhelezova A.D., Nikitin D.A., Tkhakakhova A.K., Ivanova E.A., Xenofontova N.A. et al. Microbial Communities of Interglacial and Interstadial Paleosols of the Late Pleistocene // Eurasian Soil Sc. 2020. V. 53. P. 772–779. https://doi.org/10.1134/S1064229320060101
- Siles J.A., Öhlinger B., Cajthaml T., Kistler E., Margesin R. Characterization of soil bacterial, archaeal and fungal communities inhabiting archaeological human-impacted layers at Monte Iato settlement (Sicily, Italy) // Sci Rep. 2018. V. 8. P. 1903. https://doi.org/10.1038/s41598–018–20347–8
- Zakharikhina L.V., Rogozhina E.V., Kizilov A.S. Paleosols of archaeological sites in the sochi black sea coast //Nveo-Natural Volatiles Essential Oils Journal| Nveo. 2021. P. 8004–8036. https://www.nveo.org/index.php/journal/article/view/1668
- Zhao X.R, Wu H.-Y., Song X.-D., Yang S.-H., Dong Y., Yang J.-L., Zhang G.-L., et al. Intra-horizon differentiation of the bacterial community and its co-occurrence network in a typical Plinthic horizon // Science of The Total Environment. 2019. Т. 678. P. 692–701. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.305
- Felis G.E., Dellaglio F. Taxonomy of Lactobacilli and Bifidobacteria // Curr. Issues Intest. Microbiol. 2007. V. 8(2). P. 44–61. PMID: 17542335
- Liu X., Mao B., Gu J., Wu J., Cui S., Wang G., Zhao J., Zhang H., Chen W. Blautia-a new functional genus with potential probiotic properties? // Gut Microbes. 2021 V. 13. P. 1875796. https://doi.org/10.1080/19490976.2021.1875796
Дополнительные файлы