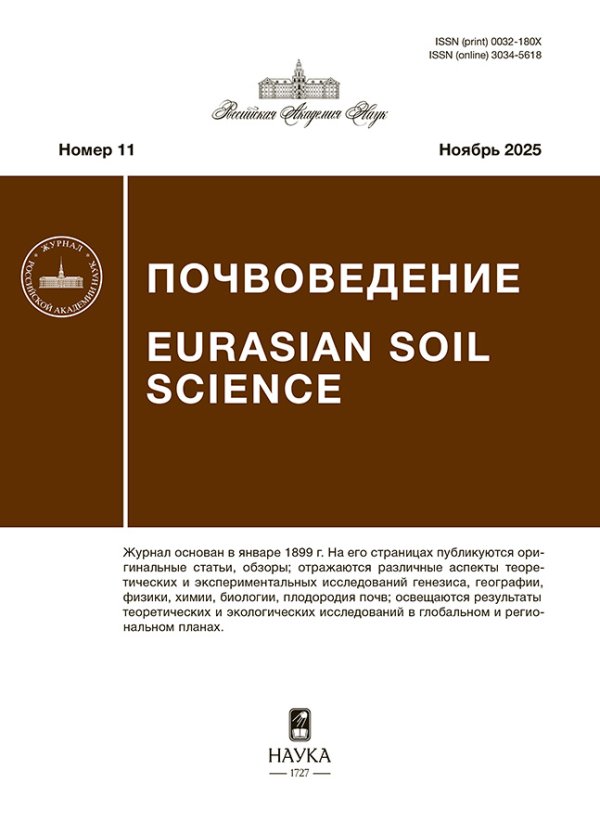Признаки почвообразования в раннем протерозое на материале из отложений Ливвия (Карелия)
- Авторы: Наугольных С.В.1
-
Учреждения:
- Геологический институт РАН
- Выпуск: № 1 (2024)
- Страницы: 27-36
- Раздел: ПАЛЕОПОЧВОВЕДЕНИЕ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0032-180X/article/view/259356
- DOI: https://doi.org/10.1134/S0032180X24010034
- EDN: https://elibrary.ru/ZLSEKN
- ID: 259356
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассмотрены ископаемые цианобактериальные пленки из нижнепротерозойских шунгитов (ливвий) Карелии, ранее описанные как условно-формальный вид Cyathotes nigoserica Makarikhin. Эти пленки были образованы бактериями и, возможно, грибами, существовавшими в условиях литорали или супралиторали (зоне захлеста волн). На адаптацию этих микроорганизмов к существованию в условиях временного (возможно, долговременного) осушения указывает развитие у них плотных покровов, препятствовавших высыханию тела организма. Это сообщество интенсивно воздействовало на минеральный субстрат, изменяя его структуру и обогащая биогенами и формируя, таким образом, архаичный почвенный микропрофиль. Признаками древнего почвообразования, обнаруженными в ходе исследований, можно считать преобразование текстуры поверхности минерального субстрата жизнедеятельностью наземных организмов (бактерий, грибов) с формированием специфического ячеистого рельефа, изменение внутренней структуры этого субстрата с появлением слепков клиновидных трещин в подстилающем матриксе, перераспределение неорганических соединений в ходе образования палеопочвенного микропрофиля (повышение содержания окиси кремния в верхней части профиля с одновременным уменьшением количества оксидов железа).
Ключевые слова
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Интенсивное изучение докайнозойских палеопочв в самых разных регионах мира привело к открытию не только раннепалеозойских (в частности, ордовикских [19, 24, 28, 30] палеопочв, но и палеопочвенных профилей, сохранившихся в докембрийских отложениях [26]. В некоторых случаях вместе с ордовикскими палеопочвами удалось найти предполагаемые остатки наземных растений [12, 13, 24].
Как справедливо отмечал Г. Реталляк [25, 27, 29], палеопочвы содержат богатейший потенциал для реконструкции наземных палеогеографических и палеоклиматических обстановок, существовавших в отдаленном геологическом прошлом, вплоть до 3 млрд л. н. и ранее (есть указания на обнаружение мезоархейских палеопочв возрастом около 3100 млн лет [26]). При этом важно помнить, что часть признаков, широко используемых при описании современных почв (например, цвет генетических горизонтов, степень глинистости, наличие и характер сликенсайдов), может использоваться в палеопочвоведении с очень большой осторожностью. Однако аналитические данные, в особенности, геохимическая характеристика предполагаемых генетических горизонтов, а также состав комплексов микробиоморф, характеризующих палеопочвенный профиль, совершенно необходимы при изучении любой палеопочвы от плейстоцена до глубокого докембрия. Именно эти данные позволяют подойти к реконструкции факторов почвообразования, имевших место при образовании палеопочвенного профиля [23].
Наличие палеопочв в докембрийских отложениях отмечалось многими исследователями. Например, в основании группы Elliot Lake возрастом около 2.45 млрд лет, обнажающейся в Канаде к северу от озера Гурон, обнаружены граниты, явно измененные в аэральных условиях в раннепротерозойское время [17, 20, 31]; обсуждение приведено в работе [25]. Палеопочва Denison возрастом более 2.3 млрд лет, обнаруженная в этом же регионе [22] (обсуждение см. в [26]), образована на исходно терригенных породах, преобразованных процессами глубокого метаморфизма. Есть указания на то, что уже в архейскую эру около 3.5 млрд л. н. бактериальные сообщества воздействовали на субстрат в наземных условиях [14].
Раннепротерозойские палеопочвы описаны из отложений возрастом 2.7–2.6 млрд лет в Южной Африке [33, 34]. Раннепротерозойская вертисоль возрастом 2.2 млрд лет обнаружена в восточной части Индии [16]. Широкий многосторонний аналитический обзор докембрийских и раннепалеозойских палеопочв приведен в работе [11].
Присутствие ископаемых микробиот в аэральных и субаэральных комплексах раннего протерозоя Карелии уже неоднократно отмечалось в литературе (например, [4]). Было отмечено присутствие микроорганизмов в палеопочвах, обозначенных в протологе как “коры выветривания”, образованных на продуктах разрушения (по мнению автора, в основном биогенного; подробнее см. ниже) магматических пород (преимущественно, плагиогранитов и гранитов) охтинской серии возрастом 2.8 млрд лет [4, с. 13].
Настоящая работа посвящена предварительной характеристике возможных палеопочвенных микропрофилей (FPS-профилей) из нижнепротерозойских отложений Карелии. Особое внимание было уделено описанию макро- и мезоморфологии палеопочвы, анализу состава микробиоморф и геохимической характеристике одного из наиболее представительных профилей.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Основная часть использованных в настоящем исследовании материалов происходит из стенки частично затопленного карьера, расположенного в 1 км к северо-востоку от г. Кондопога (Республика Карелия), в 1 км к востоку от оз. Нигозеро (рис. 1). Образцы были собраны в 2020 г. геологом-краеведом М.И. Казаченко (г. Москва). Дополнительные наблюдения над породами этого типа (шунгиты с признаками преобразования в аэральных условиях), находящимися не в коренном залегании, были произведены лично автором в 2010 и 2015 гг. на восточном берегу Онежского озера в районе Андомской горы и у п. Исаково по берегам Тудозера (Вологодская область).
Рис. 1. Карта-схема. Географическое положение местонахождения остатков Cyathotes nigoserica Makarikhin (отмечено скрещенными молотками).
Микробиоморфы были изучены в сканирующем электронном микроскопе Vega Tescan MV 2300 (Геологический институт РАН). Геохимическое изучение разреза рис. 2b было проведено в лаборатории химико-аналитических исследований Геологического института РАН. Состав оксидов и микроэлементов был определен на рентгеновском спектрометре Tiger S8 (Bruker).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Макро- и мезоморфология. Первой и наиболее яркой особенностью изученных образцов являются специфические поверхностные текстуры характерного ячеистого строения, первоначально описанные как Cyathotes nigoserica Makarikhin [10].
Характеристика этих текстур, которая приведена в протологе, отличается некоторой лаконичностью. Имеющиеся образцы позволяют существенно расширить описание за счет включения в него дополнительных деталей. Сама поверхность, без особых сомнений может быть интерпретирована как ископаемая цианобактериальная пленка на основании обнаружения многочисленных микробиоморф бактериальной природы. Цианобактериальная пленка и субстрат, расположенным под ней, могут рассматриваться как верхняя часть палеопочвенного микропрофиля.
Ячейки, формирующие рельеф поверхности, образованы сочетанием морщин (в протологе описания вида они названы “гребешками”) и бугорков с положительным рельефом и понижений (в протологе обозначены как “конкавы”) и желобков с отрицательным (негативным) рельефом (рис. 2а–2e). Морфологические элементы первого порядка (морщины, бугорки, понижения и желобки) осложнены морфологическими элементами второго порядка, образованными тонкими, часто однонаправленными морщинками, формирующими тонкую сеть с субпараллельным расположением отдельных элементов, в которой изредка встречаются округлые образования около 0.5 мм в диаметре (возможно, грибы или минерализованные колонии бактерий). Эта сеть наблюдается только на образцах хорошей сохранности.
Многоугольники, образующие рельеф первого порядка, имеют относительно неправильные очертания и существенно различаются по форме и размерам, в среднем варьируя от 1 до 6 см по наибольшему измерению. Высота морщин, ограничивающих ячейки, в среднем равна 1–1.5 мм, но у наиболее крупных морщин может достигать 2 мм. В месте соединения двух соседних морщин их высота обычно увеличивается, что было отмечено при описании вида. Морщины, как правило, изогнуты, причем направление изогнутости меняется довольно хаотично. Вследствие этого углы ячеек изменяются в очень широких пределах: от острых (около 40°) до тупых (до 110°). В целом, рельеф поверхности цианобактериальной пленки обладает отчетливой фрактальностью: макрорельеф повторяет основные очертания мезорельефа и, отчасти, микрорельефа.
Рис. 2. Ископаемые остатки Cyathotes nigoserica Makarikhin (a, d, e) и строение FPS-профиля (b, c). (а) Цианобактериальный мат (пленка) с крупными ячейками первого порядка и субпараллельными микроморщинками второго порядка; (b) строение палеопочвенного микропрофиля и уровни отбора образцов для аналитических исследований; (c) различия в макростроении условных слоев (генетических горизонтов микропрофиля) палеопочвы и уровни отбора образцов N-1 и N-2; (d) характер морщинистости поверхности цианобактериальной пленки с ячейками двух порядков; (e) характер поверхности с крупными ячейками первого порядка, а также морщинистостью второго порядка, совмещенной с мелкобугорчатым рельефом третьего порядка. Нижний протерозой, ливвий; местонахождение Нигозеро. Длина масштабной линейки – 1 см (a, b, d); 1 мм (c, e).
Сеть морщинок второго порядка образована микрогребенчатой текстурой поверхности, скорее всего, отражающей деформацию цианобактериальной пленки, покрывавшей субстрат. Ширина и высота микроморщинок не превышают 0.5 мм. Длина отдельных морщинок может достигать 2 см, но в среднем равна 7–8 мм. Микроморщинки обычно слегка извилистые, реже – ровные. Встречаются варианты поверхности, где микроморщинки замещены микроячеистым рельефом (рис. 2e). Иногда на поверхности цианобактериальной пленки встречаются небольшие округлые образования около 0.7–1 мм в диаметре, возможно, являющиеся остатками каких-то симбиотических, предположительно, эукариотических организмов, возможно, грибов.
Образцы с текстурами “циатотес” нередко отличаются отчетливой вертикальной анизотропией (рис. 2b, 2c), которая выражается в большом количестве органического вещества в той части микропрофиля (условном слое), которая непосредственно примыкает к ячеистой поверхности, т. е. к цианобактериальной пленке (рис. 2b, 3c, 5a).
Морщинкам на поверхности пленки соответствуют слепки клиновидных трещин в подстилающем субстрате, при этом, как это было справедливо отмечено в протологе “…вещество, выполняющее трещины, всегда отлично от вещества субстрата, обычно резко от него отграничено” [10, c. 136], что в целом подтверждается и настоящими наблюдениями. Очевидно, эта тонкая пленка, обогащенная органическим веществом, и соответствует поверхности, заселенной цианобактериальным сообществом.
В этом же стратиграфическом интервале, где находятся палеопочвенные микропрофили, периодически встречаются уровни с поверхностями, разбитыми древними трещинами усыхания на полигональные структуры, образуя своего рода “палеотакыры”. Наличие таких поверхностей со всей определенностью свидетельствует, что осадок, из которого образовался шунгит, накапливался в исключительно мелководных условиях и периодически осушался, возможно, в приливно-отливной зоне.
Микробиоморфы, извлеченные из FPS-профиля (образец N-1: рис. 2b), включают несколько отчетливых морфотипов, особенно часто встречаются относительно крупные бактериальные чехлы удлиненных очертаний, состоящие из плотного полимерного органического вещества, напоминающего кутикулу, хорошо сохраняющего первоначальную форму организма.
Рис. 3. Ископаемые остатки цианобактерий (а), характер поверхности образцов уровня N-1 (b) и N-2 (d) и строение FPS-профиля (b), перекрытого цианобактериальной пленкой Cyathotes nigoserica Makarikhin (c). Нижний протерозой, ливвий; местонахождение Нигозеро. Длина масштабной линейки – 10 мкм (а); 100 мкм (b, d); 1 см (c).
Встречаются как простые (рис. 4a, 4b), так и ветвящиеся (рис. 3a, 4d, 4e, 5a) варианты микробиоморф этого типа. Средняя длина удлиненных чехлов варьирует от 40 до 100 мкм, при ширине около 7–10 мкм.
Помимо этого морфотипа, встречаются нитевидные формы с отчетливым апикальным расширением (рис. 4c, 4f), а также формы округлых, овальных и веретеновидных очертаний.
Рис. 4. Микробиоморфы из образца N-1, перекрытого цианобактериальной пленкой Cyathotes nigoserica Makarikhin. Простая удлиненная (“нитчатая”) форма с латеральными выростами (а); форма, дихотомирующая в апикальной части (b); форма, дихотомирующая в базальной части (d); форма, совмещающая апикальную и базальную дихотомию (e), а также формы с апикальным расширением (c, f). Нижний протерозой, ливвий; местонахождение Нигозеро. Длина масштабной линейки – 10 мкм.
Микробиоморфы, обнаруженные в палеопочвенных микропрофилях Нигозера, имеют много общего с современными бактериями Phormidium Kützing ex Gomont, 1892 и Chloroflexus Pierson and Castenholz, 1974, обитающими в субаэральных обстановках в бактериальных матах, окружающих вулканические горячие источники [4, 32], причем Phormidium также встречается в аридных ландшафтах по берегам эфемерных водоемов [18], т. е. в условиях, экологически близких к тем, которые могли существовать в раннем протерозое в пределах некоторых регионов Фенно-Скандии.
Микробиоморфы, практически идентичные описанным выше нитевидным чехлам бактерий из шунгитов Нигозера, были изображены из нижнепротерозойской коры выветривания, обнажающейся близ озера Паанаярве, имеющей возраст около 2.4 млрд лет [4, табл. IX, фиг. 1, 2]. Большое сходство наблюдается между нитевидными формами с апикальным расширением (рис. 4c, 4f) и формами, интерпретированными как спорангии грибов из нижнедевонских отложений Сибири [4, табл. XXXVII, рис. 2]. Сходные остатки грибов с терминальными сферами, расположенными на филаменте, описаны из верхнего протерозоя (вендских или эдиакарских отложений) Китая [21, рис. 3g].
Геохимическая характеристика. В геохимической характеристике микропрофиля одного из образцов нигозерской палеопочвы (рис. 2b, табл. 1) наблюдается некоторая дифференциация верхней (образец N-1) и нижней (образец N-2) проб. Между условным слоем N-1 и слоем N-2 наблюдается градационный переход, что характерно для границ между генетическими горизонтами в палеопочвах [25].
Рис. 5. Ископаемые остатки цианобактерий (а), мезоморфология образцов уровней N-1 (b) и N-2 (d) и строение FPS-профиля (b). перекрытого цианобактериальной пленкой Cyathotes nigoserica Makarikhin (c); интерпретационная прорисовка. Нижний протерозой, ливвий; местонахождение Нигозеро. Длина масштабной линейки – 10 мкм (а); 100 мкм (b, d; дана общая линейка, помещенная на части d); 1 см (c).
Таблица. 1. Геохимическая характеристика изученного палеопочвенного микропрофиля (положение взятия проб N-1 и N-2 отмечено на рис. 2b).
Параметр | Проба | |
N-1 | N-2 | |
SiO₂, % | 51.69 | 41.62 |
TiO₂, % | 1.71 | 1.96 |
Al₂O₃, % | 14.53 | 15.90 |
Fe₂O₃, % | 8.74 | 10.04 |
FeO, % | 9.81 | 16.50 |
MnO, % | 0.11 | 0.15 |
MgO, % | 2.72 | 2.83 |
CaO, % | 1.50 | 1.69 |
Na₂O, % | 2.64 | 2.09 |
K₂O, % | 1.10 | 0.64 |
P₂O₅, % | 0.15 | 0.13 |
ППП, % | 5.23 | 5.91 |
Сумма, % | 99.91 | 99.46 |
As, ppm | <5.0 | <5.0 |
Ba, ppm | 282 | 192 |
Co, ppm | 67 | 160 |
Cr, ppm | 292 | 291 |
Cu, ppm | 199 | 277 |
Ga, ppm | 25 | 30 |
Mo, ppm | <2.0 | 3.0 |
Nb, ppm | 16 | 17 |
Ni, ppm | 140 | 194 |
Pb, ppm | 3.6 | <2.0 |
Rb, ppm | 35 | 20 |
S, ppm | <100 | <100 |
Sc, ppm | 55 | 48 |
Sr, ppm | 122 | 101 |
Th, ppm | 4.7 | 6.3 |
U, ppm | 2.2 | <2.0 |
V, ppm | 168 | <5.0 |
Y, ppm | 28 | 32 |
Zn, ppm | 167 | 259 |
Zr, ppm | 204 | 209 |
В верхнем образце отмечается повышенное содержание SiO₂ (51.69% в верхней пробе, в отличие от 41.62% в нижней пробе), которое отчетливо корреспондируется с заметным уменьшением в верхнем образце количества оксидов железа (Fe₂O₃: 8.74% в верхней пробе, в отличие от 10.04% в нижней; FeO: 9.81% в верхней пробе и от 16.50% в нижней). Возможно, это различие может быть объяснено стабилизацией поверхности палеопочвы в аэральных условиях, что привело к вымыванию оксидов железа из приповерхностного слоя с одновременным увеличением процентного участия окиси кремния. Этим процессом может объясняться диспропорция в количестве некоторых микроэлементов в пробах N-1 и N-2. Так, уменьшение количества меди в верхнем образце (199 ppm в верхней пробе, в отличие от 227 ppm в нижней пробе), никеля (140 ppm в верхней пробе, в отличие от 194 ppm в нижней) и цинка (167 ppm в верхней пробе, в отличие от 259 ppm в нижней), скорее всего, также отражает вымывание этих элементов из приповерхностного слоя при экспонировании палеопочвы в наземных условиях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанные структуры имеют много общего с бактериальными пленками и бактериально-водорослевыми матами, образующимися в экстремальных условиях, стрессовых для других, более высокоорганизованных организмов. Возможно, цианобактериальные сообщества, описанные как условно-формальный вид Cyathotes nigoserica Makarikhin, были образованы бактериями и/или грибами, существовавшими в условиях литорали или супралиторали (зоне захлеста морских волн). На адаптацию этих микроорганизмов к существованию в условиях временного (возможно, долговременного) осушения указывает развитие у них плотных покровов, препятствовавших высыханию тела организма. Это сообщество активно воздействовало на минеральный субстрат, изменяя его структуру и обогащая биогенами (например, такими биофильными соединениями как SiO₂) и формируя архаичный почвенный микропрофиль. Эволюционные тенденции, имевшие место в формировании наземных экосистем и, одновременно с этим, в развитии педосферы Земли усилились в позднем протерозое, когда в цианобактериальном сообществе все большее участие стали принимать эукариотические организмы, представленные примитивными эукариотическими водорослями, грибами и, возможно, лишайниками. Ранее опубликованы сведения о появлении тканевой дифференции у наиболее высокоорганизованных докембрийских водорослей в позднем протерозое [9]. Высока вероятность, что эта дифференциация явилась следствием адаптации этих растений к выживанию при периодическом осушении, например, в приливно-отливной зоне. Плотные поверхностные ткани, в этом случае, могли препятствовать высыханию таллома.
Современные исследования докембрийских палеопочв и палеопочв первой половины палеозоя [1–3, 5] со всей определенностью показывают, что нет принципиальной разницы между корами выветривания и палеопочвами как таковыми, поскольку даже на самых ранних стадиях развития наземных экосистем, в начале, преимущественно микробиальных, организмы активно воздействовали на минеральные субстраты или, иначе, на “косную” составляющую любой почвы.
Интересной особенностью описанных цианобактериальных пленок Cyathotes nigoserica Makarikhin является их фрактальный рельеф. Очень сходные, если не идентичные, структуры описаны для современных цианобактериальных пленок, образующихся в экстремальных условиях, которые во многом повторяют экстремальные условия докембрийской Земли [15].
Обнаружение признаков почвообразования в отложениях ливвия (нижний протерозой, 2.1 млрд л. н.) со всей определенностью указывает, что наземные субстраты начали осваиваться организмами (бактериями и, возможно, примитивными эукариотическими водорослями, грибами и лишайниками) еще в глубоком докембрии, как это предполагалось некоторыми биологами-эволюционистами [6–8].
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена в рамках государственного задания Геологического института РАН (Москва).
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
С. В. Наугольных
Геологический институт РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: naugolnykh@list.ru
ORCID iD: 0000-0001-6506-7319
Россия, Пыжевский пер., 7, Москва, 119017
Список литературы
- Алексеев А.О., Алексеева Т.В., Кабанов П.Б., Калинин П.И. Биокосные системы девона – палеопочвы и коры выветривания (Михайловский карьер КМА) // Микробные сообщества в эволюции биосферы. М.: Палеонтологический ин-т РАН, 2017. С. 132–146.
- Алексеев А.О., Алексеева Т.В., Малышев В.В. Геохимическая и минералогическая характеристика субаэральных поверхностей в пограничных отложениях девона и карбона разреза Колесовского карьера известняков (Тульская область) // Палеострат-2022. Годичное собрание (научная конференция) секции палеонтологии МОИП и Московского отделения Палеонтологического общества при РАН. Москва, 31 января–2 февраля 2022 г. М.: Палеонтологический ин-т РАН, 2022. С. 3.
- Алексеева Т.В., Алексеев А.О. Первая находка палеопочвы доэйфельского возраста в Павловском карьере гранитов (Воронежская область) // Палеострат-2023. Годичное собрание (научная конференция) секции палеонтологии МОИП и Московского отделения Палеонтологического общества при РАН, Москва, 30 января–1 февраля 2023 г. М.: Палеонтологический ин-т РАН, 2023. С. 11–12.
- Астафьева М.М., Герасименко Л.М., Гептнер А.Р. и др. Ископаемые бактерии и другие микроорганизмы в земных породах и астроматериалах. М.: Палеонтологический ин-т РАН, 2011. 172 с.
- Астафьева М.М., Жегалло Е.А., Ривкина Е.М., Самылина О.С., Розанов А.Ю., Зайцева Л.В., Авдонин В.В., Карпов Г.А., Сергеева Н.Е. Бактериальная палеонтология. М.: Российская Академия наук, 2021. 124 с.
- Берг Л.С. Жизнь и почвообразование на докембрийских материках // Климат и жизнь. М.: ОГИЗ, 1947. С. 325–334.
- Бурзин М.Б. Древнейший хитридиомицет (Chytridiomycetes Incertae sedis) из верхнего венда Восточно-Европейской платформы // Фауна и экосистемы геологического прошлого. М.: Недра, 1993. С. 21–33.
- Бурзин М.Б. Докембрийские предтечи “пионеров суши” // Природа. 1998. № 3. С. 83–95.
- Гниловская М.Б. О древнейшей тканевой дифференциации докембрийских (вендских) водорослей // Палеонтологический журнал. 2003. № 3. С. 92–98.
- Макарихин В.В., Кононова Г.М. Фитолиты нижнего протерозоя Карелии. Л.: Наука, 1983. 180 с.
- Макеев А.О. Экологическая роль палеопочв в геологической истории Земли // Почвы в биосфере и жизни человека. М., 2012. С. 183–283.
- Наугольных С.В. Первые почвы и происхождение наземных растений // Наука в России. 2008. № 1. С. 37‒43.
- Наугольных С.В. Растения первых наземных экосистем // Вестник РАН. 2019. Т. 89. № 10. С. 1052–1061.
- Розанов А.Ю., Астафьева М.М., Вревский А.Б. и др. Микрофоссилии раннедокембрийских кор выветривания Фенноскандинавского щита // Отечественная геология. 2008. № 3. С. 83–90.
- Соина В.С., Мергелов Н.С., Кудинова А.Г., Лысак Л.В., Демкина Е.В., Воробьева Е.А., Долгих А.В., Шоркунов И.Г. Исследования микробных сообществ почв и почвоподобных тел в экстремальных условиях Антарктиды // Микробные сообщества в эволюции биосферы. М.: Палеонтологический ин-т РАН, 2017. С. 147–166.
- Bandopadhyaya P.C., Eriksson P.G., Roberts R.J. A vertic paleosol at the Archean – Proterozoic contact from the Singhbhum – Orissa craton, eastern India // Precambrian Research. 2010. V. 177. P. 277–290.
- Collins W.H. North shore of Lake Huron // Memoirs of Geological Survey of Canada. 1925. V. 143. P. 1–160.
- Dadheech P.K., Casamatta D.A., Casper P., Krienitz L. Phormidium etoshii sp. nov. (Oscillatoriales, Cyanobacteria) described from the Etosha Pan, Namibia, based on morphological, molecular and ecological features // Fottea, Olomouc. 2013. V. 13. P. 235–244.
- Feakes C.R., Retallack G.J. Recognition and chemical characterization of fossil soils developed on alluvium; a Late Ordovician example // Geological Soc. Am. 1988. V. 216. P. 35–48.
- Frarey M.J., Roscoe S.M. The Huronian Supergroup north of Lake Huron // Symposium on Bassins and Geosynclines of the Canadian Shield. Papers of Geological Survey of Canada. 1970. V. 70. P. 143–157.
- Gan Tian, Luo Taiyi, Pang Ke, Zhou Chuanming, Zhou Guanghong, Wan Bin, Li Gang, Yi Qiru, Czaja A.D., Xiao Shuhai. Cryptic terrestrial fungus-like fossils of the early Ediacaran Period // Nature Commun. 2021. https://doi.org/ 10.1038/s41467–021–20975–1.
- Gay A.L., Grandstaff D.E. Chemistry and mineralogy of Precambrian paleosols at Elliot Lake, Ontario, Canada // Precambrian Res. 1980. V. 12. P. 349–373.
- Jenny H.J. Factors in Soil formation. N.Y.: McGraw-Hill, 1941. 281 p.
- Naugolnykh S.V. Piterophyton gen. nov., a new genus of archaic land plants from the Upper Ordovician deposits of the European part of Russia // Wulfenia. Mitteilungen des Kärntner Botanikzentrums Klagenfurt. 2022. V. 29. P. 115–130.
- Retallack G.J. Fossil Soils: indicators of ancient terrestrial environments // Paleobotany, paleoecology and evolution. N.Y.: Praeger Publishers, 1981. P. 55–102.
- Retallack G.J. The fossil record of soil // Paleosols, their recognition and interpretaton. New Jersey: Princeton University press, 1986. P. 1–44.
- Retallack G.J. Field recognition of paleosols // Geological Soc. Am. 1988. V. 216. P. 1–7.
- Retallack G.J. Paleozoic paleosols // Weathering, soil and paleosols. Developments in Earth Surface Processes. Amsterdam: Elsevier, 1992. P. 543–564.
- Retallack G.J. The environmental factor approach to the interpretation of paleosols // Factors of soil formation: a fifthieth anniversary retrospective. SSSA Special Publication. 1994. V. 33. P. 31–64.
- Retallack G.J. Scoyenia burrows from Ordovician palaeosols of the Juniata Formation in Pennsylvania // Palaeontology. 2001. V. 44. P. 209–235.
- Roscoe S.M. Huronian rocks and uraniferous conglomerates in the Canadian Shield // Papers of Geological Survey of Canada. 1968. V. 68. P. 68–40.
- Ruff-Roberts A.L., Kuenen G., Ward D.M. Distribution of cultivated and uncultivated cyanobacteria and Chloroflexus-like bacteria in hot spring microbial mats // Appl. Environ. Microbiol. 1994. V. 60. P. 697–704.
- Watanabe Y., Martini J.E.J., Ohmoto H. Geochemical evidence for terrestrial ecosystems 2.6 billion years ago // Nature. 2000. V. 408. P. 574–578.
- Watanabe Y., Martini J.E.J., Ohmoto H. Organic- and carbonate rich soil formation similar to 2.6 billion years ago at Schagen, East Transvaal district, South Africa // Geochim. Cosmochim. Acta. 2004. V. 68. P. 2129–2151.
Дополнительные файлы