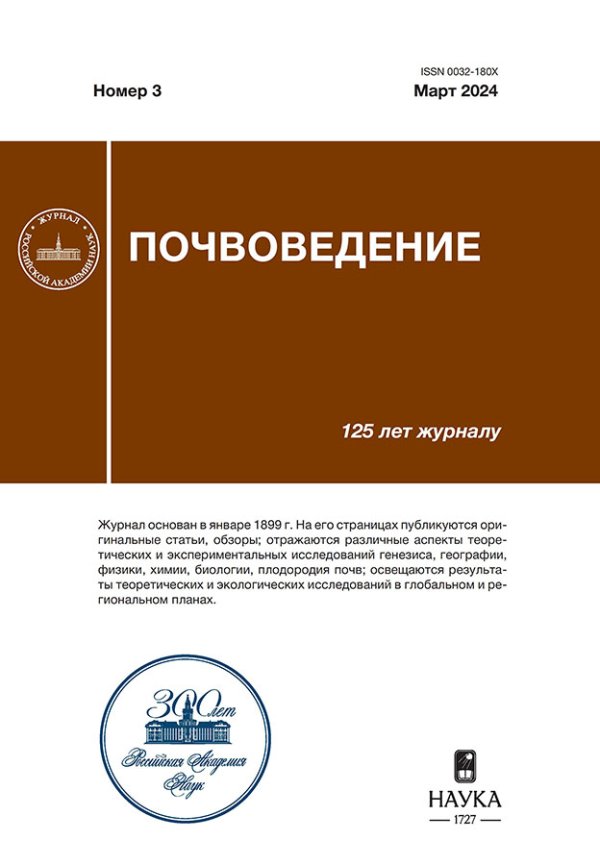Ecological Features and Adaptive Capabilities of Cyanobacteria in Desert Ecosystems (Review)
- Авторлар: Bataeva Y.V.1, Grigoryan L.N.1
-
Мекемелер:
- Tatishchev Astrakhan State University
- Шығарылым: № 3 (2024)
- Беттер: 451-469
- Бөлім: БИОЛОГИЯ ПОЧВ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0032-180X/article/view/264070
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0032180X24030069
- EDN: https://elibrary.ru/YIJTFL
- ID: 264070
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
Deserts represent one of the most inhospitable environments on Earth, characterized by extreme daily variations in temperature, limited availability of nitrogen and water, high salinity levels, and other challenging conditions. Within these challenging arid zones, cyanobacteria emerge as a crucial group of organisms capable of actively thriving. They form complex communities known as biocrusts, which not only ensure their own survival but also contribute significantly to the persistence of other organisms within these ecosystems. Cyanobacteria, through their metabolic activities, play a significant role in the establishment and functioning of soil ecosystems. They are capable of generating primary organic matter, fixing molecular nitrogen, and synthesizing metabolites with potent biological activities. To endure the relentless pressures of their environment, desert cyanobacteria have evolved intricate adaptive strategies to enhance their resilience against multiple concurrent stresses. One such mechanism involves the production of secondary metabolites, enabling them to cope with the extreme conditions of drought and salinity. This comprehensive review delves into the ecological significance of desert cyanobacteria in the context of soil improvement. Additionally, the latest advancements in utilizing cyanobacteria to combat desertification and prevent soil degradation are elucidated.
Толық мәтін
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время глобальной экологической проблемой является аридизация и опустынивание (деградация) суши. Такие природные территории отличаются засушливым климатом, при котором испарение влаги выше количества осадков. Последствия наиболее заметно проявляются в изменениях гидрологии суши и почв. Ковда [26] систематизировал причины аридизации суши на две большие группы: космические и геологические; антропогенные. Деградация почв сопровождается изменением их функций, свойств и режимов, количественного и качественного ухудшения состава, а также изменением природно-хозяйственной значимости земель (опустыниванием, засолением, дефляцией и т.д.) [2, 41].
Пустыня — одна из самых суровых сред на планете, характеризующаяся подверженностью ежедневным колебаниям экстремальных условий, таких как высокая или низкая температура, низкий уровень азота, воды, высокое содержание солей. Известно, что засушливые земли покрывают 41.3% всей суши [101]. Одним из основных факторов аридизации земель является изменение климата за последние 100 лет, которое привело к увеличению пустынных районов и деградации растительного покрова [120]. Наряду с этим, большой вклад вносит антропогенное воздействие.
Низкая доступность воды является наиболее важным абиотическим фактором стресса в пустынных экосистемах, где влага может поступать преимущественно из тумана, грунтовых вод, атмосферного пара и редких осадков в виде дождя и снега. Кроме того, из-за высоких температур поверхностная вода имеет высокую скорость испарения, что значительно сокращает временной диапазон ее потенциального использования [162].
Пустынные почвы содержат очень низкое количество органического вещества, азота, большое количество солей, фосфатов, магния и карбоната кальция и являются слабощелочными из-за воздействия высоких температур, сильной ветровой эрозии и дефицита воды [111].
Высокий уровень засоленности почв представляет собой еще одну серьезную проблему для пустынных экосистем. Избыточное количество ионов хлора и натрия ограничивает водопроницаемость, пористость почвы, аэрацию, отрицательно влияет на белковый обмен растений, текучесть мембран и функциональность ферментов [89]. По мере увеличения засушливости, численность растений и многоклеточных животных снижается, а роль микробных сообществ и микробного разнообразия в условиях повышенной минерализации, в экологических процессах возрастает [98, 128, 130]. Таким образом, соленость почвы и высокая аридность значительно снижают способность растений выживать в таких условиях из-за прямого воздействия на их развитие, и косвенного сокращения микробного сообщества в зоне ризосферы.
Засушливый климат и природные ландшафты определяют экологические и физико-химические условия существования организмов. Аридные регионы характеризуются высокой численностью и активностью некоторых групп микроорганизмов [11, 16, 32, 42]. Для сухих пустынных почв характерно наличие поверхностных биологических сообществ, состоящих из почвенных частиц, плотно заселенных бактериями, микромицетами, а также мхами и лишайниками. Такие сообщества поддерживают плодородие почвы, защищают ее от ветровой и водной эрозии, предотвращают потерю питательных веществ и улучшают водоудерживающую способность [72]. Часто доминантами микробных сообществ пустынь и степей являются цианобактерии [6, 157, 164], которые известны своим вкладом, в качестве первичных продуцентов, в насыщение почв органическими веществами. Цианобактерии, или цианопрокариоты (более раннее название – сине-зеленые водоросли) – морфологически разнообразная группа грамотрицательных прокариот, включающая одноклеточные, трихомные или колониальные формы [1].
Несколько недавних публикаций, в которых использовались различные методы геномики, протеомики и метаболомики, позволяют предположить, что цианобактерии первоначально осваивали чрезвычайно засушливые местообитания, благодаря уникальным особенностям, позволяющим им выживать и образовывать сообщества с водорослями, микромицетами, мхами и другими бактериями [31, 60, 117]. Высокая пластичность метаболизма цианобактерий и выработанные ими механизмы устойчивости к влиянию экстремальных факторов окружающей среды позволяют разработать на их основе новые, агробиотехнологические методы борьбы с опустыниванием [104].
ЦИАНОБАКТЕРИИ ПУСТЫНЬ
Пустыни могут быть как жаркими, так и холодными. Горячие пустыни находятся ближе к экватору, в то время как холодные располагаются в крайних северных или южных широтах. Главное отличие горячих от холодных аридных территорий заключается не только в географическом положении, но и в типах почв. Объединяет эти почвы примитивность и слабая развитость профиля. В почвенном покрове горячих пустынь и полупустынь преобладают солончаки (согласно международной классификации [169] Solonchaks), бурые полупустынные (Endosalic Calcisols), серо-бурые (Calcic Gypsisols), такыры (Leptosols), лугово-бурые полупустынные (Endosalic Gleysols), бурые полупустынно-степные (Luvic Calcisols), серо-бурые пустынные (Calcic Gypsisols), песчаные пустынные (Yermosols) почвы [2, 6]. Зональными типами почв во многих пустынях являются бурые полупустынные, бурые полупустынно-степные, обычно солонцеватые.
В составе сообществ биокорок сухих горячих пустынь, а также холодных приполярных пустынь и антарктических оазисов встречаются, как правило, эукариотические микроводоросли, микромицеты, цианобактерии, хемогетеротрофные бактерии и некоторые археи [5, 15, 23, 30]. Почвенные водоросли и цианобактерии колонизируют почву быстрее, чем остальные микроорганизмы, и являются пионерами освоения различного рода субстратов [35]. Заселяя пески и почвы легкого гранулометрического состава, расположенные в крайне аридных условиях, они закрепляют глинистые и песчаные частички с помощью полисахаридов слизистых чехлов, агрегируя их в более крупные образования. Мелкие конгломераты почвы оказываются прочно сцементированными нитями водорослей и цианобактерий, ее поверхность становится устойчивой против дефляции, более стабильной, уменьшается скорость испарения воды [115]. Таким образом, цианобактерии участвуют в почвообразовательном процессе и часто составляют основной фототрофный компонент сообщества микроорганизмов [8]. Например, суммарная масса цианобактерий и микроводорослей в такырной корке составляет от 5 до 35 ц/га сухого вещества; на солонцах – 16 ц/га [20].
Сообщества микроорганизмов бывают разных типов: наземные (поверхностные), подповерхностные, эпи- и эндолитные. В альго-бактериальных корках всех типов, обычно встречающихся в засушливых и полузасушливых регионах, преобладающими являются цианобактерии, но могут также присутствовать зеленые микроводоросли, бактерии и микромицеты [166]. В горячих пустынях часто встречаются некоторые виды родов Microcoleus, Scytonema, Phormidium, Trichocoleus, Leptolyngbya и Tychonema, при этом Microcoleus vaginatus доминирует в подавляющем большинстве [71, 73, 83, 152, 174, 175]. В умеренных степных и засушливых экосистемах цианобактериальные корки в основном состоят из представителей порядков Nostocales, Oscillatoriales, Synechoccocales и доминирующих видов M. vaginatus, включая Symplocastrum purpurascens, Scytonema sp., Nostoc commune, Phormidium sp., при этом численность цианобактерий увеличивается с возрастанием интенсивности света [6, 54, 142, 157, 168]. В горах северо-восточной Евразии обнаружены цианобактерии родов Leptolyngbya, Phormidium, Nostoc, Stigonema, Scytonema с доминированием видов Leptolyngbya voronichiniana, Leptolyngbya foveolarum, Trichocoleus hospitus [78, 122, 127]. Среди цианобактерий тропических саванн Бразилии встречаются Microcoleus, Nostoc, Leptolyngbya, Porphyrosiphon и Pycnacronema [107]. В холодных полярных условиях представители порядков Chroococcales, Pseudanabanales и Oscillatoriales являются основными составляющими сообществ цианобактерий [10, 100, 134, 135, 148, 151].
Новичкова-Иванова [32] предлагает использовать как показатель аридности почв соотношение цианобактерий и зеленых водорослей: чем выше уровень засушливости, тем больше встречается цианобактерий. Применяется и другой показатель: отношение числа видов Oscillatoriales к числу видов Nostocales [12], который изменяется от 2.2 : 1 в умеренно засушливой степи (чернозем обыкновенный) до 9.5 : 1 в опустыненной степи (светло-каштановая почва) [43].
В России основателем изучения цианобактерий, в том числе в степных и пустынных районах, является Еленкин [22], который исследовал “ностоко-сцитонемовый ценоз” степи, в состав которого входят диатомеи, находящие защиту от высыхания и высокого уровня инсоляции среди продуцирующих слизь цианобактерий. Популяции Nostoc commune, обитают на широтном градиенте от тундровых и альпийских регионов до степных сообществ Евразии, но имеют морфологические и функциональные различия, что подтверждается данными анализа их генетического разнообразия [34].
Для альго-бактериальных сообществ пустынных местобитаний отмечено доминирование цианобактерий из порядка Oscillatoriales [6, 42]. На левобережье Волги в Ахтубинском районе Астраханской области в барханных песках обнаружены те же таксономические группы, что и на правобережье, с преобладанием видов Schizothrix, Phormidium, Plectonema, а также с участием видов Nostoc и одноклеточных зеленых [11]. В окрестностях г. Астрахань на развеваемых ветром песках, которые возникли от разрушения бурых супесчаных почв на бэровских буграх, выявили большое разнообразие азотфиксирующих форм (виды Nostoc, Anabaena, Calothrix). В сухой песчаной пойме р. Шивилиг-Хем (Тува) доминировали представители нитчатых цианобактерий родов Lyngbya, Symploca, Hydrocoleus, Plectonema, являющихся активными обрастателями и закрепителями песков [35].
В пустыне Атакама (Чили) было отмечено небольшое видовое богатство биокорок (18 видов), фототрофный компонент которых состоял преимущественно из одноклеточных зеленых водорослей и цианобактерий [143]. На поверхности почв здесь развивается сообщество, состоящее из двух видов цианобактерий: один из них – тенелюбивый вид Schizothrix atacamensis – образует нижний слой и, благодаря слизистым чехлам, снабжает влагой верхний слой, где находится светолюбивый вид Calothrix desertica [144]. Метагеномным методом в трех образцах на самом влажном участке обнаружен род Euhalothece, а один вид рода Halothece обнаружен только в двух образцах на самом засушливом участке пустыни Атакама. В отличие от этого ограниченного ареала, другой Halothece присутствует во всех сообществах на всех участках пустыни. Чтобы изучить генетическое родство этих широко распространенных цианобактерий, сравнивали локус CRISPR 26 реконструированных геномов, по одному из каждого образца [75].
На трех карстовых территориях Южного Китая выявлено 200 видов цианобактерий двух классов, пяти порядков, шести семейств и 22 родов: видовой состав которых аналогичен таковому в зонах опустынивания [61]. Обнаружены виды семейств Oscillatoriaceae, Chroococcaceae, Scytonemataceae и Nostocaceae, среди которых M. vaginatus и N. commune являются доминирующими. Установлено, что представители семейства Scitonemataceae встречаются в почвах без признаков опустынивания. В отличие от них, виды семейства Oscillatoriaceae преобладают в умеренно аридных районах, в то время как виды семейства Chroococcaceae – в местах потенциально умеренной аридной почвенной дергадации [61]. Исследователи предположили, что существует синергетическая эволюция цианобактерий в ответ на изменения свойств почвы в районе изучения карстового опустынивания. В цианобактериальных корках сухих и горячих почв, средняя влажность которых составляет 7–15%, а также почв, богатых органическим углеродом и общим азотом, преобладают цианобактерии рода Oscillatoria, что отражает их физиологическую приспособляемость к сухим и жарким средам, способность поглощать углерод и азот. Цианобактериальные корки, состоящие из видов рода Gloeocapsa, доминируют в почвах с высокой влажностью (более 17%) и крупнозернистым гранулометрическим составом. Цианобактерии рода Scytonema развиваются под влиянием литологии доломита и средних температур, устойчивы к неплодородным почвам с низким содержанием питательных веществ и влаги [61].
Недавние исследования показали, что вид M. vaginatus был основным источником органического углерода и эдификатором биокорки в пустыне Чиуауа и в пустыне Большого Бассейна [65]. Гетеротрофными спутниками M. vaginatus в исследованных биокорках выступают копиотрофы и диазотрофы со значительным количеством генов фиксации азота. В наземных корках аридных почв Сахаро-Гобийской пустыни также доминировал Microcoleus sp. в сообществе с Nostoc, Schizothrix, Scytonema, Calothrix, Phormidium [32, 90].
Анализ сообществ из двух горных субстратов, кальцита и игнимбрита, показал, что в них преобладают цианобактерии, актинобактерии и хлорофлексы [67]. Относительное распределение основных типов значительно отличалось между двумя субстратами, а оценка биоразнообразия, полученная на основе последовательностей генов 16S рРНК и метагеномных данных, указывала на большее таксономическое разнообразие в кальцитовом сообществе.
Особенностями флоры водорослей солончаков, по данным [9], являются преобладание цианобактерий и почти полное отсутствие желто-зеленых и диатомовых водорослей. Наиболее богатое видами и своеобразное сообщество цианобактерий обнаружено в хлоридно-сульфатном солончаке, в котором доминировали виды Phormidium. Изучение альгосинузий в сообществах солеросов с разной степенью засоления показало, что наибольшее число видов присуще цианобактериям родов Phormidium, Oscillatoria [39].
Описано таксономическое разнообразие цианобактериальных сообществ солонцов, луговых, каштановых и бурых полупустынных почв зон сухих степей и полупустынь трех регионов России: Республики Калмыкия, Волгоградской и Астраханской областей. Показано, что цианобактерии каштановых почв, распространенных в условиях сухих степей умеренного пояса и солонцов, характеризующихся большим количеством натрия в поглощающем комплексе аллювиального горизонта, имеют близкую таксономическую структуру – преобладание представителей порядков Nostocales и Synechococcales. Наименьшее сходство наблюдалось между сообществами луговых почв и бурых полупустынь [157]. По результатам морфологического и молекулярно-генетического анализа в изученных типах почв впервые обнаружены представители родов Desmonostoc, Hassallia, Komvophoron, Nodosilinea, Pseudanabaena и Rhabdoderma [157].
Microcoleus sp. доминировал в менее засоленных местах пустыни Сахара, в то время как в более минерализованных, обнаружено большое количество гетероцистных цианобактерий и нитевидных негетероцистных Pseudophormidium sp. и одноклеточных Acaryochloris форм. Другие идентифицированные цианобактерии (Microcoleus steenstrupii, M. vaginatus, Scytonema hyalinum, Tolypothrix distorta и Calothrix sp.) обнаружены в схожих экосистемах с менее суровыми условиями окружающей среды [112]. Необходимо отметить, что вид M. vaginatus является типичным представителем почвенной микрофлоры горячих пустынь и широко распространен в Китае, Северной и Южной Америке, Африке, Израиле [61, 65, 112].
Разнообразие цианобактерий наиболее полно изучено в регионах с умеренным климатом в отличие от полярных регионов [59]. Установлено, что сообщества из Арктики и пустыни Сахары находились в одном кластере сходства. Согласно метагеномным исследованиям, в антарктическом образце преобладало 70% таксонов цианобактерий с 30% гетеротрофной составляющей. В арктической тундре количество таксонов цианобактерий составило 50% с такой же долей гетеротрофного компонента [100].
Сравнительные молекулярно-генетические данные показали, что наиболее часто встречающимися цианобактериями в антарктических почвах и гиполитах и тибетских нагорьях являются виды рода Phormidium, в то время как в жарких и холодных пустынях преобладают виды рода Chroococcidiopsis [100, 165]. Цианобактерии рода Phormidium способны адаптироваться к широкому спектру климатических условий и встречаются в контрастных местобитаниях, когда быстрое заселение является преимуществом, что демонстрирует элементы выбранной R-стратегии (благодаря высокой удельной скорости роста при освоении нового субстрата микроорганизмы быстро размножаются и получают преимущество) [129]. И наоборот, виды рода Chroococcidiopsis, больше похожи на представителей K-стратегии, которые растут медленно, но специализируются на использовании сильно ксерических ниш в жарких и холодных пустынях из-за обильного производства внеклеточных полисахаридов и механизмов устойчивости клеток к высыханию [50, 129].
Проведен анализ биологического разнообразия антарктических цианобактерий в гиполитных органо-аккумулятивных горизонтах оазиса Ларсеманн (Восточная Антарктида). Для уточнения таксономического статуса цианобактерий из образцов почв были выделены штаммы родов: Nostoc, Halotia, Leptolyngbya, Plectolyngbya, Phormidesmis, а также некоторые новые и ранее не описанные представители антарктических цианобактерий [10]. Результаты филогенетического анализа нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК и особенности организации вторичных структур внутренних транскрибируемых спейсеров рибосомального оперона позволили выявить cреди штаммов новые таксоны потенциально эндемичных цианобактерий. С использованием генетических, морфологических и экологических характеристик описан новый эндемичный род цианобактерий Argonema, выделенный на территории Антарктиды, который является космополитом в засушливых регионах [151].
Так как в гиполитных микробных биокорках на нижних поверхностях кварцевых камней цианобактерии были доминирующими, высказано предположение, что они являются основными биотическими факторами формирования и функционирования сообществ [59, 100, 158, 129, 167]. Таким образом, было показано, что местоположение и климат влияют на разнообразие и таксономический состав гиполитных цианобактерий.
Сравнивая цианобактерии жарких и холодных пустынь, можно сделать вывод о доминировании как нитчатых, так и азотфиксирующих, и одноклеточных форм во всех типах засушливых областей. Видовой состав цианопрокариот зависит от физико-химических условий окружающей среды.
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦИАНОБАКТЕРИЙ
С водорослями и высшими растениями цианобактерии объединяет то, что все они осуществляют фотосинтез с выделением кислорода и содержат хлорофилл а, а также ряд других общих с растениями пигментов. Некоторые виды содержат хлорофилл b, c, d, f [36]. Однако существует принципиальное отличие цианопрокариот от всех других водорослей, как с точки зрения их строения, так и с эволюционной точки зрения. Очевидно сходство цианобактерий с бактериями: отсутствие ядра, наличие муреиновой клеточной стенки, 70S рибосом и другие определяющие признаки. По характеру клеточной организации они соответствуют грамотрицательным бактериям и представляют самостоятельную ветвь их эволюции [33].
Для обеспечения выживания в пустыне, цианобактерии должны разработать сложные стратегии адаптации к множественным одновременным стрессам. Значительная устойчивость цианобактерий к высоким температурам, повышенной солености, интенсивности света, высушиванию, ультрафиолетовому и ядерному облучению [1] позволяет им преобладать в экстремальных экологических условиях: горных районах, изверженных вулканических породах, пустынных биогеоценозах, рекультивируемых землях, техногенных территориях [3, 21, 100].
Сохранить жизнеспособность и занять доминирующее положение в формировании водных и почвенных биоценозов цианобактериям помогают физиолого-биохимические особенности их метаболизма [1, 38]. Цианопрокариоты обладают способностью к фото-, гетеро- и миксотрофии [29], образованию ассоциаций с бактериями, микроводорослями, грибами [13], азотфиксации [28, 33]; устойчивости к колебаниям влажности, температуры, рН среды, солености. Широкие пределы толерантности к экологическим факторам среды в некоторых случаях можно объяснить объединением в пределах одной клетки многочисленных приспособлений прокариот с важнейшими преимуществами хлорофиллсодержащих организмов [33].
Cинтезируя в определенном соотношении различные по химической природе и функциональной активности пигменты, клетка цианобактерии всегда имеет резервные акцепторы различных световых импульсов. Она может использовать их все одновременно для улавливания разнообразных участков спектра. В то же время при резком изменении условий клетка способна выдвигать на первое место одну из имеющихся пигментных систем, наиболее эффективную для восприятия световых импульсов в изменившихся условиях. В настоящее время получен значительный объем данных о цианобактериях, конститутивно образующих хлорофилл d, а также о тех, которые синтезируют хлорофилл f или хлорофиллы d/f при фотоакклиматизации к дальнему красному свету. Включение этих пигментов в состав фотосинтетического аппарата, в частности с использованием механизма FaRLiP, повышает адаптационный потенциал, расширяет границы распространения цианобактерий и позволяет им занимать экологические ниши с низким уровнем инсоляции [36]. Установлено, что увеличение уровня освещенности и подъем температуры в утреннее время способствуют активации кластеров генов, отвечающих за противодействие обезвоживанию у Leptolyngbya ohadii [124].
Нитчатая почвенная цианобактерия N. flagelliforme способна синтезировать экранирующие ультрафиолетовые пигменты, такие как сцитонемин и микоспоринподобные аминокислоты, для защиты аппарата фотосинтеза от повреждающего ультрафиолетового излучения. При этом частичная потеря сцитонемина (~3.7%) приводила к снижению структурной стабильности матрикса полисахаридов и более медленному восстановлению активности фотосистемы II после высушивания [76].
Одновременно с фотосинтезом цианобактерии фиксируют атмосферный азот, накапливая его в почве до 25–150 кг/га в год [1]. Они вносят существенный вклад в обогащение почвы азотом, тем самым, подготавливая ее для заселения другими организмами. Установлено, что при переходе клетки из вегетативной в гетероцистную происходит трансформация фотосинтетического аппарата, так как фиксирующие азот ферменты чувствительны к присутствию кислорода. В течение 30 ч исчезает фотосистема II вместе с аллофикоцианином, который в вегетативных клетках располагается в фикобилисомах [146]. В гетероцистах сохраняется фотосистема I и элементы фикобилисом с фикоэритроцианином. Фотосистема I обеспечивает энергией фиксацию азота. Безусловно, такие особенности цианобактерий не исчерпывают всего многообразия их регуляторных механизмов приспособления к изменяющимся факторам окружающей среды.
Например, небелковая аминокислота нейротоксического действия β-N-метиламин-L-аланин, которую способны синтезировать многие цианобактерии, может иметь экологическое значение. Так, участвуя в репрессии формирования гетероцист и в подавлении активности нитрогеназы у диазотрофных цианобактерий, β-N-метиламин-L-аланин может позволить контролировать численность азотфиксирующих штаммов в условиях конкуренции за органический азот [131].
Изучаются механизмы, позволяющие цианобактериям выживать в условиях экстремальной засухи, с помощью генетических методов [51]. Экспериментальный перенос гена spsA, кодирующего сахарозо-6-фосфат синтазу (spsA), из цианобактерии Synechocystis в чувствительную к высыханию кишечную палочку Escherichia coli привел к увеличению в 104 раз выживаемости последней бактерии по сравнению с клетками дикого типа после замораживания или высушивания на воздухе [27, 51].
Изучено, что на памятнике Майя в течение года, при чередовании влажных и засушливых сезонов, морфология колоний Nostoc commune менялась [136]. Его жизненный цикл включал две сезонные стадии развития (рост в сезон дождей и покой в сухой сезон) и две переходные стадии (подготовка к засушливому сезону, регидратация и восстановление). В начале сезона дождей устойчивые стадии предыдущего засушливого сезона регидратируются и образуют пропагулы, которые принимают колониальную форму, окруженную студенистой оболочкой. По мере того как условия становятся более сухими, N. commune использует адаптивные стратегии против засухи, такие как уменьшение количества клеток внутри колоний и образование акинет [136].
Известно, что цианобактерии и многие гетеротрофные бактерии (представители родов Paenibacillus, Aeromonas, Pseudomonas и др.), продуцирующие внеклеточные полисахариды, возникшие в условиях экстремального стресса, могут обеспечивать более эффективные механизмы устойчивости к абиотическому стрессу по сравнению с бактериями, выделенными из нормальных условий [161].
Большую роль в адаптации цианобактерий к экстремальным условиям обитания играет горизонтальный перенос генов, который чаще встречается у наземных форм цианобактерий [60]. Обнаружено, что размеры генома наземных цианобактерий были в среднем больше, чем геномы морских и пресноводных штаммов. Это связано с более сложными, с учетом абиотических характеристик, условиями жизни на суше, чем в водоемах [153]. Отмечено, что кластер генов pix (pixJILHG), отвечающих за способность к фототаксису, встречался в большинстве геномов наземных видов цианобактерий, но отсутствовал у пресноводных и морских обитателей. У наземных штаммов обнаружены гены (treZY кластер и ген сахарозосинтазы), связанные с биосинтезом трегалозы и сахарозы, которые имеют отношение к защите организмов от высыхания [116]. Другой кластер генов opuACBD, связанный с устойчивостью к засушливым условиям, кодирующий предполагаемую систему поглощения осмопротекторов ABC-типа, был обнаружен преимущественно у наземных таксонов [80]. Установлено, что у цианобактерий, входящих в состав эндолитных сообществ, имеются уникальные адаптационные механизмы: в их геномах закодировано большое количество путей для синтеза вторичных метаболитов и поликетидов [70]. Сравнение генов mysABCD, отвечающих за биосинтез микоспоринподобной аминокислоты у Nostoc verrucosum (чувствительного к высыханию) и Nostoc commune (устойчивого к экстремальному высыханию), показало, что у N. verrucosum отсутствует ген mysD [88]. N. commune продуцировал гликозилированные производные порфиры-334, которые являются мощными акцепторами радикалов, тем самым усиливая адаптацию к неблагоприятным условиям окружающей среды. Выяснили, что дублирование АТФ-захватывающей лигазы представляет собой новую адаптацию пути биосинтеза микоспоринподобной аминокислоты для повышения устойчивости цианобактерий к ультрафиолету в условиях засухи [176]. В совокупности все эти кластеры генов могут быть использованы наземными цианобактериями для переживания засушливых периодов.
МЕТАБОЛИТЫ ЦИАНОБАКТЕРИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИХ УСТОЙЧИВОСТИ И РАЗВИТИЮ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ПУСТЫНЬ
Общие стратегии, используемые цианобактериями для выживания в циклах высушивания/регидратации в стерильных средах, хорошо известны: продукция внеклеточных полисахаридов [68], привлечение шаперонов для поддержания целостности белка, усиление регуляции репарации ДНК и системы защиты от окислительного стресса, синтез совместимых растворенных веществ и ионных каналов для адаптации к низкому уровню доступной воды и т.д. [119, 171]. Кроме этого, цианобактерии продуцируют ряд биологически активных соединений (полисахариды, незаменимые аминокислоты, фикобилипротеины, жирные кислоты, стероиды, липиды, фитогормоны и другие) для реализации механизмов адаптации, а также являются источником веществ, применяемых в экологической, сельскохозяйственной, пищевой, косметической, фармацевтической и других областях [86, 97].
Вторичные метаболиты изучены у представителей порядков Oscillatoriales (49%), Nostocales (26%), Chroococcales (16%), Pleurocapsales (6%) and Stigonematales (4%) [79]. Это различные соединения с цитотоксическими (41% от общего количества найденных веществ), противоопухолевыми (13%), противовирусными (4%), противомикробными (12%), а также противогрибковыми, гербицидными, антиоксидантными, иммунодепрессантными свойствами (табл. 1) [55, 79, 159].
Таблица 1. Метаболиты цианобактерий с различной биологической активностью
Биоактивный компонент | Цианобактерии | Биологическая активность | Ссылка |
Ауксины (индол-3-уксусная кислота) | Nostoc PCC 9229 Nostoc 268 | Гормональная (увеличение роста растений) | [145] |
Абсцизовая кислота | Anabaena variabilis, Nostoc muscorum, Synechococcus leopoliensis | Гормональная (устойчивость к стрессу) | |
Этилен | Anabaena sp., Calothrix sp., Cylindrospermum sp., Nostoc sp., Scytonema sp., Synechococcus sp. | Гормональная (увеличение роста и биомассы растений) | |
Гибберелины, брассиностероиды | Anabaenopsis sp., Cylindrospermum sp., Phormidium foveolarum | Гормональная (продуктивность биомассы) | |
Цитокинины | Anabaena sp., Calothrix sp., Oscillatoria sp., Phormidium sp., Phormidium animale, Synechocystis sp. | Гормональная (продуктивность биомассы), устойчивость к стрессу | |
Метанольный экстракт | Spirulina platensis | Антибактериальная | [95] |
Амбигины | Fischerella sp. | Антибактериальная | [138] |
Бастадин | Anabaena basta | Антибактериальная | [113] |
β-бутиролактоны | Anabena variabilis | Антибактериальная | [106] |
Гапалиндол | Nostoc CCC537 Fischerella sp. Hapalosiphon fontinalis | Антибактериальная, фунгицидная | |
Норбиэтановые дитерпены | Micrococcus lacustris | Антибактериальная | [82] |
Носкомин | Nostoc commune | Антибактериальная | [91] |
Дидегидромирабазол | Scytonema mirabile | Антибактериальная | [154] |
Толипорфин | Tolypothrix nodosa | Антибактериальная | [133] |
Мускорид | Nostoc muscorum | Антибактериальная | [118] |
Микроцистин, анатоксин-а, цилиндроспермопсин | Microcystis, Anabaena, Cylindrospermopsis | Альгицидная, гербицидная, инсектицидная, адаптация к ультрафиолету | |
Ностокарболин | Nostoc | Альгицидная | [52] |
Ностоцин А | Nostoc spongiaeforme | Альгицидная | [84] |
Фенольные компоненты | Arthrospira platensis, Nostoc muscorum, Phormidium foveolarum, Spirulina platensis | Антиоксидантная | |
Микоспоринглицин, порфира-334, шинорин | Anabaena doliolum, Scytonema javanicum | Защита от ультрафиолета, высоких температур, антиоксидантная | |
Каратиноиды, β-каротин, α- каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин, ликопин | Nostoc muscorum, Phormidium foveolarum, Spirulina platensis | Антиоксидантная | |
Каррагинаны, агар, лектины | Chondrus ocellatus | Противовирусная, антикоагулянтная и иммуномодулирующая | |
Галогенированные соединения | Synechococcus elongates PCC7942, Cylindrospermopsis raciborskii 339-T3, Fischerella, Microcystis aeruginosa NPCD-1, Microcystis panniformis SCP702 | Противовирусная, противогрибковая, антипролиферативная, антибактериальная, противовоспалительная | |
Алкан (наноказан), тритерпен (сквален) | Anabaena variabilis, Oscillatoria neglecta | Аллелопатическая | [25] |
Ароматические соединения (дигидрометилжасмонат) | Anabaena variabilis | Аллелопатическая | |
Терпеновая фракция (линалоол, линалилацетат, терпинеол и β-фенилэтанол), терпеноиды | Microcystis aeruginosa, Anabaena obliguus | Антибактериальная, инсектицидная, фунгицидная | |
Норхарман (9Hпиридо(3,4-b)индол) | Nodularia harveyana | Альгицидная, антибактериальная, фунгицидная | [160] |
4,40-дигидроксибифенил | Nostoc insulare | Альгицидная, антибактериальная, фунгицидная | [160] |
Липопептид | Nostoc commune | Фунгицидная | [94] |
Например, цианобактерии родов Anabaena, Nostoc, Microcystis, Lyngbya, Oscillatoria, Phormidium и Spirulina синтезируют такие соединения, как каротиноиды, незаменимые аминокислоты, жирные кислоты, липопептиды, полисахариды и другие биоактивные компоненты [149].
Почвенная цианобактерия Microcoleus vaginatus из пустыни Негев, продуцировала 4 нормальных и более 60 разветвленных алканов, а также ряд жирных кислот циклических и ненасыщенных углеводородов, альдегидов, спиртов и кетонов [18]. Цианобактерии родов Scytonema и Aphanizomenon выделяли в среду жирнокислотные компоненты [17, 19].
В монокультурах Oscillatoria neglecta, Anabaena variabilis, Anabaena cylindrica найдены насыщенные, ненасыщенные и ароматические углеводороды, ароматические производные карбоновых кислот, терпены, фенолы и их производные [25]. В смешанных культурах наблюдались изменения в составе и концентрации экзометаболитов по сравнению с монокультурами. Снизились концентрации алканов, появилась бензойная кислота, увеличилась концентрация дигидрометилжасмоната, являющихся активными аллелопатическими агентами. В метаболитном комплексе Anabaena obliguus обнаружены терпеноиды: склареолид и метиловый эфир окисленного производного абиетиновой кислоты [24]. Экзометаболиты микроводорослей и цианобактерий, находящиеся в культуральной среде накопительной культуры альго-бактериальных сообществ, были представлены насыщенными, ненасыщенными и ароматическими углеводородами, карбоновыми кислотами, фенольными и терпеновыми соединениями и их производными. Присутствие в большой концентрации (23.78%) октакозана связано с массовым развитием цианобактерий Gloeocapsa sp. в присутствии диатомовых водорослей рода Navicula и зеленых водорослей родов Chlorella и Scenedesmus [7].
Тринадцать ненасыщенных стеролов идентифицированы методом газовой хромато-масс-спектрометрии из азотфиксирующей цианобактерии Scytonema sp., выделенной из микробного сообщества цианобактерий на известняковых стенах Black Cover в Иерусалиме. Доминирующими стероидами являлись холест-5-ен-3β-ол (18.9%), 3β-метоксихолест-5-ен (16.2%), 3β-ацетоксихолест-5-ен (11.2%) [140].
Полисахариды составляют значительную часть внеклеточного матрикса цианобактерий (до 95% массы), который также включает нуклеиновые кислоты, белки и липиды [64]. Хотя внеклеточные полисахариды имеют две основные формы (слизистую и капсульную), они модулируют гидрологические свойства почвы и удерживают воду, замедляя скорость высыхания и защищая клетку [48]. Подобная защита жизненно важна для других микроорганизмов в почвенных сообществах, таких как зеленые водоросли Chlorella sp., которые не способны восстановить жизнеспособность даже после медленного высыхания в отсутствии цианобактерий [96]. Кроме того, внеклеточные полисахариды цианобактерий представляют собой ценный источник углерода для гетеротрофных микроорганизмов [114].
Установлено, что цианобактерии родов Aphanothece, Calothrix, Phormidium, Anabaenopsis, Cylindrospermum, Anabaena, Oscillatoria, Synechocystis накапливают и продуцируют соединения из группы фитогормонов, включающие ауксины, гиббереллины, брассиностероиды, цитокинины и этилен, которые участвуют в росте и развитии растений [77, 155, 156]. Цианобактерии синтезируют гетероауксин и стимулятор роста растений – индол-3-уксусную кислоту, которая образуется ими в симбиозе с высшими растениями [145].
В зависимости от вида цианобактерий в их клетках содержится разное количество углеводов (4–70%), липидов (2–12%) и белка (23–87%) [62]. По аминокислотному составу цианобактерии биологически полноценны и содержат в основном обычные аминокислоты. Причем в значительном количестве представлены незаменимые аминокислоты: изолейцин, тирозин, фенилаланин, валин, треонин, аргинин, гистидин и лизин. Lyngbya aestuarii в период экспоненциального роста выделяет в среду такие аминокислоты, как лейцин, фенилаланин, валин, метионин, тирозин, пролин, аланин, глютаминовая кислота, треонин аспарагиновая кислота, серин, аргинин, гистидин, лизин, цистин. Цианобактерии Trichodesmium thiebautii, Synechococcus sp. PCC 6302, Symploca sp. PCC 8002, Nostoc sp. PCC 7107 образуют ВМАА, нейротоксичную небелковую аминокислоту [66].
Цианобактерии наряду с другими микроорганизмами способны синтезировать витамины и участвовать в снабжении высших растений этими соединениями. При введении в растение тиамина, никотиновой кислоты и др. повышается интенсивность фотосинтеза и увеличивается содержание сахаров [8]. По количеству бетакаротина цианобактерии уступают лишь зеленой галофильной водоросли Dunaliella salina, служащей сырьем для промышленного производства этого провитамина А. Содержание витамина В и его производных колеблется в пределах 6–8 мкг/г сухого остатка и почти не зависит от вида цианобактерий [8]. Кроме того, из них были выделены: рибофлавин, тиамин, пиридоксин, биотин, никотиновая кислота, витамин С. Помимо азота и фосфора цианобактерии богаты микроэлементами: марганцем, барием, титаном, медью и цинком [8].
Жизнедеятельность цианобактерий в условиях пустынь предполагает продукцию метаболитов с фитостимулирующими и противомикробными свойствами для участия в аллелопатических взаимоотношениях с другими организмами, в том числе микроорганизмами. Цианобактерии разных видов продуцируют широкий набор эффективных антибиотиков, так называемых цианобактеринов [139]. Соединение носкомин, выделенное из почвенного штамма Nostoc commune EAWAG 122b, показало антибактериальную активность в отношении Bacillus cereus, Staphylococcus epidermidis и Escherichia coli [91]. Фракция метанольного экстракта, в основе которой было соединение гапалиндол из Nostoc CCC537, проявляла антимикробную активность в отношении Mycobacterium tuberculosis H37Rv, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Salmonella typhi MTCC3216, Pseudomonas aeruginosa ATCC27853, Escherichia coli ATCC 25992, Enterobacter aerogenes MTCC 2822 [45]. Кроме этого, метанольный экстракт культуры Spirulina platensis проявлял широкий спектр противомикробной активности, ингибирование было максимальным для S. aureus, меньше подавлял рост видов E. coli, P. aeruginosa и S. typhi [95]. Из Fischerella ambigua был выделен амбигин – алкалоид, который проявлял антибактериальную активность в отношении M. tuberculosis и Bacillus anthracis [138]. Антимикробная активность двух экзометаболитов цианобактерий Nodularia harveyana – норхарман (9H пиридо (3,4-b) индол) и Nostoc insulare – 4,40 –дигидроксибифенил определялась в суспензионных культурах. Для обоих соединений была обнаружена высокая альгицидная (концентрация 8–80 мг/мл), умеренная антибактериальная (16–160 мг/мл) и фунгицидная (32–40 мг/мл) активности [160].
Обнаружено, что ностокарболин из Nostoc проявляет альгицидную активность и ингибирует рост других цианобактерий и зеленых водорослей [46, 52]. Ностоцин А, выделенный из Nostoc spongiaeforme, сильнее ингибировал рост зеленых водорослей, чем цианобактерий [84].
Цианотоксины обладают большим потенциалом для разработки активных биологических соединений, которые можно применять в сельском хозяйстве как инсектициды, гербициды, альгициды и фунгициды из-за их аллелопатического действия [37, 49, 137]. Исследования показали, что цианотоксины, такие как микроцистины, анатоксин-а и цилиндроспермопсин, полученные из штаммов цианобактерий Microcystis, Anabaena и Cylindrospermopsis, соответственно, показали высокую альгицидную, гербицидную и инсектицидную активности [49]. Таким образом, применение этих цианотоксинов может помочь в восстановлении экосистем почв [137]. Прогрессу исследований в области синтеза токсинов цианобактериями также способствовало секвенирование большого числа геномов различных представителей цианобактерий.
Таким образом, цианобактерии являются богатым источником вторичных метаболитов, проявляющих высокую биологическую активность и способствующих их жизнедеятельности в пустынных экосистемах.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИАНОБАКТЕРИЙ
Для стабилизации опустыненной почвы исследователями используются различные методы восстановления, например, внесение органических полимеров. Применение таких химических веществ, как полиаспарагиновая кислота, поливиниловый спирт, полиакриламид, гипс показало повышение устойчивости песчаных агрегатов и защиты частиц песка от ветровой эрозии [102, 103, 172]. Растительные материалы на основе винилацетата также способны эффективно стабилизировать частицы почвы [105].
Широко распространенным методом закрепления опустыненной почвы является посадка местной растительности. Однако деревья одних и тех же пород подвергаются широкомасштабному повреждению, вызванному болезнями или вредителями. Кроме того, годовое количество осадков в засушливых регионах обычно меньше 300 мм, а испарение деревьев более 3000 мм [93]. Следовательно, растения могут не выжить.
Внесение цианопрокариот в пустынных районах ускоряет восстановление утраченного разнообразия, облегчает сукцессии в растительных сообществах за счет добавления органических веществ и секреции внеклеточных полимерных веществ, а также улучшают агрегатную устойчивость почвы [57, 101, 170].
Однако время восстановления, необходимое для образования цианобактериальных корок в естественных условиях, по прогнозам, будет составлять до нескольких десятилетий [47]. Многие факторы разрушают сообщества на ранних стадиях в естественных условиях окружающей среды. Капли дождя уничтожают почвенные агрегаты, что приводит к отслоению частиц от цианобактериальных корок [163]. Кроме того, выпас скота и вытаптывание приводят к уменьшению или потере сообществ [63]. Поэтому рассматриваются методы, ускоряющие развитие инокулированных цианобактериальных сообществ в течение ограниченного промежутка времени [44, 108, 121].
Основным ограничением образования биокорки, состоящей из цианобактерий рода Nostoc, является отсутствие пропагул и питательных веществ в пустынях. Возможным недорогим их источником является вода из эвтрофицированных водоемов, содержащая водные цианобактерии, азот и фосфор. В проведенных исследованиях был изготовлен нанокомпозит с сетчатой структурой с использованием металлоорганического каркаса и карбоксиметилцеллюлозы [104]. Нанокомпозит с большой удельной поверхностью обладал высокой способностью удерживать воду и питательные вещества и хорошей биобезопасностью. В сочетании цианобактерий с водой и нанокомпозитом можно обеспечить подходящую микросреду в почве, способствующую росту клеток, образованию биокорок и сдерживанию опустынивания. Это исследование предлагает новый подход к одновременному сокращению процессов опустынивания и эвтрофикации.
Недавно были оценены особенности синтеза и высвобождения внеклеточных полисахаридов цианобактериями трех распространенных видов, образующих биокорки (Phormidium ambiguum, Scytonema javanicum и Nostoc commune) в контролируемых лабораторных условиях в жидких средах и на микрокосмах песчаной почвы. Несмотря на высокую удельную скорость роста и быстрый синтез внеклеточных полисахаридов, продемонстрированный P. ambiguum, S. javanicum показал самый быстрый рост и высокое содержание этих метаболитов в песчаной почве [57]. Рост N. commune не был значительным после его внесения в песчаную почву. Содержание конденсированных почвенных фракций с внеклеточными полисахаридами было одинаковым как для P. ambiguum, так и для S. javanicum. Эти результаты указывают на то, что следует оценить особенности полисахаридов (высвобождаются в жидкой культуре, растворимы и конденсируются в микрочастицах песчаной почвы), чтобы выбрать подходящий штамм для крупномасштабного применения цианобактерий при восстановлении почвы [58].
Применение цианобактерий наряду с химикатами, закрепляющими почву, потенциально может стабилизировать инокулированные сообщества и ускорить переход к следующей стадии сукцессии. Для их совместного использования были рассмотрены нетоксичные, экологически чистые материалы, пригодные для закрепления почвенных частиц. Для повышения липкости используются усилители клейкости на основе природных смол – биополисахаридов, экстрагированных из семян растений. Ожидается, что биополисахариды, усиливают агрегацию почвы, играя роль, аналогичную роли внеклеточных полисахаридов, выделяемых цианобактериями в почву. Кроме того, абсорбирующий полимер может быть нанесен на почву в качестве влагоудерживающего материала и питательной добавки [125]. Такая методика может сократить время и стоимость восстановления почв. Более того, ускорение экологической сукцессии и восстановление почв даст большие преимущества для решения глобальной проблемы опустынивания [4, 126].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эколого-физиологические особенности цианобактерий, как фототрофных организмов и азотфиксаторов определяют их значение в пустынных экосистемах, за счет накопления большой биомассы. Они способны выживать в чрезвычайно засушливой среде и колонизировать суровые местообитания, включая песок и камни пустынь. Адаптационные свойства включают: способность развиваться в сообществах с другими микроорганизмами, продукцию пигментов, образование огромного количества вторичных метаболитов, каждый из которых выполняет свои специфические функции, изменения на генном уровне, способствующие устойчивости организма в экстремальной среде. Кроме того, цианобактерии обеспечивают более благоприятные условия для последующей колонизации суши бактериями, водорослями, растениями и другими видами живых организмов.
Исследования молекулярных факторов, поиск кластеров генов, ответственных за синтез соединений, способствующих адаптации цианобактерий, создает основу для выяснения их экологической роли в аридных экосистемах и применения их восстановительных способностей для деградировавших экосистем. Во многих исследованиях сообщалось об успешном применении цианобактерий для улучшения показателей почвы.
Как “пионеры” экстремальных местообитаний, цианобактерии обладают большим неисследованным потенциалом для будущего применения в предотвращении процессов опустынивания, непосредственного улучшения свойств почв и повышения продуктивности сельского хозяйства в засушливых зонах.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Обзор выполнен при поддержке гранта РНФ № 23-24-10011 “Новые штаммы цианобактерий для разработки методов борьбы с опустыниванием в условиях Астраханской области”.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Авторлар туралы
Yu. Bataeva
Tatishchev Astrakhan State University
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: aveatab@mail.ru
Ресей, Astrakhan
L. Grigoryan
Tatishchev Astrakhan State University
Email: aveatab@mail.ru
Ресей, Astrakhan
Әдебиет тізімі
- Андреюк Е.И., Коптева Ж.Л., Занина В.В. Цианобактерии. Киев: Наук. думка, 1990. 159 с.
- Бананова В.А., Петров К.М., Лазарева В.Г., Унагаев А.С. Динамика процессов опустынивания Северо-Западного Прикаспия: физико-географические и социально-экономические аспекты. Атлас-монография. Национальный цифровой ресурс Руконт, 2016. 91 с.
- Батаева Ю.В. Влияние экстремальных гидрохимических условий на видовой состав цианобактерий в водоемах Нижней Волги. Автореф. дис… канд. биол. наук. М., 2005. 23 с.
- Батаева Ю.В., Григорян Л.Н., Аникина Е.А., Федотова А.В., Яковлева Л.В. К вопросу о предотвращении опустынивания и борьбы с деградацией почвенных экосистем с помощью микробно-растительных взаимодействий // Каспий и глобальные вызовы. Астрахань, 2022. С. 19–23.
- Батаева Ю.В., Григорян Л.Н., Богун А.Г., Кисличкина А.А., Платонов М.Е., Курашов Е.А., Крылова Ю.В., Федоренко А.Г., Андреева М.П. Биологическая активность и состав метаболитов штамма Streptomyces carpaticus К-11 RCAM04697 (SCPM-O-B-9993), перспективного для использования в растениеводстве // Микробиология. 2023. Т. 92. № 3. С. 318–328. https://doi.org/10.31857/S0026365622600730.
- Батаева Ю.В., Дзержинская И.С., Яковлева Л.В. Состав комплекса фототрофов в различных типах почв Астраханской области // Почвоведение. 2017. № 8. С. 973–982. https://doi.org/10.7868/S0032180X17080020.
- Батаева Ю.В., Курашов Е.А., Крылова Ю.В. Хромато-масс-спектрометрическое исследование экзогенных метаболитов альго-бактериальных сообществ в накопительной культуре // Вода: химия и экология. 2014. № 9. С. 59–68.
- Бессолицына Е.А. Биология цианобактерий. Киров, 2012. 51 с.
- Болышев Н.Н. Водоросли и их роль в образовании почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968. 105 с.
- Величко Н.В., Рабочая Д.Е., Долгих А.В., Мергелов Н.С. Цианобактерии в гиполитных горизонтах почв оазиса Ларсеманн, Восточная Антарктида // Почвоведение. 2023. № 8. С. 925–942. https://doi.org/10.31857/S0032180X2260161X
- Гаель А.Г., Штина Э.А. Водоросли на песках аридных областей и их роль в формировании почв // Почвоведение. 1974. № 6. С. 67–75.
- Гецен М.В. Водоросли в экосистемах Крайнего Севера. Л.: Наука, 1985. 163 с.
- Глаголева О.Б., Зенова Г.М. Экологическая характеристика бактериального звена альгобактериальных асоциаций // Почвоведение. 1992. № 3. С. 19–25.
- Гольдин Е.Б., Гольдина В.Г. Эколого-биологическое значение терпенов и их практическое использование: методологические аспекты // Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2011. Вып. 4. С. 104–111.
- Григорян Л.Н., Батаева Ю.В. Экологические особенности и биотехнологические возможности почвенных актинобактерий (обзор) // Теоретическая и прикладная экология. 2023. № 2. С. 6–19.
- Григорян Л.Н., Батаева Ю.В., Яковлева Л.В., Шляхов В.А. Микробиологический состав засоленных почв аридных территорий // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер. Естественные и технические науки. 2018. № 12. С. 6–13.
- Дембицкий В.М. Углеводородные и жирнокислотные компоненты в культурах нитевидных цианобактерий Scytonema sp., выделенных из микробиального сообщества “Black Cover” известняковых стен в Иерусалиме // Биохимия. 2002. № 11. С. 1545–1552.
- Дембицкий В.М., Дор И., Шкроб И., Аки М. Разветвленные алканы и другие неполярные соединения, продуцируемые цианобактерией Microcoleus vaginatus из пустыни Негев // Биоорг. химия. 2001. Т. 27. № 2. С. 130–140.
- Дембицкий В.М., Шкроб И., Гоу И.В. Дикарбоновые и жирные кислоты цианобактерий рода Aphanizomenon // Биохимия. 2001. Т. 66. № 1. С. 92–97.
- Дидович С.В., Москаленко С.В., Темралеева А.Д., Хапчаева С.А. Биотехнологический потенциал почвенных цианобактерий (обзор) // Вопросы современной альгологии. 2017. № 2. http://algology.ru/1170
- Домрачева Л.И., Ковина А.Л., Кондакова Л.В., Ашихмина Т.Я. Цианобактериальные симбиозы и возможность их практического использования (обзор) // Теор. и прикл. экол. 2021. № 3. С. 21–30.
- Еленкин А.А. Синезеленые водоросли СССР. Общая часть. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. 679 с.
- Каширская Н.Н., Хомутова Т.Э., Чернышева Е.В., Ельцов М.В., Демкин В.А. Численность и суммарная биомасса микробных сообществ каштановых почв и солонцов сухостепной зоны Нижнего Поволжья // Почвоведение. 2015. № 3. С. 337–346. https://doi.org/10.7868/S0032180X15010098.
- Кирпенко Н.И., Курашов Е.А., Крылова Ю.В. Компонентный состав экзометаболитов в культурах некоторых водорослей // Гидробиол. журн. 2012. Т. 48. № 1. С. 65–77.
- Кирпенко Н.И., Курашов Е.А., Крылова Ю.В. Экзогенные метаболитные комплексы двух синезеленых водорослей в моно- и смешанных культурах // Пресноводная гидробиология. 2010. № 2 (43). С. 241–244.
- Ковда В.А. Почвенный покров. Его улучшение, использование и охрана. М.: Наука, 1981. 183 с.
- Кокшарова О.А. Цианобактерии: перспективные объекты научного исследования и биотехнологии // Успехи современной биологии. 2008. Т. 128. № 1. С. 3–20.
- Костяев В.Я. Биология, экология и роль азотфиксирующих синезеленых водорослей (цианобактерий) в различных экосистемах. Автореф. дис. … докт. биол. наук. М., 1993. 40 с.
- Кузьменко М.И. Миксотрофизм синезеленых водорослей и его экологическое значение. Киев: Наука, 1981. 212 с.
- Кутовая О.В., Василенко Е.С., Лебедева М.П. Микробиологическая и микроморфологическая характеристика крайнеаридных пустынных почв илийской впадины (Казахстан) // Почвоведение. 2012. № 12. С. 1297–1309.
- Ермилова Е.В. Молекулярные аспекты адаптации прокариот. СПб.: Химиздат, 2012. 341с.
- Новичкова-Иванова Л.Н. Почвенные водоросли фитоценозов Сахаро-Гобийской пустынной области. Л.: Наука, 1980. 256 с.
- Панкратова Е.М. Становление функциональных особенностей цианобактерий на путях их сопряженной эволюции с биосферой // Теор. и прикл. экол. 2010. № 3. С. 4–11.
- Патова Е.Н., Сивков М.Д., Новаковская И.В., Егорова И.Н., Давыдов Д.А., Романов Р.Е., Харпухаева Т.М. Генетическое разнообразие, морфология и экология Nostoc commune Vauch. ex Born. et Flah. (Cyanoprokaryota) от тундровых до степных экосистем // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. 2018. № 17. С. 229–233.
- Пивоварова Ж.Ф., Факторович Л.В., Благодатнова А.Г. Особенности таксономической структуры почвенных фотоавтотрофов при освоении первичных субстратов // Растительный мир Азиатской России. 2012. № 1. С. 16–21.
- Пиневич А.В., Аверина С.Г. На краю радуги: длинноволновые хлорофиллы и фотосинтетическая адаптация цианобактерий к дальнему красному свету // Микробиология. 2022. Т. 91. № 6. С. 666–684. https://doi.org/10.31857/S0026365622600444
- Поля Ю.М., Сухаревич В.И., Поляк М.С. Цианобактерии и их метаболиты. СПб.: Нестор-История, 2022. 328 с.
- Сиренко Л.А., Козицкая В.Н. Биологически активные вещества водорослей и качество воды. Киев: Наукова думка, 1988. 256 с.
- Хайбуллина Л.С., Гайсина Л.А. Влияние засоления на состав и морфологические особенности почвенных водорослей // Почвоведение. 2008. № 2. С. 241–247.
- Цавкелова Е.А. Структурно-функциональные особенности микробных сообществ эпифитных орхидей: биоразнообразие, роль и биотехнологическая значимость ассоциативных микроорганизмов. Автореф. дис. … докт. биол. наук. М., 2021. 46 с.
- Шабанов Р.М., Бембеев Ч.С. Деградация земель в республике Калмыкия в контексте глобальной экологической проблемы опустынивания территорий // Итоги и перспективы развития агропромышленного комплекса. Сб. матер. Междунар. науч.-пр. конф. 2018. С. 476–481.
- Штина Э.А., Зенова Г.М., Манучарова Н.А. Альгологический мониторинг почв // Почвоведение. 1998. № 12. С. 1449–1461.
- Шушуева М.Г. Почвенные водоросли в биогеоценозах степной зоны Северного Казахстана // Ботан. журн. 1985. Т. 79. № 1. С. 23–32.
- Acea M.J., Prieto-Ferna Ândez A., Diz-Cid N. Cyanobacterial inoculation of heated soils: Effect on microorganisms of C and N cycles and on chemical composition in soil surface // Soil Biol. Biochem. 2003. V. 35. Р. 513–524. https://doi.org/10.1016/S0038-0717(03)00005-1
- Asthana R.K., Tripathi M.K., Deepali A., Srivastava A., Singh A.P., Singh S.P., Nath G., Srivastava R., Srivastava B.S. Isolation and identification of a new antibacterial entity from the Antarctic cyanobacterium Nostoc CCC 537 // J. Appl. Phycol. 2009. V. 21. Р. 81–88.
- Becher P.G., Baumann H.I., Gademann K., Juttner F. The cyanobacterial alkaloid nostocarboline: An acetylcholinesterase and trypsin inhibitor // J. Appl. Phycology. 2009. V. 21. P. 103–110.
- Belnap J., Eldridge D. Disturbance and recovery of biological soil crusts. // Biological soil crusts: structure, function, and management. Berlin: Heidelberg: Springer, 2003. P. 363–383.
- Benard P., Zarebanadkouki M., Brax M., Kaltenbach R., Jerjen I., Marone F., Couradeau E., Felde V., Kaestner A., Carminati A. Microhydrological niches in soils: how mucilage and EPS alter the biophysical properties of the rhizosphere and other biological hotspots // Vadose Zone J. 2019. V. 18. Р. 1–10.
- Berry J.P., Gantar M., Perez M.H., Berry G., Noriega F.G. Cyanobacterial toxins as allelochemicals with potential applications as algaecides, herbicides and insecticides // Mar. Drugs. 2008. V. 6. Р. 117–146.
- Billi D., Verseux C., Fagliarone C., Napoli A., Baqué M., de Vera J.-P. A Desert cyanobacterium under simulated mars-like conditions in low earth orbit: implications for the habitability of Mars // Astrobiology. 2019. V. 19. Р. 158–169.
- Billi D., Wright D.J., Helm R.F., Prickett T., Potts M., Crowe J.H. Engineering desiccation tolerance in Escherichia coli // Appl. Environ. Microbiol. 2000. V. 66. P. 1680–1684.
- Blom J.F., Brutsch T., Barbaras D., Bethuel Y., Locher H.H., Hubschwerlen C., Gademann K. Potent algicides based on the cyanobacterial alkaloid nostocarboline // Org. Lett. 2006. V. 8. Р. 737–740.
- Blunt J.W., Copp B.R., Hu W.P., Munro M.H., Northcote P.T., Prinsep M.R. Marine natural products // Nat. Prod. Rep. 2009. V. 26. Р. 170–244.
- Büdel B., Williams W.J., Reichenberger H. Annual net primary productivity of a cyanobacteria-dominated biological soil crust in the Gulf Savannah, Queensland // Aust. Biogeosci. 2018. V. 15. Р. 491–505. https://doi.org/10.5194/bg-15-491-2018
- Burja A.M., Banaigs B., Abou-Mansour E., Burgess J.G., Wright P.C. Marine cyanobacteria – a prolific source of natural products // Tetrahedron. 2001. V. 57. Р. 9347–9377.
- Cardozo K.H., Guaratini T., Barros M.P., Falcão V.R., Tonon A.P., Lopes N.P. Metabolites from algae with economical impact // Comp. Biochem. Phys. 2007. V. 146. Р. 60–78.
- Chamizo S., Mugnai G., Rossi F., Certini G., De Philippis R. Cyanobacteria inoculation improves soil stability and fertility on different textured soils: gaining insights for applicability in soil restoration // Front. Environ. Sci. 2018. V. 6. https://doi.org/10.3389/fenvs.2018.00049
- Chamizo S., Adessi A., Torzillo G., De Philippis R. Exopolysaccharide features influence growth success in biocrust-forming cyanobacteria, moving from liquid culture to sand microcosms // Front. Microbiol. 2020. V. 11. Р. 568224.
- Chan Y., Lacap D.C., Lau M.C.Y., Ha K.Y., Warren-Rhodes K.A., Cockell C.S. et al. Hypolithic microbial communities: between a rock and a hard place // Environ. Microbiol. 2012. V. 14. Р. 2272–2282. https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2012
- Chen M.-Y., Teng W.-K., Zhao L., Hu C.-X., Zhou Y.K., Han B.-P., Song L.-R., Shu W.-S. Comparative genomics reveals insights into cyanobacterial evolution and habitat adaptation // ISME J. 2021. V. 15. Р. 211–227.
- Chen Q., Yan N., Xiong K., Zhao J. Cyanobacterial diversity of biological soil crusts and soil properties in karst desertification area // Front. Microbiol. 2023. V. 14. Р.1113707. https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1113707
- Cohen Z. Chemicals from microalgae. London: Taylor & Francis, 1999. 450 p.
- Concostrina-Zubiri L., Huber-Sannwald E., MartõÂnez I., Flores J.L.F., Reyes-AguÈero J.A., Escudero A. et al. Biological soil crusts across disturbance-recovery scenarios: effect of grazing regime on community dynamics // Ecol. Appl. 2014. V. 24(7). Р. 1863–1877. https://doi.org/10.1890/13-1416.1
- Costa O.Y.A., Raaijmakers J.M., Kuramae E.E. Microbial extracellular polymeric substances: ecological function and impact on soil aggregation // Front. Microbiol. 2018. V. 9. Р. 1636.
- Couradeau E., Giraldo-Silva A., De Martini F., Garcia-Pichel F. Spatial segregation of the biological soil crust microbiome around its foundational cyanobacterium, Microcoleus vaginatus, and the formation of a nitrogen-fixing cyanosphere // Microbiome. 2019. V. 7. Р. 55.
- Cox P.A., Banack S.A., Murch S.J., Rasmussen U., Tien G., Bidigare R.R., Metcalf J.S., Morrison L.F., Codd G.A., Bergman B. Diverse taxa of cyanobacteria produce beta-N-methylamino-L-alanine, a neurotoxic amino acid // Proc. Natl. Acad. Sci. 2005. V. 102. P. 5074.
- Crits-Christoph A., Robinson C.K., Ma B., Ravel J., Wierzchos J., Ascaso C., Artieda O., Souza-Egipsy V., Casero M.C., DiRuggiero J. Phylogenetic and functional substrate specificity for endolithic microbial communities in hyper-arid // Environments. Front. Microbiol. 2016. V. 7. Р. 301. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00301
- Dabravolski S.A., Isayenkov S.V. Metabolites facilitating adaptation of desert cyanobacteria to extremely arid environments // Plants. 2022. V. 11. Р. 3225. https://doi.org/10.3390/plants11233225.
- Dixit R.B., Suseela M.R. Cyanobacteria: Potential candidates for drug discovery // Anton Leeuw. 2013. № 103. Р. 947–961.
- Ertekin E., Meslier V., Browning A., Treadgold J., Diruggiero J. Rock structure drives the taxonomic and functional diversity of endolithic microbial communities in extreme environments // Environmental Microbiology. 2020. V. 23. https://doi.org/10.1111/1462-2920.15287
- Etemadi-Khah A., Pourbabaee A.A., Alikhani H.A., Noroozi M., Bruno L. Biodiversity of isolated cyanobacteria from desert soils in Iran // Geomicrobiol J. 2017. V. 34. Р. 784–794. https://doi.org/10.1080/01490451.2016.1271064
- Faist A.M., Herrick J.E., Belnap J., Van Zee J.W., Barger N.N. Biological soil crust and disturbance controls on surface hydrology in a semi-arid ecosystem // Ecosphere. 2017. V. 8. P. e01691.
- Fernandes V.M., Machado de Lima N.M., Roush D., Rudgers J., Collins S.L., Garcia-Pichel F. Exposure to predicted precipitation patterns decreases population size and alters community structure of cyanobacteria in biological soil crusts from the Chihuahuan Desert // Environ. Microbiol. 2018. V. 20. Р. 259–269. https://doi.org/10.1111/1462-2920.13983
- Ferrari P.F., Palmieri D., Casazza A.A., Aliakbarian B., Perego P., Palombo D. TNF a-induced endothelial activation is counteracted by polyphenol extract from UV-stressed cyanobacterium Arthrospira platensis // Med. Chem. Res. 2015. V. 24. Р. 275–282.
- Finstad K.M., Probst A.J., Thomas B.C., Andersen G.L., Demergasso C., Echeverría A., Amundson R.G., Banfield J.F. Microbial community structure and the persistence of cyanobacterial populations in salt crusts of the hyperarid Atacama desert from genome-resolved metagenomics // Front. Microbiol. 2017. V. 8. Р. 1435. https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.01435
- Gao X. Scytonemin plays a potential role in stabilizing the exopolysaccharidic matrix in terrestrial cyanobacteria // Microb. Ecol. 2017. V. 73. Р. 255–258.
- Gayathri M., Kumar P.S., Prabha A.M.L., Muralitharan G. In vitro regeneration of Arachis hypogaea L. and Moringa oleifera Lam. using extracellular phytohormones from Aphanothece sp. MBDU 515 // Algal Res. 2015. V. 7. Р. 100–105.
- Gaysina L.A., Bohunicka M., Hazukova V., Johansen J.R. Biodiversity of terrestrial cyanobacteria of the South Ural region // Cryptogam. Algol. 2018. V. 39. Р. 167–198. https://doi.org/10.7872/crya/v39.iss2.2018.167
- Gerwick W.H., Coates R.C., Engene N., Gerwick L., Grindberg R.V., Jones A.C., Sorrels C.M. Giant marine cyanobacteria produce exciting potential pharmaceuticals // Microbe. 2008. V. 3. Р. 277–284.
- Gul N., Poolman B. Functional reconstitution and osmoregulatory properties of the ProU ABC transporter from Escherichia coli // Mol. Membr. Biol. 2013. V. 30. Р. 138–48.
- Gupta A., Agarwal P. Extraction, isolation, and bioassay of a gibberellin-like substance from Phormidium foveolarum // Ann. Bot. 1973. V. 37. Р. 737–741.
- Gutie´rrez R.M.P., Flores A.M., Solis R.V., Jimenez J.C. Two new antibacterial norbietane diterpenoids from cyanobacterium Micrococcus lacustris // J. Nat. Med. 2008. V. 62. Р. 328–331.
- Hagemann M., Henneberg M., Felde V., Drahorad S.L., Berkowicz S.M., Felix-Henningsen P. et al. Cyanobacterial diversity in biological soil crusts along a precipitation gradient, Northwest Negev Desert // Israel. Microb. Ecol. 2015. V. 70. Р. 219–230. https://doi.org/10.1007/s00248-014-0533-z
- Hirata K., Yoshitomi S., Dwi S., Iwabe O., Mahakhant A., Polchai J., Miyamoto K. Bioactivities of nostocine A produced by a freshwater cyanobacterium Nostoc spongiaeforme TISTR 8169 // J. Biosci. Bioeng. 2003. V. 95. Р. 512–517.
- Hirsch A.M. Hormonal regulation in plant-microbe symbioses (symposium remarks) // Biology of Plant-Microbe Interactions. 2004. V. 4. P. 389–390.
- Huang I.S., Zimba P.V. Cyanobacterial bioactive metabolites – A review of their chemistry and biology // Harmful Algae. 2019. V. 83. Р. 42–94. https://doi.org/10.1016/j.hal.2018.11.008
- Hussain A., Hasnain S. Phytostimulation and biofertilization in wheat by cyanobacteria // J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 2010. V. 38. Р. 85–92.
- Inoue-Sakamoto K., Nazifi E., Tsuji C., Asano T., Nishiuchi T., Matsugo S., Ishihara K., Kanesaki Y., Yoshikawa H., Sakamoto T. Characterization of mycosporine-like amino acids in the cyanobacterium Nostoc verrucosum // J. Gen. Appl. Microbiol. 2018. V. 64. Р. 203–211.
- Isayenkov S.V., Maathuis F.J.M. Plant salinity stress: many unanswered questions remain // Front. Plant Sci. 2019. V. 10. Р. 80.
- Isichei A.O. The role of algae and cyanobacteria in arid Iads // Arid Soil Res. аnd Rehabil. 1990. V. 4(1). P. 1–17.
- Jaki B., Orjala J., Heilmann J., Linden A., Vogler B., Sticher O. Novel extracellular diterpenoids with biological activity from the cyanobacterium Nostoc commune // J. Nat. Prod. 2000. V. 63. Р. 339–343.
- Jepson M.A., Clark M.A., Hirst B.H. Сell targeting by lectins: a strategy for mucosal vaccination and drug delivery // Adv. Drug Deliv. Rev. 2004. V. 56. Р. 511–525.
- Jia R.L., Li X.R., Liu L.C., Gao Y.H., Zhang X.T. Differential wind tolerance of soil crust mosses explains their micro-distribution in nature // Soil Biology and Biochemistry. 2012. V. 45. Р. 31–39. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2011.09.021
- Kajiyma S., Kanzaki H., Kawazu K., Kobayashi A. Nostofungicide, an atifungal lipopeptide from the fieldgrown terrestrial bluegreen alga Nostoc commune // Tetrahedron Lett. 1998. V. 39(22). P. 3737–3740.
- Kaushik P., Chauhan A. In vitro antibacterial activity of laboratory grown culture of Spirulina platensis // Indian J. Microbiol. 2008. V. 48. Р. 348–352.
- Kedem I., Treves H., Noble G., Hagemann M., Murik O., Raanan H., Oren N., Giordano M., Kaplan A. Keep your friends close and your competitors closer: novel interspecies interaction in desert biological sand crusts // Phycologia. 2021. V. 60. V. 419–426.
- Kultschar B., Llewellyn C. Secondary metabolites in cyanobacteria. InTech: Sources and Applications, 2018. 148 р. https://doi.org/10.5772/intechopen.75648
- Kumar A., Singh S., Gaurav A.K., Srivastava S., Verma J.P. Plant growth-promoting bacteria: biological tools for the mitigation of salinity stress in plants // Front. Microbiol. 2020. V. 11. Р. 1216.
- Kumar J., Parihar P., Singh R., Singh V.P., Prasad S.M. UVB induces biomass production and nonenzymatic antioxidant compounds in three cyanobacteria // J. Appl. Phycol. 2016. V. 28. Р. 131–140.
- Lacap-Bugler D.C., Lee K.K., Archer S., Gillman L.N., Lau M.C.Y., Leuzinger S., Lee C.K., Maki T., McKay C.P., Perrott J.K., de los Rios-Murillo A., Warren-Rhodes K.A., Hopkins D.W., Pointing S.B. Global diversity of desert hypolithic cyanobacteria // Front. Microbiol. 2017. V. 8. Р. 867. https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00867
- Lan S., Zhang Q., Wu L., Liu Y., Zhang D., Hu C. Artificially accelerating the reversal of desertification: Cyanobacterial inoculation facilitates the succession of vegetation communities // Environ. Sci. Technol. 2014. V. 48(1). Р. 307–315. https://doi.org/10.1021/es403785j PMID: 24303976
- Lee S.S., Gantzer C.J., Thompson A.L., Anderson S.H. Polyacrylamide efficacy for reducing soil erosion and runoff as influenced by slope // J. Soil Water Conserv. 2011. V. 66(3). Р. 172–177. https://doi.org/10.2489/jswc.66.3.172
- Li Y., Shao M., Horton R. Effect of polyacrylamide applications on soil hydraulic characteristics and sediment yield of sloping land // Procedia Environmental Sciences. 2011. V. 11. Р. 763–773. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2011.12.118
- Li Z., Xiao J., Chen C., Zhao L., Wu Z., Liu L., Cai D. Promoting desert biocrust formation using aquatic cyanobacteria with the aid of MOF-based nanocomposite // Sci. Total Environ. 2020. V. 15(708). Р. 134824. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134824
- Liu J., Shi B., Lu Y., Jiang H., Huang H., Wang G., et al. Effectiveness of a new organic polymer sand-fixing agent on sand fixation // Environ. Earth Sci. 2012. V. 65. Р. 589–595. https://doi.org/10.1007/s12665-011-1106-9
- Ma L.X., Led J.J. Determination by high field NMR spectroscopy of the longitudinal electron relaxation rate in Cu (II) plastocyanin form Anabaena variabilis // Am. Chem. Soc. 2000. V. 122. Р. 7823–7824.
- Machado de Lima N.M., Fernandes V.M.C., Roush D., Velasco Ayuso S., Rigonato J., Garcia-Pichel F. et al. The compositionally distinct cyanobacterial biocrusts from Brazilian savanna and their environmental drivers of community diversity // Front. Microbiol. 2019. V. 10. Р. 2798. https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02798
- Maestre F.T., MartõÂn N., DõÂez B., LoÂpez-Poma R., Santos F., Luque I. et al. Watering, fertilization, and slurry inoculation promote recovery of biological crust function in degraded soils // Microb. Ecol. 2006. V. 52(3). Р. 365–377. PMID: 16710791 https://doi.org/10.1007/s00248-006-9017-0
- Marinho-Soriano E., Bourret E. Effects of season on the yield and quality of agar from Gracilaria species (Gracilariaceae Rhodophyta) // Bioresour. Technol. 2003. V. 90. Р. 329–333.
- Marsšálek B., Zahradníˇcková H., Hronková M. Extracellular abscisic acid produced by cyanobacteria under salt stress // J. Plant Physiol. 1992. V. 139. Р. 506–508.
- McHugh T.A., Compson Z., van Gestel N., Hayer M., Ballard L., Haverty M., Hines J., Irvine N., Krassner D., Lyons T. et al. Climate controls prokaryotic community composition in desert soils of the Southwestern United States // FEMS Microbiol. Ecol. 2017. V. 93. Р. 116.
- Mehda S., Muñoz-Martín M.Á., Oustani M., Hamdi-Aïssa B., Perona E., Mateo P. Microenvironmental conditions drive the differential cyanobacterial community composition of biocrusts from the Sahara desert // Microorganisms. 2021. V. 9. Р. 487.
- Miao S., Anderson R.J., Allen T.M. Cytotoxic metabolites from the sponge Ianthella basta collected in Papua New Guinea // J. Nat. Prod. 1990. V. 53. Р. 1441–1446.
- Miralles I., Domingo F., Cantón Y., Trasar-Cepeda C., Leirós M.C., Gil-Sotres F. Hydrolase enzyme activities in a successional gradient of biological soil crusts in arid and semi-arid zones // Soil Biol. Biochem. 2012. V. 53. Р. 124–132.
- Moghtaderi A., Taghavi M., Rezaei R. Cyanobacteria in biological soil crust of chadormalu area, Bafq region in central Iran // Pakistan J. of Nutrition. 2009. V. 8 (7). Р. 1083-1092.
- Murik O., Oren N., Shotland Y., Raanan H., Treves H., Kedem I. et al. What distinguishes Cyanobacteria able to revive after desiccation from those that cannot: the genome aspect // Environ. Microbiol. 2017. V. 19. Р. 535–550.
- Murray B., Dailey M., Ertekin E., DiRuggiero J. Draft metagenomes of endolithic cyanobacteria and cohabitants from hyper-arid deserts // Microbiol. Resour. Announc. 2021. V. 10(30). P. e0020621. https://doi.org/10.1128/MRA.00206-21
- Nagatsu A., Kajitani H., Sakakibara J. Muscoride A: a new oxazole peptide alkaloid from freshwater cyanobacterium Nostoc muscorum // Tetrahedron Lett. 1995. V. 36. Р. 4097–4100.
- Nelson C., Giraldo-Silva A., Garcia-Pichel F. A Symbiotic nutrient exchange within the cyanosphere microbiome of the biocrust cyanobacterium, Microcoleus Vaginatus // ISME J. 2021. V. 15. Р. 282–292.
- Nemani R.R., Keeling C.D., Hashimoto H., Jolly W.M., Piper S.C., Tucker C.J., Myneni R.B., Running S.W. Climate-driven increases in global terrestrial net primary production from 1982 to 1999 // Science. 2003. V. 300. Р. 1560–1563.
- Nisha R., Kaushik A., Kaushik C.P. Effect of indigenous cyanobacterial application on structural stability and productivity of an organically poor semi-arid soil // Geoderma. 2007. V. 138(12). Р. 49–56. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2006.10.007
- Novakovskaya I.V., Patova E.N., Dubrovskiy Y.A., Novakovskiy A.B., Kulyugina E.E. Distribution of algae and cyanobacteria of biological soil crusts along the elevation gradient in mountain plant communities at the northern Urals (Russian European northeast) // J. Mt. Sci. 2022. V. 19. Р. 637–646. https://doi.org/10.1007/s11629-021-6952-7
- Oren A., Gunde-Cimerman N. Mycosporines and mycosporine-like amino acids: UV protectants or multipurpose secondary metabolites? // FEMS Microbiol. Lett. 2007. V. 269. Р. 1–10.
- Oren N., Raanan H., Kedem I., Turjeman A., Bronstein M., Kaplan A., Murik O. Desert cyanobacteria prepare in advance for dehydration and rewetting: the role of light and temperature sensing // Mol. Ecol. 2019. V. 28. Р. 2305–2320.
- Park C.-H., Li X., Jia R.L., Hur J-S. Effects of superabsorbent polymer on cyanobacterial biological soil crust formation in laboratory // Arid Land Res Manage. 2014. V. 29. Р. 55-71. https://doi.org/10.1080/15324982.2014.928835
- Park C.-H., Li X.R., Zhao Y., Jia R.L., Hur J-S. Rapid development of cyanobacterial crust in the field for combating desertification // PLoS ONE. 2017. V. 12(6). e0179903. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179903
- Patova E., Sivkov M., Patova A. Nitrogen fixation activity in biological soil crusts dominated by cyanobacteria in the Subpolar Urals (European North-East Russia) // FEMS Microbiology Ecology. 2016. V. 92(9). P. fiw131. https://doi.org/10.1093/femsec/fiw131
- Pointing S., Belnap J. Microbial colonization and controls in dryland systems. Nature reviews // Microbiology. 2012. V. 10. Р. 551–562. https://doi.org/10.1038/nrmicro2831
- Pointing S.B., Fierer N., Smith G.J.D., Steinberg P.D., Wiedmann M. Quantifying human impact on Earth’s microbiome // Nat. Microbiol. 2016. V. 1. Р. 16145. https://doi.org/10.1038/nmicrobiol.2016.145
- Pointing S.B., Buedel B., Convey P., Gillman L.L., Koerner C., Leuzinger S.S. et al. Biogeography of photoautotrophs in the high polar biome // Front. Plant Sci. Funct. Plant Ecol. 2015. V. 6. Р. 692. https://doi.org/10.3389/fpls.2015.00692
- Popova A.A., Rasmussen U., Semashko T.A., Govorun V.M., Koksharova O.A. Stress effects of cyanotoxin β-methylamino-L-alanine (BMAA) on cyanobacterial heterocyst formation and functionality // Env. Microbiol. Reports. 2018. V. 10. P. 369–377. https://doi.org/10.1111/1758-2229.12647
- Prasanna R.A., Sood A., Jaiswal S., Nayak S., Gupta V., Chaudhary V. Rediscovering cyanobacteria as valuable sources of bioactive compounds (review) // Appl. Biochem. Microb. 2010. V. 46. Р. 119–134.
- Prinsep M.R., Caplan F.R., Moore R.E., Patterson G.M.L., Smith C.D. Tolyphorin, a novel multidrug resistance reversing agent from the blue green algae Tolypothrix nodosa // J. Am. Chem. Soc. 1992. V. 114. Р. 385–387.
- Pushkareva E., Johansen J.R., Elster J. A review of the ecology, ecophysiology and biodiversity of microalgae in Arctic soil crusts // Polar Biol. 2016. V. 39. Р. 2227–2240. https://doi.org/10.1007/s00300-016-1902-5
- Pushkareva E., Pessi I.S., Namsaraev Z., Mano M.J., Elster J., Wilmotte A. Cyanobacteria inhabiting biological soil crusts of a polar desert: Sør Rondane Mountains // Antarct. Syst. Appl. Microbiol. 2018. V. 41. Р. 363–373. https://doi.org/10.1016/j.syapm.2018.01.006
- Ramirez M., Hernandez-Marine M., Mateo P., Berrendero E., Roldan M. Polyphasic approach and adaptative strategies of Nostoc cf. commune (Nostocales, Nostocaceae) growing on Mayan monuments // Fottea. 2011. V. 1. P. 73–86.
- Rastogi R.P., Sinha R.P. Biotechnological and industrial significance of cyanobacterial secondary metabolites // Biotechnol. Adv. 2009. V. 27. Р. 521–539.
- Raveh A., Carmeli S. Antimicrobial ambiguines from the cyanobacterium Fischerella sp. collected in Israel // J. Nat. Prod. 2007. V. 70. Р. 196–201.
- Rezanka T., Dembitsky V.M. Metabolites produced by cyanobacteria belonging to several species of the family Nostocaceae // Folia Microbiol. 2006. V. 51. P. 159–182.
- Rezanka T., Dembitsky V.M., Go J.V., Dor I., Prell A., Hanuš L. Sterol compositions of the filamentous nitrogen-fixing terrestrial cyanobacterium Scytonema sp. // Folia Microbiol. 2003. V. 48(3). Р. 357–360.
- Rice-Evans C.A., Miller N.J., Paganga G. Antioxidant properties of phenolic compounds // Trends Plant Sci. 1997. V. 2. Р. 152–159.
- Roncero-Ramos B., Muñoz-Martín M.Á., Chamizo S., Fernández-Valbuena L., Mendoza D., Perona E. et al. Polyphasic evaluation of key cyanobacteria in biocrusts from the most arid region in Europe // Peer J. 2019. V. 7. Р. 6169. https://doi.org/10.7717/peerj.6169
- Samolov E., Baumann K., Büdel B., Jung P., Leinweber P., Mikhailyuk T., Karsten U., Glaser K. Biodiversity of algae and cyanobacteria in biological soil crusts collected along a climatic gradient in Chile using an integrative approach // Microorganisms. 2020. V. 8(7). Р. 1047. https://doi.org/10.3390/microorganisms8071047
- Schwabe G.H. Blaualgenprobleme // Schweiz fur Hydrologie, Hydrographie, Hydrobiologie, Bazel. 1962. V. 2. P. 207-222.
- Sergeeva E., Liaimer A., Bergman B. Evidence for production of the phytohormone indole-3-acetic acid by cyanobacteria // Planta. 2002. V. 215. P. 229.
- Shigeichi K., Masashi A., Makoto H. Transformation of thylakoid membranes during differentiation from vegetative cell into heterocyst visualized by microscopic spectral imaging // Plant Physiol. 2013. V. 161. V. 3. P. 1321–1333.
- Silva-Stenico M.E., Silva C.S., Lorenzi A.S., Shishido T.K., Etchegaray A., Lira S.P. Non-ribosomal peptides produced by Brazilian cyanobacterial isolates with antimicrobial activity // Microbiol. Res. 2011. V. 166. Р. 161–175.
- Singh P.K., Pal S. Cyanobacteria in the polar regions: diversity, adaptation, and taxonomic problems. 2021. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822869-2.00013-X
- Singh R., Parihar P., Singh M., Bajguz A., Kumar J., Singh S., Singh V.P., Prasad S.M. Uncovering potential applications of cyanobacteria and algal metabolites in biology, agriculture and medicine: current status and future prospects // Front. Microbiol. 2017. V. 8. Р. 515.
- Singh S.P., Hader D.P., Sinha R.P. Cyanobacteria and ultraviolet radiation (UVR) stress: mitigation strategies // Age Res. Rev. 2010. V. 9. Р. 79–90.
- Skoupý S., Stanojković A., Pavlíková M., Poulíčková A., Dvorak P. New cyanobacterial genus Argonema is hiding in soil crusts around the world // Scientific Reports. 2022. Р. 7203. https://doi.org/10.1038/s41598-022-11288-4
- Sosa-Quintero J., Godínez-Alvarez H., Camargo-Ricalde S.L., Gutiérrez-Gutiérrez M., Huber-Sannwald E., Jiménez-Aguilar A. et al. Biocrusts in Mexican deserts and semideserts: a review of their species composition, ecology, and ecosystem function // J. Arid Environ. 2022. V. 199. Р. 104712. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2022.104712
- Steele J.H., Brink K.H., Scott B.E. Comparison of marine and terrestrial ecosystems: suggestions of an evolutionary perspective influenced by environmental variation // ICES J. Mar. Sci. 2019. V. 76. Р. 50–59.
- Stewart J.B., Bomemann V., Chen J.L., Moore R.E., Caplan F.R., Karuso H., Larsen L.K., Patterson G.M. Cytotoxic, fungicidal nucleosides from blue-green algae belonging to the Scytonemataceae // J. Antibiot. 1988. V. 41. Р. 1048–1056.
- Stirk W.A., Bálint P., Tarkowská D., Novákc O., Strnad M., Ördög V. Hormone profiles in microalgae: gibberellins and brassinosteroids // Plant Physiol. Biochem. 2013. V. 70. Р. 348–353.
- Stirk W.A., Ordog V., Staden J.V., Jager K. Cytokinins and auxin-like activity in Cyanophyta and microalgae // J. Appl. Phycol. 2002. V. 14. Р. 215–221.
- Temraleeva A.D. Cyanobacterial diversity in the soils of Russian dry steppesand semideserts // Microbiology. 2018. V. 87. Р. 249–260. https://doi.org/10.1134/s0026261718020169
- Valverde A., Makhalanyane T.P., Seely M., Cowan D.A. Cyanobacteria drive community composition and functionality in rocksoil interface communities // Mol. Ecol. 2015. V. 24. Р. 812–821. https://doi.org/10.1111/mec.13068
- Verma S., Thapa S., Siddiqui N., Chakdar H. Cyanobacterial secondary metabolites towards improved commercial significance through multiomics approaches // World J. Microbiol. Biotechnol. 2022. V. 38. https://doi.org/10.1007/s11274-022-03285-6
- Volk R.B., Furkert F.H. Antialgal, antibacterial and antifungal activity of two metabolites produced and excreted by cyanobacteria during growth // Microbiol. Res. 2006. V. 161(2). Р. 180–186.
- Wang J., Salem D.R., Sani R.K. Extremophilic exopolysaccharides: a review and new perspectives on engineering strategies and applications // Carbohydr. Polym. 2019. V. 205. Р. 8–26.
- Wang L., Kaseke K.F., Seely M.K. Effects of non-rainfall water inputs on ecosystem functions // WIREs Water. 2017. V. 4. P. e1179.
- Warren S.D. Biological soil crusts and hydrology in North American deserts // Biological soil crusts: Structure, function, and management. Berlin Heidelberg: Springer, 2003. Р. 327–337.
- Weber B., Wu D., Tamm A., Ruckteschler N., Rodríguez-Caballero E., Steinkamp J., Meusel H., Elbert W., Behrendt T., Sörgel M. et al. Biological soil crusts accelerate the nitrogen cycle through large NO and HONO emissions in Drylands // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2015. V. 112. Р. 15384–15389.
- W i S., Lacap-Bugler D., Lau M., Caruso T., Rao S., De los Ríos A., Archer S., Chiu J., Higgins C., Van Nostrand J., Zhou J., Hopkins D., Pointing S. Taxonomic and functional diversity of soil and hypolithic microbial communities in Miers Valley, McMurdo dry Valleys, Antarctica // Frontiers in Microbiology. 2016. V. 7. Р. 1642. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.01642
- West N.E. Structure and function of soil microphysics crusts in wild land ecosystems of arid and semiarid regions // Adv. Ecol. Res. 1990. V. 20. Р. 179–223.
- Wierzchos J., Ríos A.D.L., Ascaso C. Microorganisms in desert rocks: the edge of life on Earth // Int. Microbiol. 2012. V. 15. Р. 173–183. https://doi.org/10.2436/20.1501.01.170
- Williams L., Loewen-Schneider K., Maier S., Büdel B. Cyanobacterial diversity of western European biological soil crusts along a latitudinal gradient // FEMS Microbiol. Ecol. 2016. V. 92 Р. 157. https://doi.org/10.1093/femsec/fiw157
- World Reference Base for soil resources 2014: international soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. FAO UNESCO, 2014.
- Wu Y., Rao B., Wu P., Liu Y., Li G., Li D. Development of artificially induced biological soil crusts in fields and their effects on top soil // Plant Soil. 2013. V. 370. Р. 115–124. https://doi.org/10.1007/s11104-013-1611-6
- Yadav R.K., Tripathi K., Varghese E., Abraham G. Physiological and proteomic studies of the cyanobacterium anabaena sp. acclimated to desiccation stress // Curr. Microbiol. 2021. V. 78. Р. 2429–2439.
- Yonter G. Effects of polyvinylalcohol (PVA) and polyacrylamide (PAM) as soil conditioners on erosion by runoff and by splash under laboratory conditions // Ekoloji. 2010. V. 19. Р. 35–41.
- Zahradnıckova H., Budijovice C., Polinska M. High-performance thin-layer chromatographic and high-performance liquid chromatographic determination of abscisic acid produced by cyanobacteria // J. Chromatogr. A. 1991. V. 555. Р. 239–245.
- Zhang B., Li R., Xiao P., Su Y., Zhang Y. Cyanobacterial composition and spatial distribution based on pyrosequencing data in the Gurbantunggut desert, northwestern China // J. Basic Microbiol. 2015. V. 56, Р. 308–320. https://doi.org/10.1002/jobm.201500226
- Zhang X.C., Li J.Y., Liu J.L., Yuan C.X., Li Y.N., Liu B.R. et al. Temporal shifts in cyanobacterial diversity and their relationships to different types of biological soil crust in the southeastern Tengger desert // Rhizosphere. 2021. V. 17. Р. 100322. https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2021.100322
- Zhang Z., Wang K., Hao F., Shang J., Tang H., Qiu B. New types of atp-grasp ligase are associated with the novel pathway for complicated mycosporine-like amino acid production in desiccation-tolerant cyanobacteria // Environ. Microbiol. 2021. V. 23 Р. 6420–6432.
Қосымша файлдар