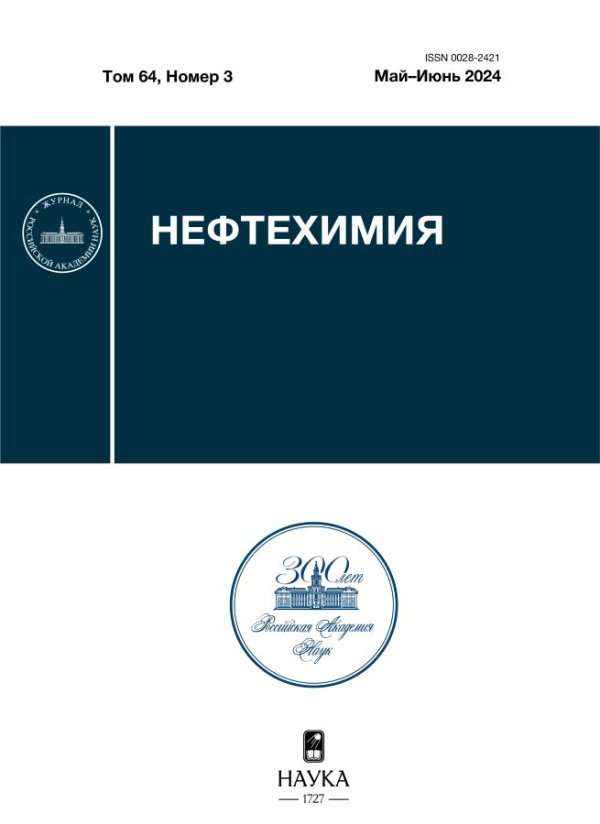Газификация лигнина, модифицированного кластерами железа, под действием микроволнового излучения
- Authors: Константинов Г.И.1, Манекина А.В.1, Арапова О.В.1, Чистяков А.В.1, Цодиков М.В.1
-
Affiliations:
- Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН
- Issue: Vol 64, No 3 (2024)
- Pages: 232-244
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0028-2421/article/view/275192
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0028242124030056
- EDN: https://elibrary.ru/LGYJJK
- ID: 275192
Cite item
Full Text
Abstract
В нашей работе предлагается комплексный подход по переработке лигнина в водород или синтез-газ, включающий в себя конверсию получаемых из лигнина метана, углекислого газа и пиролизного масла под действием микроволнового излучения (МВИ). Чтобы лигнин эффективно поглощал микроволновое излучение, его пропитывали нитратом железа(III). Выход синтез-газа составил около 24%, мольное соотношение H2 : CO = 2 : 1. Для увеличения выхода водорода полученные метан, углекислый газ и пиролизное масло конвертировали в синтез-газ под воздействием МВИ. В качестве поглотителя излучения был использован карбонизованный остаток лигнина (биоуголь), способный под действием МВИ нагреваться до 900°C менее чем за одну минуту. Путем конверсии полученных из лигнина метана, углекислого газа и пиролизноого масла удалось увеличить выход водорода с 9.2 до 13.5%.
Keywords
Full Text
В современной промышленности наметился устойчивый тренд к переходу от ископаемых энергоносителей к возобновляемым ресурсам. Современные экологические требования и рекомендации по энергоносителям, а также разработка углеродно-нейтральных видов топлива ускоряют развитие альтернативного транспортного топлива, производимого, в том числе, из растительного сырья. Биомасса растений – возобновляемый ресурс, имеющий большой потенциал в сокращении глобальных выбросов углерода [1]. Среди трех основных компонентов растений таких как лигнин, целлюлоза и гемицеллюлоза, лигнин является наиболее химически и механически прочным материалом, придающим растениям структурную целостность и механическую прочность стволов и стеблей. Во всем мире ежегодно производится около 170 млн т лигнина [2], являющегося нежелательным компонентом в целлюлозно-бумажной промышленности и традиционно сжигаемого или остающегося в отвалах заводов. Переработка биомассы в материалы с добавленной стоимостью необходима для экономики замкнутого цикла.
С химической точки зрения лигнин — трехмерный органический полимер, состоящий из повторяющихся ароматических структур, содержащих большое количество химических связей. В последние десятилетия конверсия лигнина в синтез-газ или смесь жидких кислородсодержащих аренов (пиролизное масло) – основа активных исследований с использованием различных методов, которые в основном можно разделить на биологические и термохимические процессы [3–19].
Водород считается одним из наиболее важных энергоносителей будущего, поскольку его можно получать из возобновляемых ресурсов и, тем самым, сокращать выбросы CO2 в атмосферу. Основной метод производства водорода – паровая конверсия природного газа или других ископаемых ресурсов. Паровая конверсия же углеводородов требует большого количества энергии и приводит к выбросам значительного количества CO2 в атмосферу [4]. Альтернативным источником для получения водорода является биомасса, которая считается экологически чистым источником энергоносителей с практически нулевыми выбросами диоксида углерода [5]. Разработаны различные методы преобразования биомассы в водород. Наиболее рекомендуемые – термохимическая и биохимическая конверсии [6–9]. В ряду термохимических процессов конверсии биомассы наиболее перспективными для получения синтез-газа, богатого водородом, являются газификация и ожижение [10–12].
Среди известных способов газификации биомассы [13–16], направленных на получение водорода, наиболее перспективны плазменные методы, благодаря их высокой толерантности к чистоте сырья, селективности нагрева, а также образованию „горячих точек“ на поверхности материалов при наложении электромагнитного поля, что позволяет достигать оптимальных условий процессов за короткие промежутки времени [17–19]. Внедрение процессов плазменной конверсии биомассы потенциально может обеспечить производство химических веществ с добавленной стоимостью наряду с H2, а производство ими опасных загрязняющих веществ незначительно [20–22]. Плазменные процессы, совмещенные с селективным выделением водорода, также могут позволить получить водород высокой чистоты [23, 24]. Плазма – четвертое агрегатное состояние вещества, в зависимости от ее характеристик, таких как электронная плотность, температура и уровень энергии, подразделяется на тепловую и нетепловую плазму. Плазменные технологии при наложении электромагнитного поля на реакционный объем активируют газ электрическим разрядом, что приводит к образованию отрицательно заряженных электронов, положительно заряженных ионов, возбужденных частиц, фотонов, что недоступно при традиционных термохимических процессах [25].
В настоящей статье мы представляем комплексный процесс, включающий плазменно-каталитический пиролиз лигнина, пропитанного нитратом железа Fe(NO3)3, под действием МВИ в водородсодержащий газ, пиролизное масло и биоуголь, а также последующую газификацию пиролизного масла и метана для получения синтез-газа с высоким содержанием H2. Отличительная особенность работы – генерирование плазмы непосредственно в теле лигнина под действием МВИ за счет нанесенных на него металлических частиц [26, 27].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе мы использовали оригинальную лабораторную установку, позволяющую перерабатывать различные органические субстраты под действием микроволнового излучения (рис. 1). В типовом эксперименте лигнин загружали в кварцевый реактор (3), сквозь который через волновод (2) подавали МВИ от магнетрона (1). Остаточное излучение поглощали оконечной нагрузкой, представляющей собой U-образную трубку с проточной водой.
Рис. 1. Экспериментальная установка: 1 – блок управления магнетроном, 2 – волновод, 3 – кварцевый реактор, 4 – термопара, 5 – U-образный сосуд для абсорбции остаточного МВИ, 6 – регулятор газового потока, 7 – дефлегматор, 8 – термометр, 9 – холодильник Либиха, 10 – хроматограф, 11 – ПК, 12 – баллон с газом-носителем для хроматографа, 13 – пробоотборник для жидких продуктов
Для сушки и пиролиза лигнина в реактор (3) через регулятор расхода газа (6) подавали Ar; полученные продукты, представляющие собой парогазовую смесь, удаляли из реактора через дефлегматор (7). Температуру парогазовой смеси контролировали термометром (8). После дефлегматора (7) парогазовая смесь продуктов реакции поступает в холодильник (9) с водяным охлаждением. Из холодильника потоки газа и жидкости поступают в сепаратор (13), откуда газовый поток подается на хроматографический анализ (10).
В качестве газа-элюента для пиролиза лигнина использовали аргон (осч. ч.). Гидролизный лигнин получен от ООО „Кировский биохимический завод“, Россия. С целью формирования кластеров железа на поверхности лигнина был использован нитрат железа(III) Fe(NO3)3‧9H2O („Ленреактив“, Россия). Нанесение нитрата железа на лигнин осуществляли методом пропитки по влагоемкости из водных растворов таким образом, чтобы концентрация железа в лигнине составляла 0.5 мас.%. После пропитки лигнина раствором нитрата железа с заданной концентрацией влажный лигнин помещали непосредственно в реактор и облучали микроволнами. Кривая изменения температуры реакционной зоны при воздействии на лигнин, пропитанный нитратом железа, микроволнового излучения, представлена на рис. 2. На этом рисунке можно выделить четыре стадии протекания процесса: I – нагрев лигнина, пропитанного водным раствором нитрата железа(III) до температуры кипения воды; II – испарение воды, разложение нитрата железа(III) и нагрев лигнина до температуры крекинга; III – крекинг лигнина с выделением водорода, легких углеводородов и пиролизного масла; IV – прекращение выделения пиролизного масла и резкое возрастание температуры.
Рис. 2. Кривая изменения температуры реакционной зоны при воздействии на лигнин, пропитанный нитратом железа, микроволнового излучения
Вся вода, полученная на стадии II, была отобрана в отдельный приемник и не учитывалась при расчете материального баланса конверсии лигнина.
Газообразные продукты реакции анализировали методом газовой хроматографии на хроматографе Кристаллюкс-4000М (ООО „НПФ Мета-Хром“). Анализ газообразных углеводородов проводили с использованием насадочной колонки 1.5 м, заполненной гранулами (0.5 мм) α-Al2O3 с 15% нанесенного сквалана; детектор – пламенно-ионизационный, элюент – Не (марка 6.0, ООО „Баллонгаз“). Содержание Н2, СН4, СО и СО2 определяли с использованием насадочной колонки, заполненной углеродной фазой марки СКТ (ООО „НПФ Мета-Хром“) и детектора по теплопроводности, в качестве элюента использовали Ar (марка ВЧ 4.8, ООО „Баллонгаз“).
Анализ пиролизного масла осуществляли с помощью двумерного газового хроматографа/времяпролетного масс-спектрометра (GC×GC-TOFMS) Leco Pegasus® BT 4D. Используемые колонки: 1 – фаза Rxi-5Sil (30 м × 0.25 мм × 0.25 мкм), 2 – фаза Rxi-17Sil (1.7 м × 0.10 мм × 0.10 мкм). Условия разделения: газ-носитель гелий (марка 6.0, ООО „Баллонгаз“), скорость потока через колонку 1 мл/мин, деление потока 1 : 500, обдув инжектора (септы) 3 мл/мин, температура инжектора 300°С; температурный режим 1-й печи – начальная температура 40°С (2 мин), нагрев со скоростью 3°C/мин до 320°C, выдержка 5 мин, температура 2-й печи и модулятора поддерживается на 6 и 21°С выше, чем температура 1-й печи, соответственно: время модуляции на модуляторе – 6 с. Режим работы масс-спектрометра: ионизация электронами (70 эВ), температура ионного источника 280°С, диапазон детектируемых масс – 35–520, скорость регистрации 100 спектров в секунду. Обработку результатов анализа проводили с использованием программного обеспечения CromaTOF (Leco).
Исследованы текстурные характеристики углеродного остатка пиролиза лигнина методом адсорбции/десорбции азота. Стадия предварительной подготовки образцов включала в себя термическую дегазацию образцов при температуре 350°С и давлении 10 Па в течение ночи. После этого образцы анализировали по стандартной методике на приборе Belsorp miniX (Microtrac Retsch GmbH, Германия).
Изученные изотермы адсорбции образцов в соответствии с классификацией ИЮПАК в зависимости от силы взаимодействия между поверхностью образца и адсорбтивом, а также наличия или отсутствия пор относятся к изотерме I типа в области относительно низких относительных давлений, и к изотерме IV типа в области высоких относительных давлений. Таким образом, образец содержит как микро-, так и мезопоры. Программное обеспечение позволяет для данных типов образцов с высокой точностью проанализировать: суммарную удельную площадь поверхности по BET (в соответствии с ISO 9277 приложение С, SBET); суммарную удельную площадь поверхности по t-графику (в соответствии с ISO 15901-3, St-plot) для сравнения результатов, полученных при анализе методом BET; распределение мезопор методом BJH и их средний размер; общий объем пор (при относительном давлении P/P0 = 0.99); площадь наружной поверхности (SExt). В качестве стандартной изотермы для использования в методе t-plot и BJH-plot использовали изотерму аморфного графитового угля.
Мессбауэровские спектры 57Fe получали на спектрометре электродинамического типа Wissel в интервале температур 16–300 K с использованием гелиевого криостата CCS-850, Janis с температурным контроллером компании Lake Shore Cryotronics (Model 332). Точность поддержания температуры была не менее 0.1 K. В качестве источника излучения использовали 57Co(Rh) активностью 1.1 ГБк. Изомерные сдвиги отсчитывали от центра магнитной сверхтонкой структуры металлического железа. Мессбауэровские спектры обрабатывали по стандартным программам методом наименьших квадратов (LOREN, ИХФ РАН; Normos Distribution, WissEl GmbH) в предположении лоренцевой формы линии.
Регистрацию ИК-спектров проводили в режиме нарушенного полного внутреннего отражения в диапазоне 4000–600 см–1 (кристалл ZnSe, разрешение 2 см–1, усреднение по 50 сканам) на ИК-Фурье-спектрометре IFS 66v/s (Bruker, Германия).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
За первые 20 мин воздействия МВИ на лигнин (стадия 1), модифицированный 0.5 мас.% Fe, было получено три фракции продуктов: газообразная (выход 18.6%), жидкая (выход 29.1%) и твердая (выход 52.3%) (табл. 1). Газообразные продукты состояли в основном из водорода, метана, моно- и диоксида углерода (табл. 2). В полученных газообразных продуктах молекулярное соотношение компонентов Н2 : СО равно 1.7 : 1. Метан и углекислый газ, содержание которых в газообразных продуктах составляет 14.4 и 19.6 об.% соответственно, были использованы для дальнейшей совместной переработки в синтез-газ.
Таблица 1. Выход продуктов пиролиза лигнина
Стадия № | Время облучения, мин | Выход газообразных продуктов, % | Выход жидких продуктов, % | Карбонизованный лигнин, % |
1 | 20 | 18.6 | 29.1 | 52.3 |
2 | 40 | 19.1 | – | 80.9 |
3 | 60 | 13.2 | – | 86.8 |
Суммарно за 3 стадии | 0–60 | 34.2 | 29.1 | 36.7 |
Таблица 2. Состав газообразных продуктов
Состав, об. % | Время облучения, мин | ||
20 | 40 | 60 | |
Н2 | 40.3 | 9.1 | 3.8 |
СН4 | 14.4 | 9.3 | 2.5 |
С2Н6 | 0.5 | – | – |
С2Н4 | 1.2 | – | – |
С3Н8 | 0.2 | – | – |
С3Н6 | 0.4 | – | – |
СО | 23.5 | 59.9 | 71.3 |
СО2 | 19.6 | 21.7 | 22.4 |
Полученные жидкие продукты были сепарированы путем отстаивания на водную и органическую фазы. Анализ водной фазы методом ГХхГХ-МС позволил обнаружить производные фенолов и бисфенолов, чьи суммарные доли в общем ионном токе органических соединений составили около 30 и 60% соответственно. Органическая фаза представлена полициклическими аренами и алкилзамещенными фенолами, чья суммарная доля в общем ионном токе составила около 90%; остальные соединения не были идентифицированы методом ГХхГХ-МС.
Повторное воздействие МВИ на биоуголь (стадия 2), полученный после первых 20 мин облучения лигнина (стадия 1), привело к получению дополнительного количества газообразных продуктов (19.1%), которые состоят из водорода, метана и оксидов углерода (табл. 1, 2). Содержание водорода в полученных газах (стадия 2) снизилось более чем в 4 раза по сравнению с содержанием водорода на стадии 1. Доля монооксида углерода в газах (стадия 2), напротив, увеличилась в два раза. После третьего 20-минутного интервала воздействия МВИ на биоуголь, полученный на стадии 2, в газообразных продуктах доля водорода и метана снизились, а доля СО возросла до 71.3%. Возрастание содержания монооксида углерода в продуктах реакции обусловлено высоким начальным содержанием кислорода в лигнине – 28.9% (табл. 3). При температуре реакции 800–900°C интенсифицируется процесс крекинга, что приводит к образованию моно- и диоксида углерода; вероятно, диоксид углерода взаимодействует с углеродом с образованием дополнительного количества СО. Учитывая то, что скорость газа элюента была одинакова во всех трех последовательных опытах, а содержание СО2 в реакционных газах изменилось менее чем на 3%, можно заключить, что количество получаемого СО2, вероятно, зависит от времени контакта газообразных продуктов с биоуглем.
Таблица 3. Элементный состав исходного и карбонизованного лигнина
Время облучения, мин | Состав, мас.% | |||
С | Н | O | Прочие | |
0 (исходный лигнин) | 58.1 | 5.4 | 28.9 | 7.6 |
20 | 63.3 | 2.1 | 20.1 | 14.5 |
40 | 66.2 | 0.8 | 15.1 | 18.0 |
60 | 69.7 | 0.3 | 9.3 | 20.7 |
Таблица 4. Поверхностные характеристики исследуемых образцов
Биоуголь полученный после действия МВИ на 0.5 Fe / лигнин, мин | SBET, м2/г | St-plot, м2/г | Smicro, м2/г | Smeso, м2/г | Sеxt, м2/г | Vtotal, см3/г | Vmicro, см3/г | Vmeso, см3/г | d, нм |
20 | 269 | 264.99 | 232.87 | 34.26 | 1.35 | 0.1721 | 0.09840 | 0.0737 | 8.17 |
40 | 323 | 315.98 | 275.12 | 43.54 | 4.25 | 0.2398 | 0.1128 | 0.127 | 11.95 |
60 | 410 | 399.93 | 312.40 | 85.73 | 11.83 | 0.4125 | 0.1231 | 0.2894 | 14.05 |
Полученный результат показывает, что из исходного лигнина, после трех последовательных экспериментов по 20 мин каждый, удается извлечь бóльшую часть водорода, полностью удалить смолы и летучие соединения.
Данные элементного анализа подтверждают высказанную гипотезу о высокой степени извлечения водорода из лигнина (табл. 3). Содержание водорода в ходе переработки лигнина в биоуголь снижается с 5.4 до 0.3 мас.%, т.е. за 60 мин воздействия МВИ на лигнин удается извлечь до 98% содержащегося в нем водорода. При этом следует отметить, что основную часть водорода удается извлечь уже за первые 20 мин эксперимента, поэтому для дальнейшего масштабирования и оценки экономической части процесса следует принимать данный параметр во внимание. Значение содержания кислорода в биоугле также значительно снижается по сравнению с его содержанием в исходном лигнине, что подтверждает экспериментальные данные об интенсивном взаимодействии кислорода и углерода на стадии 2 и стадии 3. В состав „Прочие“ (табл. 3) входят исходный оксид железа(III), минеральные включения лигнина, накопленные за время жизни дерева, и диоксид кремния (SiO2), который попадает в массу лигнина при его хранении на полигонах промышленных предприятий.
ИК-спектр лигнина с 0.5% железа представлен самыми интенсивными полосами в области 950–1300 см–1 (рис. 3), которые принадлежат валентным и деформационным колебаниям в узлах С–О–С, причем в более длинноволновом участке этого диапазона (1000–1100 см–1) обычно лежат полосы от алкильных связей –О–С(Alk) и С–ОН, а выше по волновому числу (1200–1300 см–1) расположены полосы от связей –О–Ph. Ароматические кольца в структуре лигнина можно идентифицировать по валентным колебаниям (νС–С) в области 1600–1500 см–1, а также по области ниже 900 см–1, где располагаются полосы от деформационных колебаний (δССН) ароматических колец, крайне чувствительные к изомерии замещения. Высокая интенсивность полос скелетных колебаний ароматических колец νС–С: 1514 и 1611 см–1 и очень малая интенсивность полос деформационных колебаний δССН: 812 и 855 cм–1 является указанием к наличию в структуре лигнина большого числа полизамещенных и полное отсутствие монозамещенных ароматических колец.
Рис. 3. ИК-спектры лигнина до и после обработки МВИ
В области 3400 см–1 лежит интенсивная полоса от ОН-связей при алкильных или фенильных группах лигнина. В области 2860–300 см–1 проявляются несколько полос от валентных колебаний связей СН при sp3- и sp2-гибридизованных углеродных атомах, а полосы выше 3000 см–1 относятся к валентным колебаниям связей СН в ароматических кольцах. Соответствующие деформационные колебания в насыщенных группах СН2 и СН3 лежат в области 1463–1367 см–1. Содержание в структуре лигнина альдегидных групп отражается в ИК-спектре появлением полосы при 1713 см–1 от валентных колебаний связей (νС=О).
Спектры твердых остатков после деструкции лигнина под влиянием МВИ через 20, 40 и 60 мин воздействия значительно отличаются от спектра исходного лигнина с железом (рис. 3). В спектре через 20 мин обработки МВИ исчезают все полосы валентных колебаний связей О–Н и С–Н. Максимумы полос от связей С–О (1000–1300 см–1) меняют относительную интенсивность. В спектре остаются полосы, характеризующие ароматическое кольцо. В образце с временем обработки МВИ 40 мин еще больше уменьшается интенсивность полос от связей С–О–С. Подобная динамика наблюдается и для образца со временем обработки 60 мин: остаются широкие полосы при 1500 и 1600 см–1 от валентных колебаний ароматического кольца, при 875 см–1 – от деформационных колебаний, а при 1020 см-1 остаются связи С-О-С. При этом, вероятнее всего, атом углерод в этих связях, находится при ароматическом кольце, т.к. в спектре отсутствуют признаки валентных и деформационных колебаний связей СН2 и СН3. Кроме того, рост общего фона поглощения в длинноволновой области спектра (к 600 см–1) указывает на высокое содержание окисленных форм в данном материале и на присутствие оксидов металлов. Такие изменения в спектре свидетельствуют о существенном преобразовании структуры лигнина в результате деструкции, основными структурными элементами твердого продукта разложения лигнина остаются замещенные ароматические кольца.
Текстурные характеристики биоугля, получаемого на стадиях 1–3, были изучены методом адсорбции азота. После 20 мин воздействия МВИ на лигнин образуется биоуголь с удельной поверхностью, равной 269 м2/г, дальнейшее воздействие МВИ на биоуголь приводит к увеличению удельной поверхности до 410 м2/г. Следует отметить, что при дальнейшем воздействии МВИ на биоуголь не наблюдалось видимого изменения значения удельной поверхности биоугля. За 60 мин конверсии лигнина под действием МВИ удается получить биоуголь с объемом микропор 0.1231 мл/г, объемом мезопор 0.2894 мл/г и средним диаметром мезопор 14 нм. Средний диаметр пор активированных углей находится в интервале 0.5–2.5 нм. Чтобы преодолеть ограничения, связанные с узким распределением размеров пор традиционных активированных углеродных материалов, и достичь широких возможностей адаптации к адсорбции крупных молекул, можно предложить использовать полученный биоуголь. В получаемом биоугле средний диаметр пор сравним со средним диаметром пор в цеолитах, например, цеолит 13Х обладает диаметром пор 1 нм [28–30]. По причине широкого распределения пор по диаметрам биоуголь из лигнина не может быть использован для получения азота из воздуха, как применяют углеродные молекулярные сита с размером пор 0.4–0.9 нм, однако имеет потенциал в адсорбции углекислого газа и меркаптанов.
Известно [31–33], что микропоры могут являться псевдоконденсаторами для накопления электрического заряда при воздействии МВИ на материал. Поэтому можно предположить, что наблюдаемое увеличение суммарного объема микропор должно приводить к увеличению способности биоугля поглощать МВИ и способствовать возникновению плазмы в реакторе.
Наличие оксидов железа в материалах также может приводить к увеличению поглощения ими МВИ [34–36]. Исходный лигнин имеет природные включения металлических соединений, однако их наличие не оказывает видимого влияния на поглощение лигнином микроволновой энергии. Нанесение 0.5 мас.% Fe на лигнин, приводит к резкому увеличению способности такого материала поглощать МВИ. По данным мессбауэровской спектроскопии (рис. 4), в биоугле после 60 мин воздействия МВИ железо представлено суперпарамагнитными кластерами оксида железа (Fe3+) в высокоспиновом состоянии [37, 38]. Увеличение поглощения МВИ материалами, содержащими ионы суперпарамагнитного железа (Fe3+), хорошо согласуется с литературными данными [36–39].
Рис. 4. Мессбауэровский спектр биоугля по 60 мин действия МВИ при Т = 300 К
Биоуголь, полученный после 20 мин воздействия микроволнового излучения (МВИ) на лигнин, модифицированный 0.5 мас.% Fe(III) (стадия 1), обладает способностью к поглощению микроволнового излучения. При действии МВИ на биоуголь, полученный после 20 мин эксперимента по конверсии лигнина (стадия 1), наблюдается рост температуры реакционной зоны (рис. 5). Температура реактора достигает 800°C за 89 с. После 40 мин воздействия МВИ на биоуголь (стадия 2) время достижения реактором 800°C снижается до 73 с. Биоуголь, получаемый после 60 мин действия МВИ (стадия 3), обладает самой высокой скоростью нагрева, что хорошо согласуется с гипотезой об увеличении объема микропор материала и, как следствие, с увеличением интенсивности поглощения им МВИ.
Рис. 5. Температурные профили нагрева биоугля под различным временем воздействия
Процесс конверсии лигнина под действием МВИ может быть направлен на получение водорода или синтез-газа с последующей утилизацией биоугля, например в качестве топлива [40, 41] или удобрения [42, 43]. Однако, как показывают полученные результаты, возможна дальнейшая карбонизация биоугля с получением углеродных материалов, обладающих сорбционными свойствами или способностью к поглощению МВИ.
Перспективным направлением использования таких биоуглей является их применение в качестве катализатора для плазменно-каталитической переработки органического сырья. Отличительная особенность таких каталитических систем – их высокая устойчивость к каталитическим ядам, например соединениям серы и азота. Высокая толерантность к каталитическим ядам биоуглей обусловлена тем, что при действии МВИ плазма генерируется в микропорах биоуглей, а не конкретными металлическими активными компонентами, которые могут взаимодействовать с соединениями серы или азота.
В настоящей работе мы использовали полученный биоуголь для углекислотной конверсии метана и пиролизного масла, получаемых в ходе конверсии лигнина. Цель такого процесса заключается в увеличении количества получаемого молекулярного водорода с единицы массы лигнина.
Исходная смесь для конверсии состояла из 43 об.% метана и 57 об.% углекислого газа, что соответствует соотношению данных газов в продуктах конверсии лигнина на стадии 1 (табл. 1). Проведенные эксперименты показывают высокую активность биоугля в углекислотной конверсии метана (рис. 6). Конверсия метана составила примерно 68% при 800°C. Содержание водорода в реакционных газах составило 31–33 об.%. Состав получаемого синтез-газа H2 : CO составил 1 : 1.2.
Рис. 6. Зависимость состава выходящего из реактора газа от времени эксперимента. Исходная смесь: 43 об.% метана и 57 об.% углекислого газа, температура реактора 800°C, катализатор – биоуголь (стадия 3)
Необходимо отметить, что, примерно, после 800 с непрерывной подачи смеси СО2 + СН4 в реактор наблюдается снижение активности катализатора и увеличение содержания исходных метана и углекислого газа в выходящем из реактора газе. Снижение активности катализатора объясняется накоплением на поверхности биоугля углерода, который блокирует микропоры и препятствует возникновению плазмы. Похожие явления наблюдались ранее при переработке метана под действием МВИ. Обработка биоугля парами воды под действием МВИ при температуре 600–800°C, позволяет восстановить активность системы и использовать такой подход циклично.
В ходе углекислотной конверсии пиролизного масла под действием МВИ удалось достичь выхода молекулярного водорода 2.4 мас.%. Следует отметить, что степень конверсии пиролизного масла существенно зависит от соотношения загружаемых в реактор биоугля и пиролизного масла (рис. 7). При массовом соотношении биоугля к пиролизному маслу до 3 : 1 наблюдалось неполное превращение пиролизного масла; часть просто отгонялась из реактора в результате нагрева. При массовом соотношении биоугля к пиролизному маслу от 4 : 1 жидкие органические продукты получены не были; пиролизное масло превращалось в газообразные продукты и воду. Состав газообразных продуктов практически не зависел от соотношения загружаемых биоугля и пиролизного масла и был представлен водородом (55–65 об.%), метаном (10–14 об.%), монооксидом углерода (13–24 об.%) и диоксидом углерода (5–9 об.%).
Рис. 7. Зависимость конверсии пиролизного масла и выхода водорода от массового соотношения загружаемых в реактор биоугля и пиролизного масла
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложен новый интегрированный процесс получения H2 или синтез-газа, пиролизного масла и биоугля из лигнина под действием МВИ. С целью повышения способности лигнина к поглощению МВИ его сначала пропитывают нитратом железа(III), а затем проводят его плазменно-каталитический пиролиз в инертной атмосфере под действием МВИ. Результаты показывают, что в течение первых 20 мин процесса плазменно-каталитического пиролиза выходы синтез-газа и пиролизного масла были максимальными и составляли 18.6 и 29.1% соответственно. Максимальное содержание водорода в получаемом газе было достигнуто после 20 мин воздействия МВИ на лигнин и составило 40.3 об.%. Кроме газообразных продуктов и пиролизного масла, из лигнина был получен биоуголь с выходом 36.7%, способность которого поглощать микроволновое излучение достигла максимума после 60 мин воздействия МВИ. Обнаружена значительная трансформация структуры лигнина в результате разрушения под действием МВИ. Основные структурные элементы полученного биоугля обнаружены в виде алкилзамещенных ароматических колец. Железо в структуре биоугля представлено высокоспиновыми суперпарамагнитными кластерами (Fe3+).
Установлено, что применение биоуголя, полученного после плазменно-каталитического пиролиза лигнина, позволяет осуществлять углекислотную конверсию метана и пиролизного масла под действием МВИ. Путем конверсии полученных из лигнина метана, углекислого газа и пиролизного масла, удалось увеличить выход водорода с 9.2 до 13.5%.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 21-13-00457).
БЛАГОДАРНОСТИ
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП „Аналитический центр проблем глубокой переработки нефти и нефтехимии“ ИНХС РАН.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Цодиков М.В. является членом редколлегии журнала „Нефтехимия“, остальные авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.
ВКЛАД АВТОРОВ
Константинов Григорий Игоревич провел плазменно-каталитические эксперименты, хроматографический анализ газообразных продуктов, написание статьи.
Манекина Алина Владимирована провела нанесение хромсодержащих кластеров на поверхность лигнина, систематизировала полученные данные.
Арапова Ольга Владимировна провела исследования методом ИК-спектроскопии и осуществила интерпретацию спектров.
Чистяков Андрей Валерьевич провел плазменно-каталитические эксперименты, осуществил финальную правку статьи.
Цодиков Марк Вениаминович формулировка основных идей, результатов и исследования, обобщения и выводы.
About the authors
Григорий Игоревич Константинов
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН
Author for correspondence.
Email: chistyakov@ips.ac.ru
ORCID iD: 0000-0002-2579-0083
к.х.н.
Russian Federation, МоскваАлина Владимировна Манекина
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН
Email: chistyakov@ips.ac.ru
ORCID iD: 0009-0005-7679-6871
инженер
Russian Federation, МоскваОльга Владимировна Арапова
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН
Email: chistyakov@ips.ac.ru
ORCID iD: 0000-0002-3397-5539
к.х.н.
Russian Federation, МоскваАндрей Валерьевич Чистяков
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН
Email: chistyakov@ips.ac.ru
ORCID iD: 0000-0002-4443-7998
к.х.н.
Russian Federation, МоскваМарк Вениаминович Цодиков
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН
Email: chistyakov@ips.ac.ru
ORCID iD: 0000-0002-8253-2945
д.х.н., проф.
Russian Federation, МоскваReferences
- Zhou M., Xu J., Jiang J., Sharm B.K. A review of microwave assisted liquefaction of lignin in hydrogen donor solvents: effect of solvents and catalysts // Energies. 2018. V. 11. № 11. P. 2877–2932. https://doi.org/10.3390/en11112877
- Roy R., Rahman M.S., Amit T.A., Jadhav B. Recent advances in lignin depolymerization techniques: A comparative overview of traditional and greener approaches // Biomass. 2022. V. 2. № 3. P. 130–154. https://doi.org/10.3390/biomass2030009
- Roy R., Jadhav B., Rahman M.S., Raynie D.E. Characterization of residue from catalytic hydrothermal depolymerization of lignin // Curr. Res. Green Sustain. Chem. 2021. V. 4. P. 100052–100083. https://doi.org/10.1016/j.crgsc.2020.100052
- Huang B.S., Chen H.Y., Chuang K.H., Yang R.X., Wey M.Y. Hydrogen production by biomass gasification in a fluidized-bed reactor promoted by an Fe/CaO catalyst // Int. J. Hydrog. Energy. 2012. V. 37. № 8. P. 6511–6518. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.01.071
- Jara-Cobos L., Abril-González M., Pinos-Vélez V. Production of Hydrogen from Lignocellulosic Biomass: A Review of Technologies // Catalysts. 2023. V. 13. № 4. P. 766–804. https://doi.org/10.3390/catal1304076
- Tarabanko V.E. Catalytic conversion of lignins for valuable chemicals // Catalysts. 2021. V. 11. № 10. P. 1254–1256. https://doi.org/10.3390/catal11101254
- Zhao M., Zhao L., Zhao X.Y., Cao J.P., Maruyama K.I. Pd-Based nano-catalysts promote biomass lignin conversion into value-added chemicals // Materials. 2023. V. 16. № 14. P. 5198–5216. https://doi.org/10.3390/ma16145198
- Echresh Zadeh Z., Abdulkhani A., Saha B. Characterization of fast pyrolysis bio-oil from hardwood and softwood lignin // Energies. 2020. V. 13. № 4. P. 887–908. https://doi.org/10.3390/en13040887
- Zadeh Z.E., Abdulkhani A., Aboelazayem O., Saha B. Recent insights into lignocellulosic biomass pyrolysis: A critical review on pretreatment, characterization, and products upgrading // Processes. 2020. V. 8. № 7. P. 799–820. https://doi.org/10.3390/pr8070799
- Machado H., Cristino A.F., Orišková S., Galhano dos Santos R. Bio-oil: the next-generation source of chemicals // Reactions. 2022. V. 3. № 1. P. 118–137. https://doi.org/10.3390/reactions3010009
- Dorn L., Thirion A., Ghorbani M., Olaechea L.M., Mayer I. Exploring fully biobased adhesives: sustainable kraft lignin and 5-hmf adhesive for particleboards // Polymers. 2023. V. 15. № 12. ID 2668. https://doi.org/10.3390/polym15122668
- Blasi A., Verardi A., Lopresto C.G., Siciliano S., Sangiorgio P. Lignocellulosic agricultural waste valorization to obtain valuable products: An overview // Recycling. 2023. V. 8. № 4. P. 61–80. https://doi.org/10.3390/recycling8040061
- de Morais L.C., Maia A.A.D., Yamaji F.M., Viana S.R.F., Resende P. Energy analysis of sugarcane bagasse after enzymatic catalysis process // Biomass Conversion and Biorefinery. 2020. P. 1–15. https://doi.org/10.1007/s13399-020-01097-y
- Ambat I., Srivastava V., Sillanpää M. Recent advancement in biodiesel production methodologies using various feedstock: A review // Renew. Sustain. Energ. Rev. 2018. V. 90. P. 356–369. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.03.069
- Mishra K., Siwal S.S., Saini A.K., Thakur V.K. Recent update on gasification and pyrolysis processes of lignocellulosic and algal biomass for hydrogen production // Fuel. 2023. V. 332. P. 126169–126180. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.126169
- Lepage T., Kammoun M., Schmetz Q., Richel A. Biomass-to-hydrogen: A review of main routes production, processes evaluation and techno-economical assessment // Biomass and Bioenergy. 2021. V. 144. P. 105920–15939. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105920
- Blanquet E., Williams P.T. Biomass pyrolysis coupled with non-thermal plasma/catalysis for hydrogen production: Influence of biomass components and catalyst properties // J. Anal. Appl. Pyrolysis. 2021. V. 159. P. 105325–105346. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2021.105325
- Inayat A., Tariq R., Khan Z., Ghenai C., Kamil M., Jamil F., Shanableh A. A comprehensive review on advanced thermochemical processes for bio-hydrogen production via microwave and plasma technologies // Biomass Conversion and Biorefinery. 2020. P. 1–10. https://doi.org/10.1007/s13399-020-01175-1
- Long N.V.D., Kim G.S., Tran N.N., Lee D.Y., Fulcheri L., Song Z., Hessel V.l. Biogas upgrading using ionic liquidBmim][PF6] followed by thermal-plasma-assisted renewable hydrogen and solid carbon production // Int. J. Hydrog. Energy. 2022. V. 47. № 100. P. 42075–42083. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.08.231
- Makavana J.M., Kalaiya S.V., Dulawat M.S., Sarsavadiya P.N., Chauhan P.M. Development and performance evaluation of batch type biomass pyrolyser for agricultural residue // Biomass Conversion and Biorefinery. 2020. P. 1–8. https://doi.org/10.1007/s13399-020-01105-1
- Pang S. Advances in thermochemical conversion of woody biomass to energy, fuels and chemicals // Biotechnol. Adv. 2019. V. 37. № 4. P. 589–597. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.11.004
- Saidi M., Gohari M.H., Ramezani A.T. Hydrogen production from waste gasification followed by membrane filtration: a review // Env. Chem. Lett. 2020. V. 18. P. 1529–1556. https://doi.org/10.1007/s10311-020-01030-9
- Gao Y., Remón J., Matharu A.S. Microwave-assisted hydrothermal treatments for biomass valorisation: a critical review // Green Chem. 2021. V. 23. № 10. P. 3502–3525. https://doi.org/10.1039/D1GC00623A
- Gaudino E.C., Cravotto G., Manzoli M., Tabasso S. From waste biomass to chemicals and energy via microwave-assisted processes // Green Chem. 2019. V. 21. № 6. P. 1202–1235. https://doi.org/10.1039/C8GC03908A
- Elhambakhsh A., Long N.V.D., Lamichhane P., Hessel V. Recent progress and future directions in plasma-assisted biomass conversion to hydrogen // Renew. Energ. 2023. V. 218. ID 119307. https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.119307
- Tsodikov M.V., Bukhtenko O.V., Naumkin A.V., Nikolaev S.A., Chistyakov A.V., Konstantinov G.I. Activity and structure of nano-sized cobalt-containing systems for the conversion of lignin and fuel oil to synthesis gas and hydrocarbons in a microwave-assisted plasma catalytic process // Catalysts. 2022. V. 12. I. 11. ID 1315. https://doi.org/10.3390/catal12111315
- Tsodikov M., Ellertb O.G., Nikolaev S.A., Arapova O.V., Konstantinov G.I., Bukhtenko O.V., Vasil’kov A.Yu. The role of nanosized nickel particles in microwave-assisted dry reforming of lignin // Chem. Eng. J. 2017. V. 309. P. 628–637. https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.10.031
- Gęsikiewicz-Puchalska A., Zgrzebnicki M., Michalkiewicz B., Kałamaga A., Narkiewicz U., Morawski A.W., Wrobel R. Changes in porous parameters of the ion exchanged X zeolite and their effect on CO2 adsorption // Molecules. 2021. V. 26. № 24. ID 7520. https://doi.org/10.3390/molecules26247520
- Gildernew E., Tareq S., Yang S. Three-Dimensional graphene with preserved channeling as a binder additive for zeolite 13X for enhanced thermal conductivity, vapor transport, and vapor adsorption loading kinetics // Catalysts. 2022. V. 12. № 3. ID 292. https://doi.org/10.3390/catal12030292
- Besser B., Tajiri H.A., Mikolajczyk G., Möllmer J., Schumacher T.C., Odenbach S., Rezwan K. Hierarchical porous zeolite structures for pressure swing adsorption applications // ACS Appl. Mat. 2016. V. 8. № 5. P. 3277–3286. https://doi.org/10.1021/acsami.5b11120
- Rahat S.S.M., Hasan K.M.Z., Mondol M.M.H., Mallik A.K. A comprehensive review of carbon nanotube-based metal oxide nanocomposites for supercapacitors // J. Energy Storage. 2023. V. 73. ID 108847. https://doi.org/10.1016/j.est.2023.108847
- Yuan X., Dissanayake P.D., Gao B., Liu W.J., Lee K.B., Ok Y.S. Review on upgrading organic waste to value-added carbon materials for energy and environmental applications // J. Environ. Manage. 2021. V. 296. ID 113128. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113128
- Aldosari M.A., Othman A.A., Alsharaeh E.H. Synthesis and characterization of the in situ bulk polymerization of PMMA containing graphene sheets using microwave irradiation // Molecules. 2013. V. 18. № 3. P. 3152–3167. https://doi.org/10.3390/molecules18033152
- Zheng W., Ye W., Yang P., Wang D., Xiong Y., Liu Z., Jindong Qi, Zhang Y. Recent progress in iron-based microwave absorbing composites: A review and prospective // Molecules. 2022. V. 27. № 13. P. 4117. https://doi.org/10.3390/molecules27134117
- Zhang D., Deng Y., Han C., Zhu H., Yan C., Zhang H. Enhanced microwave absorption bandwidth in graphene-encapsulated iron nanoparticles with core–shell structure // Nanomaterials. 2020. V. 10. № 5. P. 931–955. https://doi.org/10.3390/nano10050931
- García-Baños B., Catalá-Civera J.M., Sánchez J.R., Navarrete L., López-Buendía A.M., Schmidt L. High temperature dielectric properties of iron- and zinc-bearing products during carbothermic reduction by microwave heating // Metals. 2020. V. 10. № 5. P. 693–708. https://doi.org/10.3390/met10050693
- Miguel M.G., Lourenço J.P., Faleiro M.L. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles and essential oils: a new tool for biological applications // Int. J. Mol. Sci. 2020. V. 21. № 18. P. 6633–6654. https://doi.org/10.3390/ijms21186633
- Fernández-Barahona I., Muñoz-Hernando M., Herranz F. Microwave-driven synthesis of iron-oxide nanoparticles for molecular imaging // Molecules. 2019. V. 24. № 7. P. 1224–1245. https://doi.org/10.3390/molecules24071224
- Sarimov R.M., Nagaev E.I., Matveyeva T.A., Binhi V.N., Burmistrov D.E., Serov D.A., Astashev M.E., Simakin A.V., Uvarov O.V., Khabatova V.V., Akopdzhanov A.G., Schimanowskii N.L., Gudkov S.V. Investigation of aggregation and disaggregation of self-assembling nano-sized clusters consisting of individual iron oxide nanoparticles upon interaction with HEWL protein molecules // Nanomaterials. 2022. V. 12. № 22. ID 3960. https://doi.org/10.3390/nano12223960
- Palniandy L.K., Yoon L.W., Wong W.Y., Yong S.T., Pang M.M. Application of biochar derived from different types of biomass and treatment methods as a fuel source for direct carbon fuel cells // Energies. 2019. V. 12. № 13. ID 2477. https://doi.org/10.3390/en12132477
- Alazaiza M.Y., Albahnasawi A., Eyvaz M., Al Maskari T., Nassani D.E., Abu Amr S.S., Bashir M.J. An overview of green bioprocessing of algae-derived biochar and biopolymers: synthesis, preparation, and potential applications // Energies. 2023. V. 16. № 2. P. 79–100. https://doi.org/10.3390/en16020791
- Rivelli A.R., Libutti A. Effect of biochar and inorganic or organic fertilizer Co-application on soil properties, plant growth and nutrient content in Swiss chard // Agronomy. 2022. V. 12. № 9. P. 2089–2110. https://doi.org/10.3390/agronomy12092089
- Yadav R., Ramakrishna W. Biochar as an environment-friendly alternative for multiple applications // Sustainability. 2023. V. 15. № 18. ID 13421. https://doi.org/10.3390/su151813421
Supplementary files