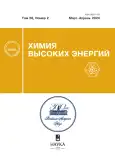О новом подходе к изучению и оценке эффективности ДНК-специфичных радиопротекторов
- Autores: Колыванова M.А.1,2, Лифановский Н.С.1, Никитин Е.А.3, Климович М.А.1,2, Белоусов A.В.2, Тюрин В.Ю.3, Кузьмин В.А.1, Морозов В.Н.1
-
Afiliações:
- Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
- Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России
- МГУ им. М.В. Ломоносова
- Edição: Volume 58, Nº 2 (2024)
- Páginas: 107-116
- Seção: RADIATION CHEMISTRY
- URL: https://bakhtiniada.ru/0023-1193/article/view/262521
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023119324020042
- EDN: https://elibrary.ru/VSOYKD
- ID: 262521
Citar
Texto integral
Resumo
Исследована принципиальная возможность использования способности молекул ДНК низкой молекулярной массы образовывать оптически активные холестерические жидкокристаллические дисперсии (ХЖКД) для оценки эффективности ДНК-специфичных радиопротекторов. На примере широко известного красителя Hoechst 33258, взаимодействующего с ДНК по модели связывания в малой бороздке и обладающего выраженными радиозащитными свойствами, показано, что изменение амплитуды аномального сигнала кругового дихроизма ХЖКД, формируемых из молекул ДНК, предварительно облученных рентгеновским излучением в отсутствии и в присутствии исследуемого соединения, позволяет оценить величину его защитного действия.
Palavras-chave
Texto integral
Введение
Существующие системы классификации противолучевых средств сходятся в определении радиопротекторов как соединений, оказывающих защитный эффект на физико-химической стадии взаимодействия ионизирующего излучения (ИИ) с веществом и уменьшающих количество индуцируемых им повреждений биологических систем [1]. Поиск соединений с подобными свойствами ведется с конца 1940-х – начала 1950-х годов и характеризуется пиком активности в 60–80-х, когда проводились масштабные скрининговые программы и были открыты такие высокоэффективные агенты как WR-2721 (амифостин/гаммафос/этиол) и Б-190 (индралин) [2]. Это направление и сейчас развивается весьма интенсивно (см. обзорные статьи [3–7]), несмотря на то, что радиопротекторы не нашли широкого применения в “гражданской науке”, а развитие противолучевых средств сосредоточилось на ускорении процессов пострадиационного восстановления [8].
Из множества соединений, у которых были обнаружены радиозащитные свойства, в отдельную группу можно выделить способные к образованию комплексов с ДНК (см., к примеру, работы [9–13]). Поскольку ДНК является основной внутриклеточной мишенью воздействия ИИ, подобные соединения, главным образом, обладающие высокой специфичностью, вызывают особенный интерес. Отметим, однако, что число таких радиопротекторов весьма невелико, а связь величины их защитного действия и эффективности взаимодействия с ДНК зачастую не до конца исследована. Так, например, для WR-2721, одного из немногих радиопротекторов, одобренных для использования в лучевой терапии, и WR-1065, его тиольной формы, она стала очевидной только в ретроспективе [14].
Заметное место среди ДНК-специфичных радиопротекторов занимают бисбензимидазолы, к которым, в частности, относятся представители семейства Hoechst и различные их аналоги [15–18]. Ключевой вклад в изучение их противолучевых свойств принадлежит группе Мартина: среди прочего ими был синтезирован метилпроамин – соединение, которое в тестах in vitro при более чем в 100 раз меньшей концентрации продемонстрировало более высокую эффективность, чем WR-1065 [19]. В нашей стране синтез новых бисбензимидазолов для биомедицинских приложений также ведется довольно активно (см., к примеру, работы группы Жузе [20, 21]), однако полученные соединения практически не исследовались на предмет защиты от ИИ.
В этой связи интересной задачей представляется поиск подходов, позволяющих с помощью простых физико-химических методов, например методов оптической спектроскопии, проводить как первоначальный скрининг (или, другими словами, экспресс-оценку) потенциальных ДНК-специфичных радиопротекторов, так и более детально изучать механизмы их защитного действия. В настоящей работе мы изучили возможность использования для этого способности молекул ДНК низкой молекулярной массы образовывать в результате фазового исключения в присутствии нейтрального полимера оптически активные холестерические жидкокристаллические дисперсии (ХЖКД; среди прочего они интересны как с позиции детектирования и дозиметрии ИИ [22, 23], так и для изучения поведения лигандов в условиях близких к “биологическим” [24]). В качестве тестового соединения был выбран широко известный краситель Hoechst 33258 (Ht58; схема 1), взаимодействующий с ДНК по модели связывания в малой бороздке, активно используемый в клеточной биологии (о его приложениях см. подробно в работе [25]) и также обладающий выраженными радиопротекторными свойствами [26–28].
Схема 1. Структура молекулы красителя Ht58.
Материалы и методы
В работе использовали коммерческие препараты выделенной из молок осетровых/лососевых рыб и деполимеризованной ультразвуком ДНК (Деринат®; (0.25–0.5) × 106 Да; Техномедсервис, Россия) и полиэтиленгликоля (ПЭГ, 4000 Да; ПанЭко, Россия). Их растворы приготовляли на основе водно-солевого буфера, содержащего 10–2 М Na2HPO4 и 0.3 M NaCl (pH ≈ 7.4). Также использовали коммерческий препарат Ht58 (Панэко, Россия). Стоковый раствор красителя с концентрацией 7 × 10–4 М готовили в дистиллированной воде.
Подробное описание методики облучения, его дозиметрического сопровождения и процедуры приготовления ХЖКД из облученных молекул ДНК представлено в нашей недавней работе [22]. Водно-солевые растворы ДНК объемом 1.5 мл (концентрация нуклеиновой кислоты составляла 7.48 × 10–5 М в парах оснований (п.о.) – для ее вычисления использовали значение коэффициента экстинкции ε260 ≈ 13200 М–1 см–1) облучали рентгеновским излучением в дозах от 0 до 1000 Гр в отсутствии или в присутствии Ht58, а затем на их основе приготовляли ХЖКД: из облученных растворов отбирали по 800 мкл жидкости и смешивали ее с 400 мкл 60% раствора ПЭГ с таким расчетом, чтобы конечная концентрация полимера в системе составляла 20%. Полученные образцы интенсивно перемешивали и в течение примерно 90 мин выдерживали при комнатной температуре до окончательного формирования оптически активной дисперсии.
Спектры поглощения и флуоресценции регистрировали с помощью спектрофотометра UV-3101 PC (Shimadzu, Япония) и спектрофлуориметра Флюорат-02-Панорама (Люмэкс, Россия) в прямоугольных кварцевых кюветах сечением 1.0 см × 0.4 см. Спектры КД измеряли, используя дихрограф СКД-2 (Институт спектроскопии РАН, Россия) и кварцевые кюветы сечением 1.0 см × 1.0 см. Спектры КД представляли в виде зависимости разницы поглощения лево- и правополяризованного света DA = AL - AR от длины волны λ.
Результаты и обсуждение
На рис. 1а показаны изменения спектра поглощения водно-солевого раствора ДНК, вызванные воздействием на него рентгеновского излучения в дозе 1000 Гр. Видно, что в исследуемых условиях облучение приводит к увеличению оптической плотности (до ≈10% в области 260 нм и до ≈27% в области 206 нм) – так называемому радиационно-индуцированному гиперхромизму. Зависимости величины гиперхромного эффекта Hλ на длинах волн 260 и 206 нм от дозы, рассчитанные по формуле (1):
(1)
где A0 и A – значения оптической плотности до и после облучения, и показанные на рис. 1б, близки к линейному виду. Известно, что радиационно-индуцированный гиперхромизм возникает в результате частичной денатурации молекул ДНК из-за разрушения водородных связей, стабилизирующих полинуклеотидные цепочки, тогда как разрушение азотистых оснований, напротив, приводит к уменьшению оптической плотности. Как отмечено в работе [29], изменение интенсивности поглощения ДНК под воздействием ИИ должно представлять суперпозицию двух этих эффектов. Заметим, однако, что при аналогичных дозовых нагрузках гиперхромизм более характерен для растворов ДНК высокой ионной силы, тогда как при малых ее значениях преимущественно наблюдается снижение оптической плотности [30].
Рис. 1. (а) Нормированные спектры поглощения водно-солевого раствора ДНК до (черный) и после облучения в дозе 1000 Гр (красный). Нормирование выполнено на величину оптической плотности на длине волны 206 нм в необлученном образце. (б) Зависимости величины Hλ на длинах волн 260 нм (черный) и 206 нм (красный) от поглощенной дозы. (в) Спектры КД нативного раствора ДНК (черный) и облученного в дозе 1000 Гр (красный). (г) Дозовые зависимости амплитуд положительного (черный) и отрицательного (красный) КД-сигналов.
На спектре КД в это же время наблюдается симбатное уменьшение амплитуд характерных для “молекулярного” сигнала B-ДНК отрицательно и положительно ориентированных полос: первая снижается в ≈3.3 раза, а вторая – более чем в 4.5 раза (рис. 1в). Соответствующие дозовые зависимости также близки к линейному виду (рис. 1г).
При облучении водно-солевого раствора ДНК в присутствии 7 × 10–6 М красителя Ht58 гиперхромный эффект выражен слабее (соответствующие изменения спектра поглощения, вызванные облучением в дозе 1000 Гр, показаны на рис. 2а) – оптическая плотность возрастает до ≈8% в области 260 нм и до ≈13% в области 206 нм. Отметим, что зависимости H260 и H206 от поглощенной дозы заметно отклоняются от линейного тренда и значительно лучше описываются в рамках экспоненциальной модели (данные варианты фитирования экспериментальных данных представлены на рис. 2б пунктиром и сплошными кривыми соответственно). Отметим, что хотя сопоставление дозовых зависимостей H260 и H206 в отсутствии и в присутствии Ht58 однозначно свидетельствует о радиозащитном действии этого красителя, тот факт, что они по-разному изменяются с ростом дозы, затрудняет использование величины радиационно-индуцированного гиперхромизма в качестве параметра для оценки его эффективности. Существенным ограничением выступает и упомянутая выше комплексная природа изменения сигнала поглощения при облучении ДНК в растворе.
Рис. 2. (а) Нормированные спектры поглощения водно-солевого раствора комплекса ДНК-Ht58 до (черный) и после облучения в дозе 1000 Гр (красный). Нормирование выполнено на величину оптической плотности на длине волны 206 нм в необлученном образце. (б) Зависимости величины Hλ на длинах волн 260 нм (черный) и 206 нм (красный) от поглощенной дозы. Пунктир – фитинг по линейной модели, сплошные кривые – по экспоненциальной модели. (в) Спектры КД нативного раствора комплекса ДНК-Ht58 (черный) и облученного в дозе 1000 Гр (красный). Синим пунктиром обозначен КД-спектр комплекса ДНК с предварительно облученным в дозе 1000 Гр красителем. (г) Дозовые зависимости амплитуд положительного (черный) и отрицательного (красный) КД-сигналов ДНК. (д) Зависимости пиковой оптической плотности в области поглощения Ht58 (черный) и амплитуды полосы индуцированного КД (красный) от дозы.
Видно, что облучение в присутствии Ht58 не приводит к изменению характерных сигналов КД раствора ДНК аналогичному представленному выше: при дозе в 1000 Гр амплитуда отрицательной полосы уменьшается всего на ≈10%, а положительной – на 43% (рис. 2в и 2г). К существенно более сильному возмущению КД-спектра ДНК, в особенности в части изменения амплитуды и положения положительной полосы, приводит само введение Ht58 в систему, что, однако, хорошо согласуется с данными Бажулиной и др. [31]. Отметим также, что возмущение КД-спектра заметно снижается в случае связывания с ДНК предварительно облученного красителя (см. пунктирную кривую на рис. 2в).
Вместе с тем в облученных растворах наблюдается синхронное снижение интенсивности поглощения красителя, сопровождающееся гипсохромным смещением положения пика, и уменьшение амплитуды сигнала индуцированного КД (ИКД; рис. 2д). Это позволяет предположить, что в результате деградации ДНК с ростом поглощенной дозы молекулы красителя высвобождаются из комплекса и переходят в раствор (т.е. несмотря на упомянутое отсутствие значительных изменений на спектре КД, молекулы нуклеиновой кислоты все же подвергаются повреждениям). Действительно, в связанном с ДНК состоянии максимум поглощения Ht58 лежит в области 350 нм, тогда как свободный краситель характеризуется максимумом вблизи 340 нм. Однако, как мы показали ранее, в водном растворе при аналогичных условиях облучения наблюдается довольно быстрая деградация этого красителя – так, например, уже при дозе в 350 Гр его флуоресценция практически отсутствует [32]. В исследуемой же системе, напротив, даже при дозе в 1000 Гр наблюдается ярко выраженный сигнал (см. ниже). Таким образом, можно заключить, что высокая концентрация соли (о ее влиянии на чувствительность растворов ДНК к ИИ см. в работе [30]) и комплекс с ДНК препятствуют деградации Ht58.
Для проверки этого предположения мы провели облучение линейки водно-солевых растворов, содержащих 7 × 10–6 М Ht58, после чего к каждому из них добавили 7.48 × 10–5 М ДНК и сопоставили полученную дозовую зависимость эффективности радиационно-индуцированного тушения флуоресценции с зарегистрированной в случае облучения в аналогичных условиях комплекса ДНК-краситель. Результаты эксперимента представлены на рис. 3. Видно, что в обоих случаях интенсивность флуоресценции Ht58 уменьшается с ростом поглощенной дозы. При этом заметно более сильное снижение наблюдается при облучении красителя в отсутствии ДНК (ср. спектры флуоресценции на рис. 3а и 3б). В то же время, при таком подходе полоса, возникающая в облученных растворах Ht58 в области 390–400 нм, которую ранее мы определили как сигнал флуоресценции продуктов разложения молекул красителя [32], заметно менее выражена относительно основного сигнала (в качестве примера на вставке на рис. 3б представлено сопоставление нормированных спектров флуоресценции исследуемых систем, облученных в дозе 1000 Гр). В количественном выражении различия в эффективности радиационно-индуцированного тушения флуоресценции Ht58 представлены на рис. 3в в адаптированных координатах Штерна–Фольмера, традиционно использующихся для описания тушения флуоресценции [33], где концентрация тушителя заменена на величину поглощенной дозы, а I0 и I представляют собой значения интенсивности сигнала до и после облучения соответственно. Видно, что при максимальной исследованной дозе в 1000 Гр интенсивность флуоресценции предварительно облученного красителя снижается почти в 10 раз, тогда как в случае облучения Ht58 в комплексе с ДНК она уменьшается всего в ≈3.9 раза. Таким образом, можно заключить, что находясь в связанном состоянии молекулы красителя действительно значительно менее доступны для продуктов радиолиза среды, действие которых в значительной мере обуславливает их деградацию. Что же касается влияния соли, то в буферном растворе в отсутствии нуклеиновой кислоты интенсивность флуоресценции Ht58 при дозе в 500 Гр снижается в ≈1.81 раза (см. вставку на рис. 3а), тогда как при данной дозе облучения его сигнал в дистиллированной воде уменьшается более чем в 54 раза [32].
Рис. 3. (а) Спектры флуоресценции 7 × 10–6 М Ht58, облученного в водно-солевом с последующим добавлением 7.48 × 10–5 М ДНК. На вставке показаны спектры флуоресценции свободного красителя при дозах облучения 0 Гр (черный), 500 Гр (красный) и 1000 Гр (синий). (б) Спектры флуоресценции Ht58, облученного в аналогичных условиях в комплексе с ДНК. Использована та же цветовая легенда, что и на рис. 3а. На вставке приведены нормированные спектры флуоресценции комплекса ДНК-краситель при дозе облучения в 1000 Гр для случаев добавления нуклеиновой кислоты до (черный) и после облучения (красный). Нормирование в каждом случае выполнено на соответствующую величину пиковой интенсивности флуоресценции Ht58. (в) Дозовые зависимости I0 /I для случаев добавления ДНК до (черный) и после облучения (красный).
В условиях энтропийной или, иначе, psi-конденсации (акроним слов “Polymer and Salt Induced” [34]), инициируемой добавлением к водно-солевому раствору низкомолекулярной ДНК высокой ионной силы некоторой критической концентрации ПЭГ (обычно от ≈12.5 до ≈25% по массе), ее молекулы способны к образованию дисперсной фазы, для которой характерен выдающийся по интенсивности отрицательный сигнал на спектре КД в области поглощения азотистых оснований [35]. Такой КД-сигнал, также называемый “аномальным”, может в десятки раз превосходить по амплитуде сигнал изотропного раствора ДНК из-за своей “структурной” природы – его возникновение обусловлено внутренней организацией частиц дисперсии: молекулы нуклеиновой кислоты в них располагаются в параллельных слоях, повернутых друг относительно друга на некоторый угол и образующих типичную для холестерических мезофаз спиральную закрутку (именно из-за этого ХЖКД ДНК и получили свое название) [36].
Ранее мы показали, что ХЖКД, сформированные из предварительно облученных ИИ молекул ДНК, обладают значительно сниженным КД-сигналом, причем его амплитуда является некоторой функцией поглощенной дозы [22]. Хорошо известно, что ИИ может вызывать множество различных повреждений ДНК – от модификации азотистых оснований до разрывов сахаро-фосфатного остова (см. подробнее в [37]), и, хотя на данный момент не определено как именно конкретные их виды влияют на образование ХЖКД, очевидно, что обнаруженный эффект напрямую связан с целостностью молекул нуклеиновой кислоты. Так, например, одной из причин снижения амплитуды аномального КД-сигнала может быть уменьшение молекулярной массы ДНК, вызываемое двунитевыми разрывами, поскольку к образованию ХЖКД способны, как известно, лишь молекулы с длиной от ≈ 3.25 × 104 до ≈ 3 × 106 Да (т.е. от ≈50 до ≈4600 пар оснований) [38]. Присутствие же в системе соединения, оказывающего радиозащитный эффект, должно приводить к снижению числа повреждений, а, следовательно, и к ослаблению влияния ИИ на аномальный КД-сигнал ХЖКД, приготовляемых из облученных молекул нуклеиновой кислоты (возможность защиты готовой ХЖКД ДНК от действия ИИ была показана нами ранее [39]).
Для проверки этого предположения из водно-солевых растворов ДНК, предварительно облученных в различных дозах в отсутствии или в присутствии 7 × 10–6 М Ht58, была приготовлена линейка образцов ХЖКД. Спектры КД полученных систем представлены на рис. 4а и 4б соответственно. Хотя в обоих случаях аномальный КД-сигнал уменьшается с ростом поглощенной дозы, сопоставление экспериментальных данных наглядно свидетельствует о радиозащитном действии Ht58. Так, например, при дозе в 300 Гр уменьшение амплитуды КД-сигнала относительно исходного значения для системы с красителем составляет ≈15%, тогда как в его отсутствии оно превышает 40%.
В радиационной биологии для оценки эффективности радиомодификаторов традиционно пользуются так называемой кривой доза–эффект. Существует, однако, множество способов ее количественного выражения (см. подробно в [40]). Так, например, это можно сделать сопоставлением эффектов, наблюдаемых в отсутствии и в присутствии радиомодификатора при фиксированной величине поглощенной дозы, или же по отношению доз, приводящих к одному и тому же эффекту в системах с добавлением радиомодификатора и без него (оба этих подхода наглядно проиллюстрированы на рис. 4в). Мы будем обозначать полученные этими способами величины как коэффициент радиозащиты (КР) и фактор уменьшения дозы (ФУД) соответственно. Их значения рассчитывались по формулам (2) и (3) на основе данных фитинга экспериментальных кривых доза–эффект:
(2)
(3)
где DA2 и DA1 – амплитуды КД-сигнала, зарегистрированные при фиксированной величине поглощенной дозы, а D2 и D1 – дозы ИИ, при которых наблюдается одинаковое изменение амплитуды аномального КД-сигнала ХЖКД. Индексы “2” и “1” обозначают присутствие Ht58 при облучении системы или же его отсутствие. Полученные зависимости КР и ФУД от концентрации красителя представлены на рис. 4г. В исследуемом диапазоне концентраций от 2.23 × 10–7 М до 2.23 × 10–5 М значения ФУД составляют от ≈1.05 до ≈1.89, а значения КР – от ≈1.11 до ≈2.26 соответственно.
Рис. 4. (а, б) КД-спектры ХЖКД, приготовленных из водно-солевых растворов ДНК, предварительно облученных в дозах от 0 до 1000 Гр в отсутствии (а) или в присутствии (б) 7 × 10–6 М Ht58. Цветовая легенда на рис. 4а и 4б идентична. (в) Дозовые зависимости амплитуды аномального КД-сигнала для ХЖКД, приготовленных из растворов ДНК, облученных в отсутствии (черный) или в присутствии (красный) 7 × 10–6 М Ht58. (г) Зависимости рассчитанных значений КР (черный) и ФУД (красный) от концентрации красителя.
Таким образом, явно выраженный защитный эффект Ht58, как и для многих других радиопротекторов (см., к примеру, [41]), наблюдается начиная с концентрации порядка 10–7 М. В то же время, полученные результаты довольно хорошо согласуются с литературными данными и по величине эффекта радиозащиты. Например, Денисон и др. показали, что величина ФУД1, полученная в эксперименте с плазмидной ДНК для соотношения [Ht58] : [п.о.], равного ≈0.07, составляет ≈1.5 при D37, а в эксперименте на культуре клеток V79 для концентрации красителя равной 2 × 10-5 М величина ФУД составляет ≈1.3 при D10 [26]. В настоящей работе величина ФУД, рассчитанная по отношению доз, при которых в системах в присутствии и в отсутствии Ht58 амплитуда аномального сигнала КД составляет ≈37% от исходного значения, примерно равна 1.35 для соотношения [Ht58] : [п.о.], равного ≈ 0.09, а при амплитуде сигнала в 10% от исходного значения – примерно 1.2 для концентрации красителя, равной 7 × 10–6 М. Все это весьма убедительно свидетельствует в пользу состоятельности показанного подхода.
Что же касается возможности практического применения, то, на наш взгляд, показанный в настоящей работе подход может дополнить существующую палитру модельных физико-химических тестов для экспресс-оценки эффективности радиопротекторов, поскольку большинство из них связаны с теми или иными допущениями или упрощениями, и для наиболее полного описания радиозащитных свойств исследуемых соединений целесообразно применять различные экспериментальные методы в комплексе. Так, например, реакции, протекающие в ходе таких колориметрических тестов по восстановлению свободных радикалов как ДФПГ-тест [42] и ABTS-тест [43], имеют мало общего с процессами, происходящими при облучении биологических систем – различаются как природа и свойства растворителей, так и сама структура радикалов. Подходы, реализующие генерацию активных форм кислорода (АФК) in situ, такие как NBT-тест [44] и метод, основанный на реакции Фентона [45], также не дают полной картины, поскольку каждый из них оперирует только одним из множества радикальных продуктов ( и соответственно). Вместе с тем, радиопротекторное действие зачастую не ограничивается антиоксидантной активностью: для того же Ht58 помимо перехвата АФК высказывались предположения о таких механизмах купирования повреждений, как донирование электрона или атома водорода [26–28]. Изучение же “интегрального” радиозащитного эффекта непосредственно на модели изолированной ДНК связано с аналогичными проблемами. Так, например, широко используемый в радиационной биологии метод электрофоретического разделения топологических изомеров плазмидной ДНК (см., к примеру, работы [46–48]) позволяет оценить весьма ограниченный набор радиационно-индуцированных повреждений (главным образом одно- и двунитевые разрывы). Кроме того, некоторые ДНК-специфичные соединения способны конденсировать плазмидную ДНК (к примеру, такое свойство Ht58 было принципиально показано с помощью атомно-силовой микроскопии в работе [49]), что может существенно ограничить возможность применения к ним этого метода.
В заключение следует упомянуть и некоторые преимущества показанного подхода: 1) возможность работать с теми же видами АФК, что образуются при облучении биологических систем; 2) возможность работать в условиях близких к физиологическим; 3) возможность комплексно задействовать различные механизмы радиозащитного действия исследуемых соединений; 4) возможность масштабировать скрининг потенциальных ДНК-специфичных радиопротекторов благодаря доступности и низкой стоимости компонентов, простоте эксперимента, и, что кажется нам особенно важным, имеющимся анализаторам отечественного производства [50].
Заключение
В настоящей работе на примере широко известного красителя Ht58, обладающего выраженным радиозащитным действием, исследована принципиальная возможность использования способности молекул ДНК образовывать ХЖКД для оценки эффективности ДНК-специфичных радиопротекторов. Маркером радиационно-индуцированных повреждений молекул нуклеиновой кислоты и, следовательно, радиозащитного действия исследуемого красителя, в этом случае является амплитуда обусловленного внутренней структурой частиц дисперсии аномального КД-сигнала. Полученные в ходе анализа кривых доза–эффект значения ФУД и КР в исследованном диапазоне концентраций красителя от 2.23 × 10–7 М до 2.23 × 10–5 М составляют 1.05–1.89 и 1.11–2.26 соответственно. Полученные результаты как качественно, так и количественно довольно хорошо согласуются с известными литературными данными, что весьма убедительно свидетельствует в пользу состоятельности показанного подхода. Кроме того, в настоящей работе показано, что не только Ht58 способен защищать от повреждений молекулы ДНК, но и комплекс с нуклеиновой кислотой в свою очередь может препятствовать деградации красителя под действием радиолитических продуктов.
Благодарности
Авторы благодарят студента НИЯУ МИФИ М.А. Быковского за помощь в проведении предварительных экспериментов.
Источники финансирования
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 23-23-10030.
1 Здесь речь идет об отношении доз, при которых в присутствии Ht58 или в его отсутствии авторы наблюдали в экспериментальных образцах содержание ≈37% суперскрученной формы плазмидной ДНК (D37) или же выживаемость ≈10% клеток в облученной культуре (D10).
Sobre autores
M. Колыванова
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН; Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России
Email: morozov.v.n@mail.ru
Rússia, 119334, Москва, ул. Косыгина, 4; 123098, Москва, ул. Живописная, 46
Н. Лифановский
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
Email: morozov.v.n@mail.ru
Rússia, 119334, Москва, ул. Косыгина, 4
Е. Никитин
МГУ им. М.В. Ломоносова
Email: morozov.v.n@mail.ru
xимический факультет
Rússia, 119991, Москва, ул. Ленинские горы, 46М. Климович
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН; Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России
Email: morozov.v.n@mail.ru
Rússia, 119334, Москва, ул. Косыгина, 4; 123098, Москва, ул. Живописная, 46
A. Белоусов
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России
Email: morozov.v.n@mail.ru
Rússia, 123098, Москва, ул. Живописная, 46
В. Тюрин
МГУ им. М.В. Ломоносова
Email: morozov.v.n@mail.ru
xимический факультет
Rússia, 119991, Москва, ул. Ленинские горы, 46В. Кузьмин
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
Email: morozov.v.n@mail.ru
Rússia, 119334, Москва, ул. Косыгина, 4
В. Морозов
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
Autor responsável pela correspondência
Email: morozov.v.n@mail.ru
Rússia, 119334, Москва, ул. Косыгина, 4
Bibliografia
- Рождественский Л.М. // Радиац. биология. Радиоэкология. 2017. Т. 57. № 2. С. 117.
- Васин М.В. Средства профилактики и лечения лучевых поражений. М.: РМАПО, 2001. 312 с.
- Singh V.K., Hanlon B.K., Santiago P.T., Seed T.M. // Int. J. Radiat. Biol. 2017. V. 93. № 9. P. 885.
- Mishra K., Alsbeih G. // 3 Biotech. 2017. V. 7. № 5. P. 292.
- Mun G.I., Kim S., Choi E., Kim C.S., Lee Y.S. // Arch. Pharm. Res. 2018. V. 41. № 11. P. 1033.
- Zivkovic-Radojevic M., Milosavljevic N., Miladinovic T.B., Janković S., Folic M. // Int. J. Radiat. Biol. 2023. V. 99. № 4. P. 594.
- Liu L., Liang Z., Ma S., Li L., Liu X. // Mol. Med. Rep. 2023. V. 27. № 3. P. 66.
- Баранов А.Е., Рождественский Л.М. // Радиац. биология. Радиоэкология. 2008. Т. 48. № 3. С. 287.
- Smoluk G.D., Fahey R.C., Ward J.F. // Radiat. Res. 1986. V. 107. № 2. P. 194.
- Isabelle V., Franchet-Beuzit J., Sabattier R., Laine B., Spotheim-Maurizot M., Charlier M. // Int. J. Radiat. Biol. 1993. V. 63. № 6. P. 749.
- Chiu S., Oleinick N.L. // Radiat. Res. 1998. V. 149. № 6. P. 543.
- Mishra K., Bhardwaj R., Chaudhury N.K. // Radiat. Res. 2009. V. 172. № 6. P. 698.
- Sharma D., Singh A., Pathak M., Kaur L., Kumar V., Roy B.G., Ojha H. // Chem. Biol. Interact. 2020. V. 332. P. 109313.
- Lobachevsky P., Ivashkevich A., Martin O.A., Martin R.F. DNA-Binding radioprotectors. In Selected Topics in DNA Repair. Chen C., Ed. London: InTech, 2011. P. 497–518.
- Smith P.J., Anderson C.O. // Int. J. Radiat. Biol. 1984. V. 46. № 4. P. 331.
- Martin R.F., Broadhurst S., D’Abrew S., Budd R., Sephton R., Reum M., Kelly D.P. // Br. J. Cancer. 1996. V. 74. № 27. P. S99.
- Tawar U., Jain A.K., Dwarakanath B.S., Chandra R., Singh Y., Chaudhury N.K., Khaitan D., Tandon V. // J. Med. Chem. 2003. V. 46. № 18. P. 3785.
- Nimesh H., Tiwari V., Yang C., Gundala S.R., Chuttani K., Hazari P.P., Mishra A.K., Sharma A., Lal J., Katyal A., Aneja R., Tandon V. // Mol. Pharmacol. 2015. V. 88. № 4. P. 768.
- Martin R.F., Broadhurst S., Reum M.E., Squire C.J., Clark G.R., Lobachevsky P.N., White J.M., Clark C., Sy D., Spotheim-Maurizot M., Kelly D.P. // Cancer Res. 2004. V. 64. № 3. P. 1067.
- Koval V.S., Arutyunyan A.F., Salyanov V.I., Klimova R.R., Kushch A.A., Rybalkina E.Y., Susova O.Y., Zhuze A.L. // Bioorg. Med. Chem. 2018. V. 26. № 9. P. 2302.
- Koval V.S., Arutyunyan A.F., Salyanov V.I., Kostyukov A.A., Melkina O.E., Zavilgelsky G.B., Klimova R.R., Kushch A.A., Korolev S.P., Agapkina Y.Y., Gottikh M.B., Vaiman A.V., Rybalkina E.Y., Susova O.Y., Zhuze A.L. // Bioorg. Med. Chem. 2020. V. 28. № 7. P. 115378.
- Kolyvanova M.A., Klimovich M.A., Belousov A.V., Kuzmin V.A., Morozov V.N. // Photonics. 2022. V. 9. № 11. P. 787.
- Kolyvanova M.A., Klimovich M.A., Shibaeva A.V., Koshevaya E.D., Bushmanov Y.A., Belousov A.V., Kuzmin V.A., Morozov V.N. // Liq. Cryst. 2022. V. 49. № 10. P. 1359.
- Morozov V.N., Klimovich M.A., Kostyukov A.A., Belousov A.V., Kolyvanova M.A., Nekipelova T.D., Kuzmin V.A. // J. Lumin. 2022. V. 252. P. 119381.
- Bucevičius J., Lukinavičius G., Gerasimaitė R. // Chemosensors. 2018. V. 6. № 2. P. 18.
- Denison L., Haigh A., D’Cunha G., Martin R.F. // Int. J. Radiat. Biol. 1992. V. 61. № 1. P. 69.
- Martin R.F., Denison L. // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1992. V. 23. № 3. P. 579.
- Kakkar R., Garg R., Suruchi // J. Mol. Struct. 2004. V. 668. № 2–3. P. 243.
- Scholes G., Ward J.F., Weiss J. // J. Mol. Biol. 1960. V. 2. № 6. P. 379.
- Tankovskaia S.A., Kotb O.M., Dommes O.A., Paston S.V. // Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 2018. V. 200. P. 85.
- Bazhulina N.P., Nikitin A.M., Rodin S.A., Surovaya A.N., Kravatsky Y.V., Pismensky V.F., Archipova V.S., Martin R., Gursky G.V. // J. Biomol. Struct. Dyn. 2009. V. 26. № 6. P. 701.
- Kolyvanova M.A., Klimovich M.A., Koshevaya E.D., Nikitin E.A., Lifanovsky N.S., Tyurin V.Y., Belousov A.V., Trofimov A.V., Kuzmin V.A., Morozov V.N. // Photonics. 2023. V. 10. № 6. P. 671.
- Gehlen M.H. // J. Photochem. Photobiol. C. 2020. V. 42. P. 100338.
- Jordan C.F., Lerman L.S., Venable J.H. // Nat. New Biol. 1972. V. 236. № 64. P. 67.
- Morozov V.N., Klimovich M.A., Shibaeva A.V., Klimovich O.N., Koshevaya E.D., Kolyvanova M.A., Kuzmin V.A. // Int. J. Mol. Sci. 2023. V. 24. № 14. P. 11365.
- Евдокимов Ю.М., Скуридин С.Г., Салянов В.И., Волков В.В., Дадинова Л.А., Компанец О.Н., Кац Е.И. // Биофизика. 2015. Т. 60. № 5. С. 861.
- Sonntag C. Free-radical-induced DNA damage and its repair. Berlin: Springer, 2006. 523 p.
- Евдокимов Ю.М., Салянов В.И., Семенов С.В., Скуридин С.Г. Жидкокристаллические дисперсии и наноконструкции ДНК. М.: Радиотехника, 2008. 296 с.
- Колыванова М.А., Белоусов А.В., Кузьмин В.А., Морозов В.Н. // Химия высоких энергий. 2022. Т. 56. № 5. С. 416.
- Subiel A., Ashmore R., Schettino G. // Theranostics. 2016. V. 6. № 10. P. 1651.
- Raghuraman M., Verma P., Kunwar A., Phadnis P.P., Jain V.K., Priyadarsini K.I. // Metallomics. 2017. V. 9. P. 715.
- Bondet V., Brand-Williams W., Berset C. // Food Sci. Technol. 1997. V. 30. № 6. P. 609.
- Miller N.J., Rice-Evans C., Davies M.J., Gopinathan V., Milner A. // Clin. Sci. 1993. V. 84. № 4. P. 407.
- Kubo I., Masuoka N., Ha T.J., Tsujimoto K. // Food Chem. 2006. V. 99. № 3. P. 55.
- Sakanaka S., Tachibana Y. // Food Chem. 2006. V. 95. № 2. P. 243.
- Rajagopalan R., Wani K., Huilgol N.G., Kagiya T.V., Krishnan Nair C.K. // J. Radiat. Res. 2002. V. 43. № 2. P. 153.
- Mishra K., Bhardwaj R., Chaudhury N.K. // Radiat. Res. 2009. V. 172. № 6. P. 698.
- Morozov K.V., Kolyvanova M.A., Kartseva M.E., Shishmakova E.M., Dement’eva O.V., Isagulieva A.K., Salpagarov M.H., Belousov A.V., Rudoy V.M., Shtil A.A., Samoylov A.S., Morozov V.N. // Nanomaterials. 2020. V. 10. № 5. P. 952.
- Saito M., Kobayashi M., Iwabuchi S.I., Morita Y., Takamura Y., Tamiya E. // J. Biochem. 2004. V. 136. № 6. P. 813.
- Евдокимов Ю.М., Компанец О.Н. // Научное приборостроение. 2018. Т. 28. № 3. С. 44.
Arquivos suplementares