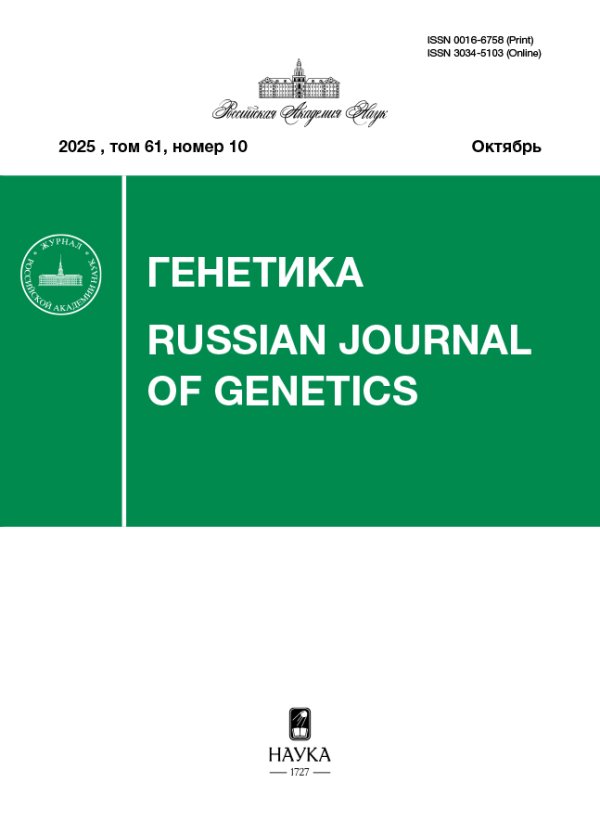Полногеномный анализ в изучении патогенетики задержки роста плода
- Авторы: Гавриленко М.М.1, Трифонова Е.А.1, Степанов В.А.1
-
Учреждения:
- Научно-исследовательский институт медицинской генетики Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук
- Выпуск: Том 60, № 8 (2024)
- Страницы: 3-17
- Раздел: ОБЗОРНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0016-6758/article/view/271427
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0016675824080015
- EDN: https://elibrary.ru/bgelpt
- ID: 271427
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Задержка роста плода – осложнение беременности, определяемое как неспособность плода реализовать свой генетически обусловленный потенциал роста. Несмотря на высокую социальную и медицинскую значимость этой проблемы, к настоящему времени точный патогенез задержки роста плода не известен, поэтому несомненный интерес представляет анализ молекулярно-генетических механизмов данной патологии в рамках подходов, использующих современные высокопроизводительные технологии массового параллельного секвенирования. В настоящем обзоре мы сконцентрировались на анализе данных, полученных в исследованиях генетической компоненты задержки роста плода, авторами которых использованы технологии массового параллельного секвенирования и осуществлено полнотранскриптомное профилирование. Результаты полногеномного анализа экспрессии генов плацентарной ткани позволяют выделить 1430 дифференциально экспрессирующихся при задержке роста плода и физиологической беременности генов, из которых только 1% найден хотя бы в двух работах. Эти дифференциально экспрессирующиеся гены вовлечены в сигнальный путь Wnt/β-катенина, который играет важную роль в миграции клеток, формировании нейронных паттернов и органогенезе во время эмбрионального развития. Общие гены ассоциированы как с акушерскими и гинекологическими заболеваниями, так и с различными соматическими состояниями из групп нейродегенеративных, сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств, что, вероятно, отражает их вовлеченность в развитие постнатальных последствий задержки роста плода. Результаты нашей работы не только указывают на потенциальные молекулярные механизмы и ключевые гены, лежащие в основе задержки роста плода, но также свидетельствует о важной роли ген-генных коммуникаций в механизмах реализации этой патологии: около 30% продуктов всех идентифицированных дифференциально экспрессирующихся генов взаимодействуют между собой в рамках одной генной сети. В целом, полногеномное секвенирование РНК в совокупности с анализом белок-белковых взаимосвязей, представляет собой перспективное направление в исследованиях развития и функционирования плаценты, а также идентификации молекулярно-генетических механизмов заболеваний, связанных с плацентарной недостаточностью, в том числе с задержкой роста плода.
Ключевые слова
Полный текст
Задержка роста плода (ЗРП) – осложнение беременности, определяемое как неспособность плода реализовать свой генетически обусловленный потенциал роста, имеет высокий удельный вес (более 20%) в структуре акушерских заболеваний и большую социально-экономическую значимость за счет снижения демографических показателей [1]. ЗРП является значимым фактором, обусловливающим материнскую заболеваемость и смертность, более частые случаи недоношенности, мертворождения и неонатальной смертности.
Этиология ЗРП многофакторна и включает в себя широкий спектр различных материнских, фетальных, плацентарных и/или генетических причин [2, 3]. Предполагается, что центральной ролью в патогенезе недостаточного роста плода является снижение маточно-плацентарного кровотока, приводящее к уменьшению площади обмена кислородом и питательными веществами между матерью и плодом как на поверхности ворсинок, так и на поверхности капилляров плода. ЗРП имеет значительные последствия для здоровья и развития новорожденного. Доказано, что младенцы с ограничением роста восприимчивы к повышенному риску развития респираторного дистресс-синдрома, легочной гипертензии, гипогликемии, гипокальциемии, гипофосфатемии и могут страдать от задержки когнитивных функций, неврологических и психических расстройств в более позднем возрасте [4]. В дальнейшем онтогенезе взрослые склонны к ожирению, гипертонии, диабету 2-го типа, иммунной дисфункции, сокращению продолжительности жизни, а также неврологическим, сердечно-сосудистым, почечным, печеночным и респираторным осложнениям [5].
Несмотря на высокую социальную значимость и серьезные постнатальные последствия, на сегодняшний день точный патогенез ЗРП и биомаркеры, которые могли бы быть использованы для выявления и прогнозирования этого заболевания, изучены недостаточно.
Согласно базе данных DisGeNET (https://www.disgenet.org/, дата обращения 12.10.2023) [6], на сегодняшний день исследовано 1037 генов-кандидатов ЗРП, вовлеченных в различные патофизиологические процессы, включая пролиферацию клеток и апоптоз, транскрипцию, а также механизмы с участием факторов роста, вазоактивных белков и ферментов. Генами с наиболее высоким уровнем ассоциации с ЗРП (score ≥ 0.3) являются IGF2, IGF1R, NOS3, AGT, COMT, SAMD9.
Анализ ассоциаций случай–контроль для ЗРП в различных работах продемонстрировал связь данной акушерской патологии с такими генами, как IGF2 [7], IGFBP1 [8], LRP8 [9], MMP2, MMP9 [10], STOX1 [11], SERPINA3 [12], SNAT2 [13], которые участвуют в дифференцировке клеток эндодермы, имплантации эмбриона и его морфогенезе, позитивной регуляции клеточной пролиферации и физиологическом течении беременности.
Более мощным методом исследования молекулярных механизмов данной патологии беременности являются широкогеномные исследования вариабельности РНК и ДНК на микрочипах. На сегодняшний день с целью изучения ЗРП были проведены восемь исследований на РНК-чипах, объектом изучения в которых стала плацентарная ткань [14–21]. При анализе результатов данных работ количество генов, которые изменяют свою экспрессию в группе с ЗРП в сравнении с контрольной группой (далее по тексту ДЭГ – дифференциально экспрессирующиеся гены), составило 975, из них общими хотя бы для двух исследований были 33 гена (ACPP, ADAMTS19, AFF1, AREG, CHST2, CPOX, ENG, F5, FGG, FOS, FPR3, HSD11B1, IFNG, IGFBP1, LEP, LGALS14, LGR5, LRP2, MUC15, NFE2L3, PAPPA2, PCDH11X, PTPRB, RBP1, RBP4, SH3TC2, SLC43A2, SPOCK1, TCL6, TMEM136, TREM1, UNC13D, ZNF554), связанных с такими биологическими процессами, как регуляция различных метаболических процессов и иммунный ответ. Стоит отметить, что из этих 33 генов 11 ДЭГ ассоциированы с ЗРП согласно базе данных DisGeNet. Некоторые из этих ДЭГ (ENG [22, 23], F5 [24, 25], IGFBP1 [26–28], LEP [29–31], PAPPA2 [32]) и их продукты ассоциированы не только с ЗРП, но и с другими патологиями беременности, такими как преэклампсия (ПЭ), спонтанные аборты, отслойка плаценты, преждевременные роды, которые входят в группу больших акушерских синдромов (БАС) [33, 34].
Зачастую результаты исследований ассоциаций полиморфных маркеров генов с ЗРП и анализ вариабельности экспрессии не в полной мере отражают представление о молекулярном патогенезе заболевания. Поэтому несомненный интерес в контексте изучения молекулярно-генетических механизмов ЗРП представляет обобщенный анализ данных, полученных с помощью более современной и многообещающей технологии массового параллельного секвенирования (next generation sequencing – NGS).
В настоящее время методы NGS активно используются в области молекулярной медицины и позволяют проводить масштабные разноуровневые исследования, включающие в себя секвенирование всего генома, секвенирование всего экзома с фокусом на белок-кодирующие области, таргетное секвенирование определенных областей, секвенирование РНК для изучения экспрессии генов и идентификации новых транскриптов и эпигенетическое профилирование, которое включает в себя секвенирование паттернов метилирования ДНК или модификаций гистонов, что позволяет получить представление о регуляции экспрессии генов. Данные методы также можно комбинировать с другими генетическими и геномными подходами, например, такими как полногеномные ассоциативные исследования (GWAS).
Массовое параллельное секвенирование, особенно в рамках полногеномного или полнотранскриптомного профилирования, позволяет достаточно быстро и с относительно низкими затратами исследовать большое количество образцов и биомаркеров, предоставляя множество данных, которые могут быть использованы для выявления молекулярных механизмов, а также поиска новых предиктивных РНК-маркеров и геномных вариантов, существенно повышающих риск развития многофакторных заболеваний.
ПОЛНОГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
В настоящей работе проведен анализ данных, полученных в исследованиях генетической компоненты ЗРП, авторами которых использована технология массового параллельного секвенирования. Использованы следующие варианты сочетания запросов в поисковой строке баз данных PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/, дата обращения 22.02.2023) и Cochrane (https://www.cochranelibrary.com/, дата обращения 22.02.2023): “fetal growth restriction”, “fetal growth retardation”, “intrauterine growth restriction”, “next-generation sequencing”, “whole exome sequencing”, “whole genome sequencing”, “human”, “RNA-seq”, “задержка роста плода”, “массовое параллельное секвенирование”, “РНК-секвенирование”. Поиск в PubMed выдал 26 статей, Cochrane – 2. Дальнейшие критерии выбора публикаций были следующими: 1) экспериментальное исследование; 2) материалом является кровь беременной женщины или ее плацента; 3) методом исследования является технология массового параллельного секвенирования; 4) одной из целей авторов была идентификация ДЭГ между профилями экспрессии при физиологической беременности и беременности, окончившейся развитием задержки роста плода. Данные о проведении секвенирования полного генома, экзома и метилома при изучении молекулярных механизмов ЗРП не представлены в базах данных, поэтому в дальнейший анализ включены результаты четырех работ, в которых сообщалось о полнотранскриптомном секвенировании плацентарной ткани у пациенток с ЗРП (табл. 1).
Таблица 1. Исследования, в которых проведен полнотранскриптомный анализ плацентарной ткани при ЗРП
№ | Количество образцов | Материал | Платформа | Анализ дифференциальной экспрессии | Результаты | Топовые гены | Ссылка |
1 | Контроль = 21, ЗРП = 18 | Плацента (ворсины хориона) | HiSeq 2000 (Illumina) | DESeq2, edgeR, ALDEx2 | 144 ДЭГ (77↑, 67↓) | FSTL3, INHA, NOS2, CILP, TGFB1, FAM26D, GPR34, VANGL2, HPGDS, TOX | [35] |
2 | Контроль = 5, ЗРП = 5 | Плацента | HiSeq 4000 (Illumina) | DESeq2, edgeR | 28 ДЭГ (10↑, 18↓) | ARMS2, PHBP5, ADAM2, TCHHL1, BTNL9, THEMIS, PTPRN, ADGRE4P, FNDC4, TRAC | [36] |
3 | Контроль = 2, ЗРП = 5 | Плацента* (монохо- риальная двойня) | HiSeq 2500 (Illumina) | U-критерий Манна – Уитни | 1094 ДЭГ (491↑, 603↓) | HBA2, RPL18A, CD164, CANX, CLIP1, RASA1, CSF3R, TCL6, PSMC1P5, CRYAB | [37] |
4 | Контроль = 155, ЗРП = 56 | Плацента | HiSeq 2500, HiSeq 4000 (Illumina) | DESeq2 | 182 ДЭГ (117↑, 65↓) | IL2RB, CP, NR4A2, NOG, CXCL8,PROK1, SGCA, SLC24A4, POTEF, ABCB1 | [38] |
При анализе результатов данных работ важно отметить, что количество ДЭГ значительно варьировало (от 28 до 1094). Суммарно в описанных выше исследованиях идентифицировано 1430 плацентарных ДЭГ. При поиске общих генов между этими работами показано практически полное отсутствие репликации результатов. Не обнаружены общие гены для трех и всех четырех исследований, что видно из рис. 1, на котором представлена диаграмма Венна, демонстрирующая всего 16 пересекающихся ДЭГ.
Отсутствие репликации результатов, а также большая вариабельность количества идентифицированных ДЭГ, на наш взгляд, могут быть обусловлены рядом факторов, к которым можно отнести критерии включения и исключения пациенток, исследуемые плацентарные регионы, глубину секвенирования, строгость критериев фильтрации и нормализации данных при анализе, а также подход к оценке статистически значимых различий.
Рис. 1. Диаграмма Венна, демонстрирующая общность и специфичность ДЭГ, выявленных в полнотранскриптомных исследованиях ЗРП.
Критерии включения для исследуемых групп подробно описаны во всех работах, схожи между собой и соответствуют диагностическим критериям неосложненной физиологической беременности и изолированной задержке роста плода. Критерии исключения разнятся. Наиболее строго к отбору образцов подошли Awamleh и соавт. [35], которые указали, что для обеих групп исключены женщины с сахарным диабетом, гестационным диабетом, ранее существовавшей артериальной гипертензией, хориоамнионитом, употреблением алкоголя/наркотиков, хромосомными или генетическими аномалиями, врожденными аномалиями или инфекцией. В работе Li и соавт. [37] критерии исключения включали вес обоих близнецов при рождении < 10-го процентиля с поправкой на гестационный возраст, наличие плодов с хромосомными или генетическими аномалиями, а также внутриутробную гибель плода или выкидыш. Majewska и соавт. [36] исключали только образцы с хромосомными аномалиями. В свою очередь, Gong и соавт. [38] не указали критерии исключения для группы с ЗРП, но хорошо охарактеризовали контрольную группу.
Кроме того, различия в результатах могут быть связаны с тем, что во всех рассматриваемых исследованиях плацентарная ткань получена при одноплодной беременности, за исключением работы Li и соавт., предметом анализа в которой служила монохориальная диамниотическая двойня с диагнозом селективной ЗРП [37]. Объемы выборок также были различны и варьировались от двух до 155 человек.
Касательно области биопсии изученного материала стоит отметить, что в этих работах исследовали отличающиеся плацентарные регионы. Наиболее полно метод сбора материала описан в одном из исследований, где все образцы взяты из двух центральных и двух периферических отделов плаценты, затем материнский и фетальный компоненты были разделены, и для анализа использованы только ворсины хориона [35]. В работе, где предметом изучения служили образцы плаценты от беременных женщин с монохориальной диамниотической двойней и диагнозом селективной ЗРП, материал собран с региона каждого близнеца [37]. Стоит отметить, что авторы прибегли к необычному дизайну исследования: транскриптом участка плаценты близнеца с селективной ЗРП сравнивали с транскриптомом части плацентарной ткани нормально выросшего близнеца. В двух других работах авторы ограничиваются упоминанием о сборе плаценты без какой-либо детальной информации.
Биопсия определенных участков исследуемой ткани очень важна в связи с известной на сегодняшний день клеточной гетерогенностью плаценты и вариабельностью профилей экспрессии различных компартментов плаценты и ее клеток. Ранее Sood и соавт. проанализировали 72 образца плаценты и выявили в анатомически различных частях плаценты (амнион, хорион, пуповина) дифференциально экспрессирующиеся гены, продукты которых участвуют в секреции матриксных металлопротеиназ трофобластом, иммунной регуляции и адгезии клеток [39]. В 2018 г. опубликовано исследование, в котором приведены результаты анализа единичных клеток плаценты (single-cell) [40]. Так, в децидуальной оболочке выявлено 11 различных клеточных кластеров, тогда как в ворсинах хориона их 9 – все выявленные кластеры клеток имеют свой уникальный транскриптомный профиль и соответственно могут иметь клеточно-специфичные дифференциально экспрессирующиеся гены.
Секвенирование РНК проведено во всех случаях на платформе HiSeq (Illumina). Немаловажным представляется такой параметр как количество прочтений на образец, от которого может зависеть количество идентифицированных генов. Только в двух исследованиях указана глубина секвенирования, которая составила 55–74 млн прочтений на образец у Li и соавт. и в среднем 101 млн считываний в работе Gong и соавт.
Статистические подходы, используемые авторами, включают в себя распространенные программные пакеты. Анализ дифференциальной экспрессии рассчитан с помощью программного пакета DESeq2 [41] в трех работах из четырех, созданного на более современных алгоритмах вычислений. Несмотря на использование одного и того же статистического метода в большинстве описанных выше исследований, получены разные результаты, так как в работе Awamleh и соавт. использован уровень значимости < 0.01, тогда как в исследованиях Majewska и Gong p-value составил менее 0.05, в работе Li и соавт. для U-критерия Манна–Уитни за уровень значимости принят p < 0.05. В работах Awamleh, Majewska и Gong использована поправка на множественное сравнение Бенджамини – Хохберга, а также учтено изменение кратности FC > 2. В исследовании Li и соавт. не была введена поправка, но значение FC также играло роль как и в других работах.
Также отсутствие репликации может быть связано с различными фенотипическими подтипами ЗРП, включенными в эти исследования, которые могут иметь разную молекулярно-генетическую основу. Так, в работе Gong и соавт. [38] авторы классифицировали ЗРП на пять следующих подтипов:
Используя DESeq2, авторы идентифицировали суммарно 182 ДЭГ при задержке роста плода, притом в группе PAPPA не обнаружены гены, изменяющие свою экспрессию в сравнении с контролем. Стоит отметить, что три группы из пяти (GV, HT, UBD) имели только один общий ген – HLA-DRB5, продукт которого играет центральную роль в иммунной системе, предоставляя ей пептиды, полученные из внеклеточных белков. Также группа GV и группа UAD имели четыре общих ДЭГ (DEFA3, DIO2, HTRA4, IL2RB), группы GV и UBD – один общий ген (EGLN3), группы HT и UBD – один общий ДЭГ (DNAJC27). Таким образом, авторы продемонстрировали вариабельность экспрессии генов в подтипах ЗРП, что свидетельствует о важности указанных выше характеристик при сборе материала для формирования однородной выборки.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО ЭКСПРЕССИРУЮЩИХСЯ ГЕНОВ И ИХ РОЛИ В РАЗВИТИИ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Как уже отмечалось выше, в проведенном нами анализе обобщения данных идентифицированы только 16 общих ДЭГ, полученных в полнотранскриптомных исследованиях ЗРП. Нами проведен анализ этих генов, их продуктов и функций в таких базах данных, как Entrez [42] и UniProt (https://www.uniprot.org/) [43] (табл. 2).
Таблица 2. Общие идентифицированные ДЭГ и их продукты в полнотранскриптомных исследованиях при ЗРП и физиологической беременности
Ген (локализация) | Продукт | Основные функции |
BTNL9 (5q35.3) | Бутирофилиноподобный | Участвует в сигнальном пути Т-клеточных рецепторов и регуляции выработки цитокинов |
С7 (5p13.1) | Компонент C7 системы | Играет значимую роль в иммунном ответе |
CST6 (11q13.1) | Ингибитор цистеиновой | Участвует в регуляции ороговения эпидермиса и ингибировании онкогенеза |
FAT2 (5q33.1) | Белок суперсемейства | Участвует в регуляции миграции клеток |
IL36RN (2q14.1) | Антагонист рецептора интерлейкина 36 | Ингибирует активность |
MALAT1 (NEAT2) (11q13.1) | Транскрипт-1, | Действует как регулятор транскрипции |
MYH10 (17p13.1) | Тяжелая цепь миозина | Играет роль в реорганизации цитоскелета, |
OS9 (12q13.3- q14.1) | Лектин | Участвует в контроле качества |
PLEC (8q24.3) | Плектин | Связывает промежуточные нити |
PTPRF (1p34.2) | Рецепторная | Обладает внутренней активностью |
RBPJ (4p15.2) | Белок, связывающий сигнал | Транскрипционный регулятор, который играет |
SEMA6D (15q21.1) | Семафорин 6D | Участвует в поддержании и ремоделировании нейронных связей |
SLC1A6 (19p13.12) | Транспортер глутамата | Натрий-зависимый, высокоаффинный переносчик аминокислот |
SMIM5 (17q25.1) | Малый интегральный белок | Вероятный неотъемлемый компонент |
TMC6 (17q25.3) | Трансмембранный каналоподобный белок | Вероятный ионный канал |
TUBA1C (12q13.12) | Цепь альфа-1С тубулина | Тубулин является основным компонентом |
Из представленных 16 общих ДЭГ только один локус является белок-некодирующим, это ген MALAT1, также известный как NEAT2, представляющий собой редко подвергающуюся сплайсингу некодирующую РНК, которая высоко консервативна среди млекопитающих и высоко экспрессируется в ядре; продукты остальных ДЭГ являются трансмембранными белками, рецепторами, интегральными белками и др.
Для поиска репродуктивных заболеваний, которые могут быть связаны с общими генами, мы провели анализ литературных данных. Результаты свидетельствуют, что 12 из 16 общих ДЭГ (BTNL9, С7, CST6, FAT2, MALAT1, MYH10, PLEC, PTPRF, RBPJ, SEMA6D, TMC6, TUBA1C) ассоциированы с такими влияющими на репродукцию заболеваниями как синдром поликистозных яичников, преждевременная недостаточность яичников, эндометриоз, рак яичников (рис. 2). И только для пяти генов показана связь с патологическим течением беременности в других работах, краткое обсуждение результатов которых будет представлено ниже. Интересным также представляется тот факт, что, согласно базе данных DisGeNet, 13 из 16 общих ДЭГ имеют ассоциации с различными соматическими патологиями, а именно чаще всего с раками различной локализации (желудка, молочных желез, печени, пищевода, предстательной железы), аутоиммунными и дерматологическими заболеваниями, а также с врожденными пороками развития, что согласуется с исследованиями о наличии сердечно-сосудистых, неврологических и психических осложнений во взрослом возрасте у рожденных с ЗРП [4, 5].
Рис. 2. Анализ ассоциаций 16 ДЭГ с различными заболеваниями согласно литературным данным и базе данных DisGeNet. ПНБ – привычное невынашивание беременности; ПНЯ – преждевременная недостаточность яичников; СПКЯ – синдром поликистозных яичников. Оценка score DisGeNET учитывает количество источников, сообщающих об ассоциации, тип кураторства каждого из этих источников, модели животных, на которых изучалась ассоциация, и количество подтверждающих публикаций. Оценка варьируется от 0 до 1 и дает наивысшую ценность ассоциациям, о которых сообщают несколько баз данных и с большим количеством вспомогательных публикаций. Высоким считается score > 0.3.
Ген BTNL9 обеспечивает активность связывания сигнальных рецепторов и вероятно участвует в сигнальном пути Т-клеточных рецепторов и регуляции выработки цитокинов. Этот ген ассоциирован с ЗРП в работе, посвященной изучению плацентарной ткани на микрочипах [44], и с ПЭ в полнотранскриптомном исследовании плаценты [45]. Ген компонента комплемента C7 вносит вклад в развитие ранней ПЭ, согласно исследованию Nevalainen и коллег [46], которые сравнивали на микрочипах дифференциальную экспрессию генов ворсин хориона, полученных от женщин с ранней и поздней ПЭ и физиологическим течением беременности. Интересным представляется транскрипт-1 аденокарциномы легкого, ассоциированный с метастазированием (MALAT1), – длинная некодирующая РНК, которая функционирует как ключевой регулятор разнообразных клеточных процессов. В исследовании Wang и соавт. 2019 г. [47] обнаружена взаимосвязь между сниженным уровнем MALAT1 и привычным невынашиванием беременности; также продемонстрировано, что как функциональная lncRNA MALAT1 контролирует клеточную пролиферацию, апоптоз, миграцию, инвазию и модулирует образование кровеносных сосудов [48]. В работе Ou и соавт. показано, что MALAT1 способствует развитию гипертензии, вызванной беременностью, усиливая окислительный стресс и воспаление посредством регуляции микроРНК [49]. В ряде исследований обнаружена ассоциация с инвазией цитотрофобласта и децидуализацией эндометрия, что может играть роль в патогенезе преэклампсии [50–52]. Ген MYH10 способствует опосредованной миграции клеток и инвазии цитотрофобласта при взаимодействии с предимплантационным фактором PIF [53]. Наиболее интересным представляется ген RBPJ, продукт которого является ключевым фактором транскрипции в сигнальном пути всех четырех Notch-рецепторов млекопитающих. Есть исследования, которые демонстрируют участие этого гена и его белка в морфогенезе плаценты [54], имплантации [55], а также показана связь с привычным невынашиванием беременности [56]. Стоит отметить, что в исследовании, проведенном Chi и соавт. в 2017 г., показано снижение экспрессии транскрипционного фактора RBPJ в плаценте, подверженной ЗРП [57].
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АННОТАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО ЭКСПРЕССИРУЮЩИХСЯ ГЕНОВ С ПОМОЩЬЮ БАЗ ДАННЫХ
Необходимо отметить, что подробная аннотация кластера дифференциально экспрессирующихся генов была представлена только в работах Majewska и Gong, поэтому с помощью ресурса WebGestalt (https://www.webgestalt.org/) [58] и базы данных GeneOntology (https://geneontology.org/) [59] мы провели анализ обогащения категорий биологических процессов, в которые вовлечены ДЭГ, идентифицированные в каждой из рассматриваемых работ, и сопоставили их между собой. Мы обнаружили совершенно различные сигнальные пути, представленные в табл. 3.
Таблица 3. Биологические пути для ДЭГ, идентифицированных в полнотранскриптомных исследованиях при ЗРП и физиологической беременности*
Автор, год | Источник | Основные биологические процессы GeneOntology, топ-5 для каждого из исследований |
Awamleh et al., 2019 | [35] | GO:0046903: Секреция |
GO:0032940: Клеточная секреция | ||
GO:0001775: Активация клеток | ||
GO:0008654: Процесс биосинтеза фосфолипидов | ||
GO:0060029: Конвергенция при эмбриональном органогенезе | ||
Majewska et al., 2019 | [36] | GO:0030217: Дифференцировка Т-клеток |
GO:0050852: Сигнальный путь T-клеточного рецептора | ||
GO:0042110: Активация T-клеток | ||
GO:0050851: Сигнальный путь, опосредованный антигенным рецептором | ||
GO:0030098: Дифференцировка лимфоцитов | ||
Li et al., 2020 | [37] | GO:0070727: Локализация клеточных макромолекул |
GO:0034613: Локализация клеточного белка | ||
GO:0046907: Внутриклеточный транспорт | ||
GO:0016071: Метаболический процесс мРНК | ||
GO:0006886: Внутриклеточный транспорт белка | ||
Gong et al., 2021 | [38] | GO:0048754: Ветвящийся морфогенез эпителиальной трубки |
GO:0035239: Морфогенез трубок (эпителиальных и эндотелиальных) | ||
GO:0048514: Морфогенез кровеносных сосудов | ||
GO:0006928: Перемещение клетки или субклеточного компонента | ||
GO:0061138: Морфогенез ветвящегося эпителия |
Примечание. * Приводятся категории, для которых уровень значимости составил p < 0.01.
Так, ДЭГ из исследования Awamleh и соавт. связаны с клеточной секрецией и вовлечены в эмбриогенез, ассоциацию с которым продемонстрировали и гены из работы Gong и соавт. ДЭГ из работы Li и соавт. активно участвуют в процессах сборки и локализации белков. В работе Majewska и соавт. гены вовлечены в Т-клеточный иммунный ответ, который играет важную роль в поддержании физиологической беременности. Примечательно, что при анализе патологических путей с помощью базы данных KEGG (https://www.genome.jp/kegg/) [60] установлена связь с дифференцировкой Т-хелперов 1-го, 2-го и 17-го типов (hsa04658, hsa04659) для ДЭГ, идентифицированных в двух работах из четырех [35, 36]. Известно, что T-хелперы 1-го типа (Th1), характеризующиеся иммунно-воспалительными реакциями, способствуют инвазии цитотрофобласта, а вскоре после имплантации на передний план выходят противовоспалительные Т-хелперы 2-го типа (Th2), в то время как Т-хелперы 17-го типа (Th17) индуцируют защитный иммунитет против вирусов и бактерий во время беременности [61].
Затем с помощью ресурса WebGestalt мы осуществили дополнительный анализ функциональной обогащенности кластера генов, объединив в один массив все 1430 ДЭГ, ассоциированных с ЗРП в рассматриваемых работах. На рис. 3 показаны результаты анализа обогащения 1430 ДЭГ согласно базе данных GeneOntology.
Рис. 3. Анализ обогащения для общего массива из 1430 ДЭГ полнотранскриптомных исследований ЗРП.
Для всех генов выявлено десять значимых биологических путей (FDR < 0.05), в шести из них задействованы несколько из обнаруженных нами 16 общих ДЭГ (MYH10, OS9, TUBA1C), связанных с локализацией клеточных макромолекул (GO:0070727), катаболическим процессом макромолекул (GO:0009057) и внутриклеточным транспортом (GO:0046907). Известно, что в различных клетках плацентарной ткани постоянно происходят процессы биосинтеза, метаболизма и транспортировки биологических молекул, например, таких как холестерин [62]. Показано, что накопление холестерина в синцитиотрофобласте и дефекты в его транспортировке ухудшают лизосомальную и митохондриальную функции клеток, что может привести к окислительному стрессу, который является важным фактором многих осложнений беременности, включая преэклампсию и задержку роста плода [63, 64]. Стоит отметить, что только в трех значимых биологических путях из десяти задействованы гены из всех четырех исследований. Этими путями являются симбиотический процесс (GO:0044403), межвидовое взаимодействие между организмами (GO:0044419) и вирусный процесс (GO:0016032), которые также имеют максимальные коэффициенты обогащения в проведенном нами анализе. Вероятнее всего, все три данные категории ассоциированы с молекулярными механизмами ЗРП, связанными с влиянием вирусных инфекций на течение беременности и развитие плода. Вирусы редко проникают через плацентарный барьер, но когда вирус все же достигает плода, это может привести к серьезным врожденным дефектам, таким как микроцефалия или даже гибель плода. Хорошо известно, что вирусная инфекция, затронувшая клетки на границе раздела мать–плод, может повлиять на функционирование плаценты и привести к осложнениям беременности, включая ЗРП. Наиболее распространенными вирусами, выявленными на сегодняшний день на границе между матерью и плодом, являются цитомегаловирус, вирус простого герпеса и аденоассоциированный вирус. Цитотрофобласт первого триместра беременности, инфицированный одним из вышеуказанных вирусов, демонстрирует сниженную клеточную инвазию в децидуальную оболочку, повышенный апоптоз, снижение секреции хорионического гонадотропина человека, что впоследствии может привести к ЗРП, ПЭ и спонтанному аборту [65]. Стоит отметить, что только в одной из рассматриваемых нами работ [35] строго прописывалось исключение каких-либо инфекций у обследованных пациентов, поэтому существует вероятность того, что в трех других исследованиях развитие ЗРП ассоциировано с персистированием какого-либо вируса.
АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕНОВ
Анализ реконструированной с использованием программ STRING (https://string-db.org/) [66] и NetworkAnalyst (https://www.networkanalyst.ca/) [67] белок-белковой сети (рис. 4), включающей 424 продукта 1430 ДЭГ, свидетельствует о высокой степени их взаимодействий (более 500 парных взаимодействий имеют значения коэффициента combined_score ≥ 0.99).
Рис. 4. Сеть белок-белковых взаимодействий продуктов дифференциально экспрессирующихся генов в плацентарной ткани при ЗРП (красный цвет – центральные гены сети; фиолетовый, сиреневый, голубой и синий цвета – гены из исследований Awamleh [35], Majewska [36], Li [37], Gong [38] соответственно).
Центральное место в построенной сети с максимальным числом и силой взаимодействий (node_degree ≥ 30, score ≥ 0.99) занимают следующие семь генов: UBC, RPS3, RACK1, RPS9, RPL4, CDC42, FAU, ассоциированные согласно аннотации сигнальных путей в базах данных KEGG и Reactome (https://reactome.org/) [68] с элонгацией и терминацией трансляции у эукариот, сигнальным путем VEGF, различными вирусными и бактериальными инфекционными путями, а также с регуляцией экспрессии белков Slit и Robo, модулирующих ангиогенез и адгезию клеток, опосредованную E-кадгерином [69]. Примечательно, что ДЭГ всех четырех исследований взаимодействуют между собой не только в одной генной сети в целом, но и в отдельно взятом кластере в частности. Например, в кластере, выделенном на рис. 4, между собой взаимодействуют: ген CDC42 [39], участвующий в ингибировании пролиферации и миграции цитотрофобласта [70]; ген MUC1 [37], продукт которого является компонентом гликокаликса в эндометрии и может играть важную роль в формировании “окна имплантации” эмбриона [71]; белок, кодируемый геном LCK [38], является ключевой сигнальной молекулой в отборе и созревании развивающихся Т-лимфоцитов [72]; и рецептор интерлейкина 2 – IL2RB [40], участвует в опосредованных Т-клетками иммунных реакциях [73]. Нарушение экспрессии продуктов этих генов может приводить к различным патологиям беременности, в том числе спонтанному аборту, привычному невынашиванию беременности, преэклампсии и задержке роста плода через механизмы инвазии цитотрофобласта и регуляции Т-клеточного иммунитета.
Интересным представляется то, что гены, являющиеся звеньями описанной выше сети, а также некоторые биологические пути соотносятся с данными ранее проведенного исследования [74], в котором был изучен ландшафт событий альтернативного сплайсинга транскриптома децидуальных клеток плацентарной ткани пациенток с физиологическим течением беременности. В указанной работе гены, кодирующие большие и малые субъединицы рибосомного белка (RPL и RPS соответственно), также заняли значимое место в сети белок-белковых взаимодействий, но все они кодируют другие белковые подсубъединицы, за исключением гена RPS9, являющегося центральным в сети как описываемого исследования, так и в сети взаимодействий настоящей работы. Также имеет место быть совпадение сигнальных путей, ассоциированных с элонгацией трансляции у эукариот, а также регуляцией белков Slit и Robo, упоминаемых выше. Можно предположить, что альтернативный сплайсинг играет важную роль в развитии ЗРП и последующие работы могут внести вклад в более полное понимание такого молекулярного механизма патогенеза.
Таким образом, использование генных сетей является эффективным методом анализа как ген-генных, так и белок-белковых взаимодействий [75]. Эффективный сетевой анализ позволил выявить неочевидные на первый взгляд взаимодействия между ДЭГ, выявленными в полнотранскриптомных работах, объектом исследования в которых стала плацентарная ткань при ЗРП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье впервые приводятся обобщенные данные о полученных с помощью технологии NGS результатах в исследованиях, посвященных изучению молекулярно-генетических механизмов задержки роста плода. Работы, в которых генетическая архитектура ЗРП исследована с помощью полноэкзомного или полногеномного секвенирования, на данный момент отсутствуют, но проведены единичные полнотранскриптомные исследования плацентарной ткани, что свидетельствует о необходимости расширения исследований с применением технологии массового параллельного секвенирования в данной области.
Результаты четырех полнотранскриптомных исследований при ЗРП очень разнятся, среди 1430 идентифицированных ДЭГ только 1.12% генов (BTNL9, C7, CST6, FAT2, IL36RN, MALAT1, MYH10, OS9, PLEC, PTPRF, RBPJ, SEMA6D, SLC1A6, SMIM5, TMC6, TUBA1C) между рассматриваемыми работами пересекаются, что может быть связано с разными критериями включения и исключения, отличиями в анализируемых плацентарных регионах, подходом к проведению секвенирования и строгостью критериев при статистическом анализе. Таким образом, при проведении полногеномного экспрессионного анализа немаловажно учитывать подтипы ЗРП и формировать максимально близкие по клиническим параметрам группы, что обусловливает значимость разработки детальных критериев определения пациенток в ту или иную когорту в данных работах. Стоит отметить, что при формировании выборок необходимо учитывать наличие вирусных инфекций у матери из-за их негативного влияния как на развитие плаценты, так и на рост плода.
Показано, что клеточная гетерогенность плаценты является весьма высокой, в связи с чем последующие полнотранскриптомные исследования плацентарной ткани должны быть сфокусированы в области анализа транскриптома одиночных клеток (Single-cell RNA sequencing). Более того, транскриптомное профилирование отдельных субпопуляций клеток материнской крови в сочетании с анализом экспрессии генов клеток плацентарной ткани может быть гораздо более эффективным для выявления как плацентарных, так и материнских молекулярных факторов, определяющих развитие ЗРП и характеризующих ее клинические фенотипы.
Необходимо подчеркнуть, что использование метода NGS позволяет выявлять новые гены-кандидаты, которые ранее не рассматривались как ассоциированные с ЗРП. Так, проведя анализ результатов четырех полнотранскриптомных исследований, мы выявили, что количество идентифицированных в них генетических маркеров составило 1430, из которых только 95 генов ассоциированы с ЗРП согласно базе данных DisGeNET, включая такие известные биомаркеры акушерских патологий как ENG, HIF1A, IGF2, INHA, NOS3, PlGF. Стоит отметить, что 14 из 16 общих ДЭГ (C7, CST6, FAT2, IL36RN, MALAT1, MYH10, OS9, PLEC, PTPRF, SEMA6D, SLC1A6, SMIM5, TMC6, TUBA1C) в анализируемых работах являются совершенно новыми маркерами для ЗРП и ассоциированы с иммунологическими, дерматологическими и психоневрологическими заболеваниями, а также раком различных локализаций. Интересным представляется тот факт, что ДЭГ всех четырех исследований взаимодействуют между собой в одной генной сети, которая включает в себя 424 звена. Анализ сети регуляции генов представляется актуальным инструментом, который описывает биологические взаимодействия между генами и обеспечивает систематическое понимание клеточных сигнальных и регуляторных процессов. Нами показано, что дифференциально экспрессирующиеся гены из включенных в анализ работ участвуют в процессах воспаления и иммунном ответе, ассоциированы с эмбриональным развитием, активно участвуют в процессах сборки и локализации белков. Примечательно, что совпадающих категорий биологических процессов между работами нет, но если оценивать патологические пути в целом для единого массива генов, то общие ДЭГ задействованы, в первую очередь, в сигнальном пути Wnt/β-катенина, который играет критическую роль в миграции клеток, формировании нейронных паттернов и органогенезе во время эмбрионального развития. Несмотря на то что дизайн нашего исследования построен на изучении исследований с изолированной ЗРП, некоторые гены ранее были идентифицированы как дифференциально экспрессирующиеся при других патологиях беременности, таких как преэклампсия и привычное невынашивание беременности, а также с такими онкогинекологическими заболеваниями, как рак яичников и рак шейки матки.
Анализ плацентарного транскриптома методами NGS в совокупности с другими современными подходами, например, такими как изучение метилома и протеома, представляет собой перспективное направление в исследованиях плаценты, ее развития и функционирования, а также в идентификации молекулярно-генетических механизмов, приводящих к возникновению заболеваний, связанных с плацентарной недостаточностью, в том числе и к задержке роста плода.
Исследование выполнено за счет средств Государственного задания по теме ФНИ № 122020200083-8.
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с использованием в качестве объекта животных.
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием в качестве объекта людей.
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Об авторах
М. М. Гавриленко
Научно-исследовательский институт медицинской генетики Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: maria.gavrilenko@medgenetics.ru
Россия, Томск, 634050
Е. А. Трифонова
Научно-исследовательский институт медицинской генетики Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук
Email: maria.gavrilenko@medgenetics.ru
Россия, Томск, 634050
В. А. Степанов
Научно-исследовательский институт медицинской генетики Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук
Email: maria.gavrilenko@medgenetics.ru
Россия, Томск, 634050
Список литературы
- Sharma D., Shastri S., Sharma P. Intrauterine growth restriction: antenatal and postnatal aspects // Clin. Med. Insights: Pediatrics. 2016. V. 10. P. 67–83. https://doi.org/10.4137/CMPed.S40070
- Leftwich H.K., Stetson B., Sabol B. et al. Growth restriction: Identifying fetuses at risk // J. Maternal-Fetal and Neonatal Med. 2018. V. 31. № 15. P. 1962–1966. https://doi.org/10.1080/14767058.2017.1332040
- Salmeri N., Carbone I.F., Cavoretto P.I. et al. Epigenetics beyond fetal growth restriction: A comprehensive overview // Mol. Diagnosis and Therapy. 2022. V. 26. № 6. P. 607–626. https://doi.org/10.1007/s40291-022-00611-4
- Yzydorczyk C., Armengaud J.B., Peyter A.C. et al. Endothelial dysfunction in individuals born after fetal growth restriction: Cardiovascular and renal consequences and preventive approaches // J. Developmental Origins Health and Disease. 2017. V. 8. № 4. P. 448–464. https://doi.org/10.1017/S2040174417000265
- Bendix I., Miller S.L., Winterhager E. Causes and consequences of intrauterine growth restriction // Front. Endocrinol. 2020. V. 11. P. 205. https://doi.org/10.3389/fendo.2020.00205
- Piñero J., Ramírez-Anguita J.M., Saüch-Pitarch J. et al. The DisGeNET knowledge platform for disease genomics: 2019 update // Nucl. Acids Res. 2020. V. 48. № D1. P. D845–D855. https://doi.org/10.1093/nar/gkz1021
- Antonazzo P., Alvino G., Cozzi V. et al. Placental IGF2 expression in normal and intrauterine growth restricted (IUGR) pregnancies // Placenta. 2008. V. 29. № 1. P. 99–101. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2007.06.010
- Gupta M.B., Abu Shehab M., Nygard K. et al. IUGR is associated with marked hyperphosphorylation of decidual and maternal plasma IGFBP-1 // The J. Clin. Endocrinol. and Metabolism. 2019. V. 104. № 2. P. 408–422. https://doi.org/10.1210/jc.2018-00820
- Wang L., Wang X., Laird N. et al. Polymorphism in maternal LRP8 gene is associated with fetal growth // The Am. J. Human Genet. 2006. V. 78. № 5. P. 770–777. https://doi.org/10.1086/503712
- Gremlich S., Nguyen D., Reymondin D. et al. Fetal MMP2/MMP9 polymorphisms and intrauterine growth restriction risk // J. Reproductive Immunol. 2007. V. 74. № 1–2. P. 143–151. https://doi.org/10.1016/j.jri.2007.02.001
- Berends A.L., Bertoli‐Avella A.M., De Groot C.J.M. et al. STOX1 gene in pre‐eclampsia and intrauterine growth restriction // BJOG: An Intern. J. Obstetrics and Gynaecol. 2007. V. 114. № 9. P. 1163–1167. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2007.01414.x
- Chelbi S.T., Wilson M.L., Veillard A.C. et al. Genetic and epigenetic mechanisms collaborate to control SERPINA3 expression and its association with placental diseases // Human Mol. Genet. 2012. V. 21. № 9. P. 1968–1978. https://doi.org/10.1093/hmg/dds006
- Mandò C, Tabano S., Pileri P. et al. SNAT2 expression and regulation in human growth-restricted placentas // Pediatric Res. 2013. V. 74. № 2. P. 104–110. https://doi.org/10.1038/pr.2013.83
- McMinn J., Wei M., Schupf N. et al. Unbalanced placental expression of imprinted genes in human intrauterine growth restriction // Placenta. 2006. V. 27. № 6–7. P. 540–549. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2005.07.004
- Sitras V., Paulssen R., Leirvik J. et al. Placental gene expression profile in intrauterine growth restriction due to placental insufficiency // Reproductive Sci. 2009. V. 16. № 7. P. 701–711. https://doi.org/10.1177/1933719109334256
- Struwe E., Berzl G., Schild R. et al. Microarray analysis of placental tissue in intrauterine growth restriction // Clin. Endocrinology. 2010. V. 72. № 2. P. 241–247. https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.2009.03659.x
- Nishizawa H., Ota S., Suzuki M. et al. Comparative gene expression profiling of placentas from patients with severe pre-eclampsia and unexplained fetal growth restriction // Reproductive Biol. and Endocrinol. 2011. V. 9. № 1. P. 1–12. https://doi.org/10.1186/1477-7827-9-107
- Guo L., Tsai S.Q., Hardison N.E. et al. Differentially expressed microRNAs and affected biological pathways revealed by modulated modularity clustering (MMC) analysis of human preeclamptic and IUGR placentas // Placenta. 2013. V. 34. № 7. P. 599–605. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2013.04.007
- Sabri A., Lai D., D’silva A. et al. Differential placental gene expression in term pregnancies affected by fetal growth restriction and macrosomia // Fetal Diagnosis and Therapy. 2014. V. 36. № 2. P. 173–180. https://doi.org/10.1159/000360535
- Madeleneau D., Buffat C., Mondon F. et al. Transcriptomic analysis of human placenta in intrauterine growth restriction // Ped. Research. 2015. V. 77. № 6. P. 799–807. https://doi.org/10.1038/pr.2015.40
- Medina-Bastidas D., Guzmán-Huerta M., Borboa-Olivares H. et al. Placental microarray profiling reveals common mRNA and lncRNA expression patterns in preeclampsia and intrauterine growth restriction // Intern. J. Mol. Sciences. 2020. V. 21. № 10. https://doi.org/10.3390/ijms21103597
- Margioula-Siarkou G., Margioula-Siarkou S., Petousis S. et al. The role of endoglin and its soluble form in pathogenesis of preeclampsia // Mol. and Cell. Biochemistry. 2022. V. 477. № 2. P. 479–491. https://doi.org/10.1007/s11010-021-04294-z
- Jeyabalan A., McGonigal S., Gilmour C. et al. Circulating and placental endoglin concentrations in pregnancies complicated by intrauterine growth restriction and preeclampsia // Placenta. 2008. V. 29. № 6. P. 555–563. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2008.03.006
- Khidri F.F., Waryah Y.M., Ali F.K. et al. MTHFR and F5 genetic variations have association with preeclampsia in Pakistani patients: A case control study // BMC Med. Genetics. 2019. V. 20. № 1. P. 163. https://doi.org/10.1186/s12881-019-0905-9
- Kujovich J.L. Factor V Leiden thrombophilia // Genetics in Medicine. 2011. V. 13. № 1. P. 1–16. https://doi.org/10.1097/GIM.0b013e3181faa0f2
- Peng X., He D., Peng R. et al. Associations between IGFBP1 gene polymorphisms and the risk of preeclampsia and fetal growth restriction // Hypertension Res. 2023. V. 46. № 9. P. 2070–2084. https://doi.org/10.1038/s41440-023-01309-8
- Tchirikov M., Schlabritz-Loutsevitch N., Maher J. et al. Mid-trimester preterm premature rupture of membranes (PPROM): etiology, diagnosis, classification, international recommendations of treatment options and outcome // J. Perinatal Med. 2018. V. 46. № 5. P. 465–488. https://doi.org/10.1515/jpm-2017-0027
- Dogić L.M., Mićić D., Omeragić F. et al. IGFBP-1 marker of cervical ripening and predictor of preterm birth // Med. Glasnik. 2016. V. 13. № 2. P. 118–124. https://doi.org/10.17392/856-16
- Aisagbonhi O., Bui T., Nasamran C.A. et al. High placental expression of FLT1, LEP, PHYHIP and IL3RA–In persons of African ancestry with severe preeclampsia // Placenta. 2023. V. 144. P. 13–22. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2023.10.008
- Chen S., Ke Y., Chen W. et al. Association of the LEP gene with immune infiltration as a diagnostic biomarker in preeclampsia // Frontiers in Mol. Biosciences. 2023. V. 10. https://doi.org/10.3389/fmolb.2023.1209144
- Trifonova E.A., Gabidulina T.V., Ershov N.I. et al. Analysis of the placental tissue transcriptome of normal and preeclampsia complicated pregnancies // Acta Naturae. 2014. V. 6. № 2. P. 71–83.
- Macintire K., Tuohey L., Ye L. et al. PAPPA2 is increased in severe early onset pre-eclampsia and upregulated with hypoxia // Reproduction, Fertility and Development. 2014. V. 26. № 2. P. 351–357. https://doi.org/10.1071/RD12384
- Brosens I., Pijnenborg R., Vercruysse L. et al. The “Great Obstetrical Syndromes” are associated with disorders of deep placentation // Am. J. Obstetrics and Gynecology. 2011. V. 204. № 3. P. 193–201. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2010.08.009
- Di Renzo G.C. The great obstetrical syndromes // The J. Maternal-Fetal and Neonatal Med. 2009. Т. 22. № 8. P. 633–635. https://doi.org/10.1080/14767050902866804
- Awamleh Z., Gloor G.B., Han V.K.M. Placental microRNAs in pregnancies with early onset intrauterine growth restriction and preeclampsia: Potential impact on gene expression and pathophysiology // BMC Med. Genomics. 2019. V. 12. № 1. P. 91. https://doi.org/10.1186/s12920-019-0548-x
- Majewska M., Lipka A., Paukszto L. et al. Placenta transcriptome profiling in intrauterine growth restriction (IUGR) // Intern. J. Mol. Sciences. 2019. V. 20. № 6. P. 1510. https://doi.org/10.3390/ijms20061510
- Li W., Chung C.Y.L., Wang C.C. et al. Monochorionic twins with selective fetal growth restriction: Insight from placental whole-transcriptome analysis // Am. J. Obstetrics and Gynecology. 2020. V. 223. № 5. P. 749.e1–749.e16. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.05.008
- Gong S., Gaccioli F., Dopierala J. et al. The RNA landscape of the human placenta in health and disease // Nat. Communications. 2021. V. 12. № 1. P. 2639. https://doi.org/10.1038/s41467-021-22695-y
- Sood R., Zehnder J.L., Druzin M.L. et al. Gene expression patterns in human placenta // Proc. Nat. Acad. Sci. 2006. V. 103. № 14. P. 5478–5483. https://doi.org/10.1073/pnas.0508035103
- Suryawanshi H., Morozov P., Straus A. et al. A single-cell survey of the human first-trimester placenta and decidua // Sci. Advances. 2018. V. 4. № 10. P. eaau4788. https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4788
- Love M.I., Huber W., Anders S. Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2 // Genome Biology. 2014. V. 15. № 12. P. 1–21. https://doi.org/10.1186/s13059-014-0550-8
- Maglott D., Ostell J., Pruitt K.D. et al. Entrez gene: Gene-centered information at NCBI // Nucl. Acids Res. 2005. V. 35. P. D54–D58. https://doi.org/10.1093/nar/gkl993
- Apweiler R., Bairoch A., Wu C.H. et al. UniProt: The universal protein knowledgebase // Nucl. Acids Res. 2004. V. 32. P. D115–D119. https://doi.org/10.1093/nar/gkw91099
- Dunk C.E., Roggensack A.M., Cox B. et al. A distinct microvascular endothelial gene expression profile in severe IUGR placentas // Placenta. 2012. V. 33. № 4. P. 285–293. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2011.12.020
- Kaartokallio T., Cervera A., Kyllönen A. et al. Gene expression profiling of pre-eclamptic placentae by RNA sequencing // Sci. Reports. 2015. V. 5. https://doi.org/10.1038/srep14107
- Nevalainen J., Skarp S., Savolainen E.R. et al. Intrauterine growth restriction and placental gene expression in severe preeclampsia, comparing early-onset and late-onset forms // J. Perinatal Med. 2017. V. 45. № 7. P. 869–877. https://doi.org/10.1515/jpm-2016-0406
- Wang Y., Liu H.Z., Liu Y. et al. Disordered p53‐MALAT1 pathway is associated with recurrent miscarriage // The Kaohsiung J. Med. Sciences. 2019. V. 35. № 2. P. 87–94. https://doi.org/10.1002/kjm2.12013
- Chen H., Meng T., Liu X. et al. Long non-coding RNA MALAT-1 is downregulated in preeclampsia and regulates proliferation, apoptosis, migration and invasion of JEG-3 trophoblast cells // Intern. J. Clin. and Experim. Pathology. 2015. V. 8. № 10. P. 12718.
- Ou M., Zhao H., Ji G. et al. Long noncoding RNA MALAT1 contributes to pregnancy‐induced hypertension development by enhancing oxidative stress and inflammation through the regulation of the miR‐150‐5p/ET‐1 axis // The FASEB J. 2020. V. 34. № 5. P. 6070–6085. https://doi.org/10.1096/fj.201902280r
- Feng C., Cheng L., Jin J. et al. Long non-coding RNA MALAT1 regulates trophoblast functions through VEGF/VEGFR1 signaling pathway // Arch. Gynecology and Obstetrics. 2021. V. 304. № 4. P. 873–882. https://doi.org/10.1007/s00404-021-05987-y
- Wu H.Y., Wang X.H., Liu K. et al. LncRNA MALAT1 regulates trophoblast cells migration and invasion via miR-206/IGF-1 axis // Cell Cycle. 2020. V. 19. № 1. P. 39–52. https://doi.org/10.1080/15384101.2019.1691787
- Shi L., Zhu L., Gu Q. et al. LncRNA MALAT1 promotes decidualization of endometrial stromal cells via sponging MiR‐498‐3p and targeting histone deacetylase 4 // Cell Biology Intern. 2022. V. 46. № 8. P. 1264–1274. https://doi.org/10.1002/cbin.11814
- Yang M., Yang Y., She S. et al. Proteomic investigation of the effects of preimplantation factor on human embryo implantation // Mol. Med. Reports. 2018. V. 17. № 3. P. 3481–3488. https://doi.org/10.3892/mmr.2017.8338
- Lu J., Wu W., Xin Q. et al. Spatiotemporal coordination of trophoblast and allantoic Rbpj signaling directs normal placental morphogenesis // Cell Death and Disease. 2019. V. 10. № 6. P. 438. https://doi.org/10.1038/s41419-019-1683-1
- Robinson J.F., Fisher S.J. Rbpj links uterine transformation and embryo orientation // Cell Research. 2014. V. 24. № 9. P. 1031–1032. https://doi.org/10.1038/cr.2014.110
- Strug M.R., Su R.W., Kim T.H. et al. RBPJ mediates uterine repair in the mouse and is reduced in women with recurrent pregnancy loss //The FASEB J. 2018. V. 32. № 5. P. 2452. https://doi.org/10.1096/fj.201701032r
- Chi L., Ahmed A., Roy A.R. et al. G9a controls placental vascular maturation by activating the Notch Pathway // Development. 2017. V. 144. № 11. P. 1976–1987. https://doi.org/10.1242/dev.148916
- Liao Y., Wang J., Jaehnig E.J. et al. WebGestalt 2019: Gene set analysis toolkit with revamped UIs and APIs // Nucl. Acids Res. 2019. V. 47. № W1. P. W199–W205. https://doi.org/10.1093/nar/gkz401
- Ashburner M., Ball C.A., Blake J.A. et al. Gene ontology: Tool for the unification of biology // Nat. Genetics. 2000. V. 25. № 1. P. 25–29. https://doi.org/10.1038/75556
- Kanehisa M., Goto S. KEGG: Kyoto encyclopedia of genes and genomes // Nucl. Acids Res. 2000. V. 28. № 1. P. 27–30. https://doi.org/10.1093/nar/28.1.27
- Wang W., Sung N., Gilman-Sachs A. et al. T helper (Th) cell profiles in pregnancy and recurrent pregnancy losses: Th1/Th2/Th9/Th17/Th22/Tfh cells // Frontiers in Immunol. 2020. V. 11. https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.02025
- Yañez M.J., Leiva A. Human placental intracellular cholesterol transport: A focus on lysosomal and mitochondrial dysfunction and oxidative stress // Antioxidants. 2022. V. 11. № 3. https://doi.org/10.3390/antiox11030500
- Cuffe J.S.M., Holland O., Salomon C. et al. Placental derived biomarkers of pregnancy disorders // Placenta. 2017. V. 54. P. 104–110. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2017.01.119
- Kimura C., Watanabe K., Iwasaki A. et al. The severity of hypoxic changes and oxidative DNA damage in the placenta of early-onset preeclamptic women and fetal growth restriction // The J. Maternal-fetal and Neonatal Med. 2013. V. 26. № 5. P. 491–496. https://doi.org/10.3109/14767058.2012.733766
- Racicot K., Mor G. Risks associated with viral infections during pregnancy // The J. Clin. Investigation. 2017. V. 127. № 5. P. 1591–1599. https://doi.org/10.1172/JCI87490
- Mering C., Huynen M., Jaeggi D. et al. STRING: A database of predicted functional associations between proteins // Nucl. Acids Res. 2003. V. 31. № 1. P. 258–261. https://doi.org/10.1093/nar/gkg034
- Zhou G., Soufan O., Ewald J. et al. NetworkAnalyst 3.0: A visual analytics platform for comprehensive gene expression profiling and meta-analysis // Nucl. Acids Res. 2019. V. 47. № W1. P. W234–W241. https://doi.org/10.1093/nar/gkz240
- Fabregat A., Jupe S., Matthews L. et al. The reactome pathway knowledgebase // Nucl. Acids Res. 2018. V. 46. № D1. P. D649–D655. https://doi.org/10.1093/nar/gkx1132
- Tong M., Jun T., Nie Y. et al. The role of the Slit/Robo signaling pathway // J. Cancer. 2019. V. 10. № 12. P. 2694. https://doi.org/10.7150%2Fjca.31877
- Shilei B., Lizi Z., Lijun H. et al. Downregulation of CDC42 inhibits the proliferation and stemness of human trophoblast stem cell via EZRIN/YAP inactivation // Cell and Tissue Res. 2022. V. 389. № 3. P. 573–585. https://doi.org/10.1007/s00441-022-03653-6
- Wu F., Chen X., Liu Y. et al. Decreased MUC1 in endometrium is an independent receptivity marker in recurrent implantation failure during implantation window // Reproductive Biol. and Endocrinol. 2018. Vol. 16. № 1. P. 60. https://doi.org/10.1186/s12958-018-0379-1
- Rossy J., Williamson D.J., Gaus K. How does the kinase Lck phosphorylate the T cell receptor? Spatial organization as a regulatory mechanism // Frontiers in Immunol. 2012. V. 3. P. 167. https://doi.org/10.3389/fimmu.2012.00167
- Campbell T.M., Bryceson Y.T. IL2RB maintains immune harmony // J. Experim. Med. 2019. V. 216. № 6. P. 1231–1233. https://doi.org/10.1084/jem.20190546
- Трифонова Е.А., Гавриленко М.М., Бабовская А.А. и др. Ландшафт альтернативного сплайсинга в децидуальных клетках плаценты при физиологической беременности // Генетика. 2022. Т. 58. № 10. С. 1210–1220. https://doi.org/10.31857/S0016675822100101
- Колчанов Н.А., Игнатьева Е.В., Подколодная О.А. и др. Генные сети // Вавиловский журн. генетики и селекции. 2015. Т. 17. № 4/2. С. 833–850.
Дополнительные файлы