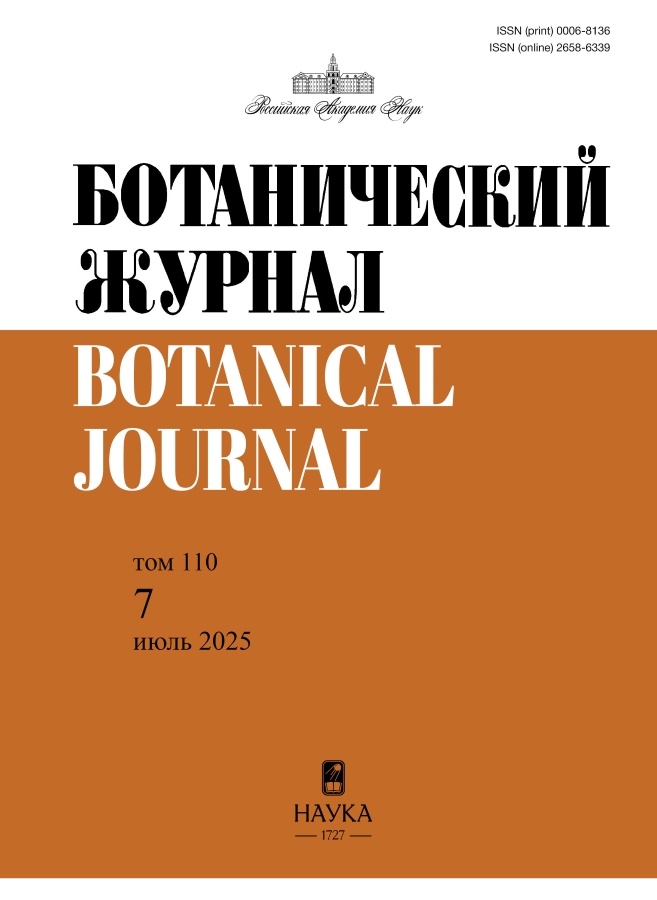Восстановление торфогенного горизонта мезотрофного болота после пожара (Хабаровский край)
- Авторы: Копотева Т.А.1, Купцова В.А.1
-
Учреждения:
- Институт водных экологических проблем ДВО РАН
- Выпуск: Том 109, № 6 (2024)
- Страницы: 584-599
- Раздел: СООБЩЕНИЯ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0006-8136/article/view/270592
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0006813624060045
- EDN: https://elibrary.ru/PZUEJF
- ID: 270592
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассматривается структурная организация торфогенного слоя (акротельма) мезотрофного болота на Среднеамурской низменности. Приводятся данные фитомассы и продукции мхов, а также корней сосудистых растений по динамике восстановления структуры деятельного слоя после пожара. Установлено, что через 12 лет после пожара фитомасса живых сфагновых мхов восстановилась примерно на 90% со сменой доминирующего вида. Если до пожара продукция доминировавшего Sphagnum fuscum ((84 ± 14) г/м2×год) была больше продукции S. divinum ((54 ± 14) г/м2×год) в 1.5 раза, то в конце наблюдений она стала меньше в 1.5 раза на негоревшем в 2008 г. участке и в 4 раза на гари. Дается оценка динамики фитомассы Polytrichum strictum в ходе развития пирогенной сукцессии фитоценоза. К концу наблюдений в ходе мониторинга общая фитомасса P. strictum в горизонте 0–30 см увеличилась на гари на (1537 ± 540) г/м2, на неповрежденном пожаром 2008 г. участке на (2142 ± 366) г/м2.
Ключевые слова
Полный текст
С каждым годом пожары становятся все более острой проблемой для большинства регионов России. На российском Дальнем Востоке (РДВ) они особенно часты из-за особенностей климата. Малоснежные зимы, летние засухи, которые в регионе случаются все чаще, а также широко распространенная привычка людей выжигать сухую траву приводят к тому, что пожаров становится все больше, а их масштабы – разрушительнее. Массово начали гореть естественные и осушенные болота в Бурятии, в Астраханской, Иркутской и Новосибирской областях, Краснодарском крае и Подмосковье (Recomendatsii…, 2020). Известно, что торфяные пожары подвергают здоровье людей большему риску, чем лесные, так как выбрасывают в воздух более токсичные продукты пиролиза: метан, сажу, аэрозоли полиароматических углеводородов и др. (Ob utverzhdenii…, 1997; Turetsky et al., 2015).
В ближайшем будущем прогнозируемые изменения климата могут привести к еще большему увеличению пожарной опасности на болотах и нарушенных торфяниках. Пожары уничтожают основной депонирующий компонент торфяного болота – сфагновый покров, и могут превратить экосистему в источник СО2 (Turetsky et al., 2002; Benscoter, 2006; Bubier et al., 2007; Vitt, 2007; Benscoter, Vitt, 2008; Wieder et al., 2009; Bu et al., 2011). Результаты исследований западно-сибирских ученых показывают, что часто повторяющийся пирогенный фактор делает структуру сфагнового покрова фрагментарной и она уже не в состоянии обеспечить нормальный водный баланс (Naumov et al., 2009).
В Приамурье частая горимость лесов обусловлена прежде всего климатическими факторами, в частности, режимом увлажнения. При сгорании органики 47% эмиссии С со всех лесоболотных комплексов поступает со слабо облесенных и безлесных болот (марей), в 3 раза больше, чем с заболоченных лесов (Burenina, 2005; 2006). Пожары и палы, уничтожающие растительный покров кустарничково-сфагновых заболоченных лиственничников, оказывают сильное деградирующее влияние на структуру растительности болот. При частой повторяемости они приводят к необратимой смене кустарничково-сфагновых сообществ на безмоховые ерники. В наиболее населенных районах РДВ в ерники трансформировано уже около 50–70% площадей, которые ранее занимали мари (Burenina, 2006; Kopoteva, Kuptsova, 2016а, b).
Основная торфообразующая роль на болотах, широко представленных на Среднеамурской низменности, принадлежит сфагновым мхам, формирующим верхний аэрируемый слой болота – акротельм (деятельный горизонт), мощностью 30–40 см, где идут процессы водообмена и торфогенеза (первичное разложение растительного вещества). Он образован живыми и мертвыми (очес) мхами, корнями сосудистых растений кустарничково-травяного и древесного ярусов. По литературным данным период восстановления функции торфонакопления после пожара для болот Западной Канады занял около 13 лет благодаря восстановлению растительного покрова (Bourgeau-Chavez et al., 2020).
Цель нашего исследования – выяснить, как происходит восстановление растительного покрова и торфогенного горизонта мезотрофного болотного участка после пожара в условиях Приамурья.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наблюдения за восстановлением болотного фитоценоза после пожара, прошедшего в июне 2008 г., проводились на двух пробных площадях размерами 25 × 25 м, заложенных на типичном для Среднеамурской низменности кустарничково-сфагновом болоте с угнетенной лиственницей – мари (47°48ʹ N 135°39ʹ E) (рис. 1). Болото расположено на плоском заболоченном водоразделе рек Хор и Кия в окрестностях с. Кия, относится к мезотрофному типу согласно классификации болот юга Дальнего Востока, разработанной Ю. С. Прозоровым (Prozorov, 1985). Несмотря на то что “…питание этих болот идет главным образом за счет атмосферных осадков, почвенные воды вследствие близкого залегания низинных видов торфа еще не настолько бедны питательными солями, чтобы болота могли перейти в стадию олиготрофных” (Prozorov, 1961) (рис. 2).
Рис. 1. Картосхема места исследования: А – участок болота, не горевший в 2008 г.; Б – выгоревший участок в 2008 г.; 1 – вторичный березняк-осинник; 2 – кедрово-широколиственный лес; 3 – осоково-вейниковые заболоченные луга с таволгой; 4 – мезотрофное кустарничково-сфагнового болота с лиственницей; 5 – границы участков мезотрофного болота, не горевшие во время пожара 2008 г.; 6 − границы территории болотного массива, подвергшейся серии палов и пожаров с начала 1990-х гг. (безмоховый ерник); 7 – границы болотного массива с полностью выгоревшим растительным покровом от пожара 2008 г.; 8 − дорога; 9 − мелиоративная система (Kopoteva, Kuptsova, 2016a).
Fig. 1. Schematic map of the study area: А – the bog site unburned in 2008; Б – the site burned in 2008; 1 – secondary birch-aspen forest; 2 – Siberian pine-broadleaved forest; 3 – sedge-reedgrass swampy meadowes with meadowsweet; 4 – mesotrophic dwarf-shrub-sphagnum bog with larch; 5 – boundaries of the areas of mesotrophic bog, unburned in 2008; 6 − boundaries of the areas of the bog massif subjected to a series of burns and fires from early 1990s (moss-free dwarf-birch thicket); 7 – boundaries of the bog massif with vegetation cover completely burned by the fire of 2008; 8 − road; 9 − meliorative system (Kopoteva, Kuptsova, 2016a).
Рис. 2. Ботанический состав торфа изучаемого мезотрофного болота.
Fig. 2. Botanical composition of the peat of the studied mesotrophic mire.
С 2009 по 2020 г. проводились работы по оценке запасов биомассы напочвенного покрова на участках массива с различной интенсивностью пирогенного поражения (Kopoteva, Kuptsova, 2016а). По классификации (Rekomendatsii…, 2020) это был “болотный пожар” – пожар на неосушенном болоте во время засухи, когда выгорают сухие растения кустарничково-травяного яруса, мхи и часть деятельного горизонта. Выгорело около 80% площади болотного массива. Прогорание было мозаичным, произошло в основном на глубину сфагнового очеса на 5–10 см в понижениях и 20–30 см на подушках местами до более разложенного торфа, оставив зольники светло-коричневого цвета. На гари (участок Б) полностью погибли возобновление, подрост и взрослые деревья лиственницы (см. рис. 1). Были полностью уничтожены надземные живая фитомасса и мортмасса кустарничково-травяного яруса, живая фитомасса и значительная часть мортмассы (очеса) мохового яруса. В то же время из-за быстрого прохождения огня при сильных порывах ветра на торфяных болотах всегда остаются отдельные редкие неповрежденные огнем участки вытянутой формы (участок А) (см. рис. 1), самые крупные из них в нашем случае были размерами до 9 тыс. м2 (Kopoteva, Kuptsova, 2016а, b). Далее на гари происходили уплотнение слоя несгоревшего очеса и верхнего торфяного слоя, их проседание и подъем уровня болотных вод, что отмечалось после катастрофических пожаров на торфяных болотах и другими исследователями (Tsaregradskaya, Kositsyn, 1999).
Растительный покров фитоценоза, находящегося до пожара в 2008 г. в субклимаксовом состоянии (Titlyanova et al., 1993), представлен в табл. 1.
Таблица 1. Растительный покров объекта исследований в 2008 г. (до пожара)
Table 1. Vegetation cover of the study object in 2008 (before fire)
Вид Species | Проективное покрытие (%) Coverage (%) | Участие в надземной живой фитомассе сообщества, % Participation in the above-ground living phytomass of the community, % | |
Древесный ярус / Tree layer | |||
Larix cajanderi Mayr. | Сомкнутость 0.1, бонитет Vb, H 2.3–5.8 м Crown density 0.1, Vb bonitet class, H 2.3–5.8 m | 4–5 | |
Кустарниковый ярус / Shrub layer | |||
Betula ovalifolia Rupr. | H 0.9–1.2 м | 10 | |
Кустарнички / Dwarf-shrubs | Подушки Cushions | Понижения Depressions | 25–29 |
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench | 15–20 | 30–40 | 9–10 |
Ledum palustre L. | 10–15 | 20–30 | 11–12 |
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. | 5 (пятнами до 20–30) (patches up to 20–30) | 5 | 3–4 |
Vaccinium uliginosum L. | 0–5 | 5 | 1–2 |
Andromeda polifolia L. | <1 | <1 | <1 |
Травянистые / Herbs | 3–4 | ||
Eriophorum vaginatum L. | 5–10 | 5–10 | – |
Carex globularis L. | 3–5 | 3–5 | – |
Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn. Mey. & Sc | <1 | <1 | – |
Моховый покров / Moss layer | 50–52 | ||
Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. | 40–50 | – | 28–29 |
S.divinum Brid. | 15–20 | 5–10 | 21–22* |
S. balticum (Russ.) Russ. ex C. Jens. | 0 | 10 | |
Polytrichum strictum | <1 | <1 | <1 |
Примечание: * фитомасса Sphagnum divinum объединена с фитомассой S. balticum (средние за период наблюдений).
Note: * Sphagnum divinum plus S. balticum phytomass (average for the observation time).
Торфяная залежь мощностью 1.9–2 м низинно-переходного типа имеет типичное для мезотрофных болот Среднеамурской низменности строение (Prozorov, 1961), сложена в основании травяно-древесно-кустарничковыми низинными, выше – травяно-кустарничковыми переходными торфами (рис. 2). Возраст торфяника составляет (9972 ± 166) кал. л. н. (Bazarova et al., 2014; Peskov et al., 2020). Сфагновые мхи встречаются в залежи фрагментарно, их доля увеличивается от основания залежи к верхним слоям с 5 до 20%, сильно колеблясь по слоям.
С 2009 по 2012 г. проводилась работа по оценке динамики только надземной фитомассы укосным методом. В конце августа каждого сезона с 2012 по 2020 г. на участках А и Б отбирались монолиты размерами 1 дм2 в 10-кратной повторности на глубину 30 см. Первая точка для отбора пробы выбиралась случайно, затем отбор производился на трансекте с интервалом 30 м. Монолиты разделялись на 3 слоя по 10 см. В камеральных условиях вся фитомасса монолитов разбиралась на фракции: живые сфагновые и политриховые мхи, сфагновый очес, мортмасса политриховых мхов, а также торф, корни травянистых растений и кустарничков и опад листьев кустарничков. Сфагновый очес делился на две фракции: слабой и высокой степени разложения. Очес слабой степени разложения выделялся по следующим признакам: светлая окраска, хорошая сохранность стеблей сфагнового мха с прикрепленными к ним веточками. Очес высокой степени разложения – от серой до почти черной окраски с крупными фрагментами веточек и стеблей. Торфом мы считали вещество черного цвета – мелкие остатки кустарничков и мхов, трудно различимые визуально.
Продукцию сфагновых мхов изучали в 2005–2013 гг. общепринятыми методами, в основном методом перевязок, а также методом колышков с учетом проективного покрытия вида (Kopoteva, Kuptsova, 2016а; Kuptsova, Kopoteva, 2014; Vitt, 2007). Средняя ежегодная продукция за этот период была определена 131 г/м2. Эти данные учитывались при расчете продукции сфагновых мхов в период мониторинга 2012–2020 гг. В процессе камеральной обработки вся фитомасса Sphagnum divinum горизонта 0–10 см была отнесена к живой, как показали результаты гистохимического метода (Malysheva, 1970), а продукция была принята за 1/3 от живой фитомассы. При расчете продукции S. fuscum на участке А болота в 2012–2020 гг. она была принята за 1/3 от живой фитомассы, а живая фитомасса – за 1/3 от общей фитомассы горизонта 0–10 см. В деятельном горизонте определялась также фитомасса Polytrichum strictum и в течение пяти последних лет отделялись окрашенная хлорофиллом, фотосинтезирующая верхняя часть побегов и боковые столоны (Kopoteva, 2019).
Все образцы высушивали в лабораторных условиях в сушильном шкафу при температуре 105оС до абсолютно сухого веса.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На участке Б в ходе мониторинга за 12 лет были зафиксированы пять палов в мае-июне, свидетельством чего было наличие обугленных ветвей кустарничков при отборе фитомассы в конце августа: в 2012 г. – 52.4 г/м2, в 2014 г. – 51.1 г/м2, в 2017 г. – 50.7 г/м2, в 2018 г. – 132.9 г/м2 и в 2019 г. – 123.2 г/м2. На участке А в 2012 и 2014 г. следы палов на кустарничках обнаружены не были. В 2017–2019 гг. только высокие политриховые кочки были опалены и мхи на них частично погибли, но кустарнички не горели, их обугленные остатки обнаружены не были.
Продукция сфагновых мхов зависит в первую очередь от величин фитомассы живой части сфагновых мхов и в значительной мере от характера увлажнения. Как нами уже неоднократно отмечалось, в условиях нашего контрастного климата годичная продукция сфагновых мхов сильно колеблется. Так, в экстремально сухой 2008 – год пожара, продукция Sphagnum fuscum составила 62.87 ± 5.4 г/м2×год, S. divinum – 120.1 ± 13.0 г/м2×год, а в экстремально влажном 2010 г. соответственно: 149.3 ± 34.5 г/м2×год и 94.4 ± 37.4 г/м2×год (табл. 2). Продукцию сфагнового покрова участка А до 2016 г. определял S. fuscum, с 2016 по 2020 г. продукция S. divinum была выше, чем у S. fuscum (см. табл. 2). В составе живой фитомассы до 2016 г. процент участия S. divinum колеблется в пределах 14–20%. Затем его участие растет: в 2019 г. уже до 67%, и соответственно снижается доля олиготрофного S. fuscum, что является свидетельством увеличения трофности экотопа негоревшего в 2008 г. участка. S. divinum в отличие от S. fuscum в Приамурье встречается даже на низинных болотах, где доля его участия в моховом ярусе достигает 60% (Prozorov, 1974: 72, 80).
Таблица 2. Динамика фитомассы и продукции сфагновых мхов в горизонте 0–10 см, г/м2, в 2009–2020 гг.
Table 2. Dynamics of phytomass and production of sphagnum mosses in the 0–10 cm horizon, g/m2, in 2009–2020
Фитомасса и продукция сфагновых мхов | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Не горевший в 2008 г. участок (А) / Bog site unburned in 2008 (A) | ||||||||||||
Общая фитомасса S. fuscum Phytomass of S. fuscum | Не опр. ND | Не опр. ND | Не опр. ND | 596 ± 43 | 483 ± 45 | 575 ± 61 | 686 ± 87 | 478 ± 97 | 363 ± 90 | 486 ± 76 | 490 ± 1171 123 | 615 ± 1501 96 |
Фитомасса S. divinum Phytomass of S. divinum | Не опр. ND | Не опр. ND | Не опр. ND | 149 ± 30 | 84 ± 14 | 92 ± 31 | 133 ± 46 | 268 ± 132 | 258 ± 70 | 189 ± 58 | 331 ± 731 110 | 316 ± 711 83 |
Итого / Total | 396 ± 522 | 538 ± 36 | 748 ± 57 | 745 ± 53 | 587 ± 48 | 667 ± 68 | 819 ± 99 | 759 ± 164 | 621 ± 114 | 676 ± 95 | 821 ± 138 | 931 ± 166 |
Продукция S. fuscum S. fuscum production | 84 ± 14 | 149 ± 58 | 194 ± 12 | 66 ± 7.3 | 51 ± 5 | 64 ± 7 | 76 ± 10 | 53 ± 11 | 40 ± 10 | 54 ± 8 | 54 ± 13 | 68 ± 17 |
Продукция S. divinum S. divinum production | 54 ± 14 | 94 ± 37 | 289 ± 31 | 50 ± 10 | 28 ± 5 | 31 ± 10 | 44 ± 15 | 89 ± 44 | 86 ± 23 | 63 ± 19 | 110 ± 24 | 105 ± 24 |
Итого / Total | 1083 | 2432 | 273 ± 252 | 116 ± 13 | 79 ± 7 | 95 ± 12 | 121 ± 18 | 143 ± 45 | 126 ± 25 | 117 ± 21 | 165 ± 285 | 174 ± 29 |
Участок болота, выгоревший от пожара 2008 г. (Б) / Bog site burned in 2008 (Б) | ||||||||||||
Общая фитомасса S. fuscum Phytomass of S. fuscum | 0 | Не опр. ND | Не опр. ND | 11 ± 8 | 34 ± 13 | 80 ± 40 | 132 ± 80 | 200 ± 85 | 458 ± 74 | 280 ± 85 | 162 ± 1091 27 | 275 ± 1011 76 |
Фитомасса S. divinum Phytomass of S. divinum | 0 | Не опр. ND | Не опр. ND | 45 ± 22 | 100 ± 45 | 124 ± 67 | 231 ± 73 | 271 ± 71 | 116 ± 24 | 218 ± 58 | 252 ± 571 92 | 405 ± 831 129 |
Итого / Total | 0 | Не опр. ND | Не опр. ND | 56 ± 23 | 134 ± 46 | 203 ± 78 | 363 ± 109 | 470 ± 111 | 574 ± 78 | 497 ± 103 | 414 ± 123 | 679 ± 131 |
Продукция S. fuscum S. fuscum production | 0 | 0 | Не опр. ND | 11 ± 8 | 34 ± 13 | 9 ± 4 | 15 ± 9 | 22 ± 9 | 51 ± 8 | 31 ± 9 | 18 ± 12 | 31 ± 11 |
Продукция S. divinum S. divinum production | 0 | 0 | Не опр. ND | 45 ± 22 | 100 ± 45 | 41 ± 22 | 77 ± 24 | 90 ± 24 | 39 ± 8 | 73 ± 20 | 84 ± 19 | 135 ± 28 |
Итого / Total | 0 | 0 | Не опр. ND | 56 ± 23 | 134 ± 46 | 50 ± 23 | 92 ± 26 | 112 ± 26 | 90 ± 11 | 104 ± 22 | 102 ± 23 | 165 ± 30 |
Атмосферные осадки (апрель-октябрь) Atmospheric precipitation (April-October) | 693 | 945 | 778 | 562 | 516 | 530 | 602 | 580 | 663 | 636 | 887 | 773 |
Примечание. 1 Под чертой фитомасса зеленой (окрашенной хлорофиллом) части сфагновых мхов.
2 Монолиты не разбирались по видам мхов. Указана общая фитомасса мхов в слое 0–10 см.
3 Итоговая продукция сфагновых мхов в 2009–2011 гг. считалась с учетом проективного покрытия (Копотева, Купцова, 2016)
Note. 1 Below the line: the phytomass of green (chlorophyll-colored) part of sphagnum mosses.
2 Monoliths were not sorted by moss species. The phytomass of mosses is shown in the 0–10 cm layer.
3 Total sphagnum moss production in 2009–2011 was calculated taking projective cover into account (Kopoteva, Kuptsova, 2016).
ND – not determined.
На участке Б восстанавливается в первую очередь S. divinum. (см. табл. 2). Пал 2014 г. вызвал существенное снижение продукции сфагновых мхов. Последующие палы (2017–2019) также оказали негативное влияние на их восстановление, несмотря на благоприятные условия увлажнения в эти годы. В конце наблюдений в условиях переувлажнения доминирует S. divinum. Кроме того, после серии палов активизируется рост Polytrichum strictum, поэтому сфагновые дернины восстанавливаются медленнее, но равномерно по площади. В 2018 г. от пала пострадали и сфагновые, и политриховые мхи: даже появился Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr., а темпы восстановления S. fuscum еще больше снизились. В 2019 г. темпы восстановления S. fuscum тоже снижены, несмотря на экстремальное переувлажнение, много восстановившихся мхов (S. fuscum) погибло и перешло в очес из-за пала. К концу мониторинга продукция сфагновых мхов на участке Б почти приблизилась к таковой на участке А, в основном за счет S. divinum. К концу 2019 г. фитомасса сфагнов в горизонте 0–10 см (414 г/м2 в табл. 2) восстановилась на 55% по сравнению с состоянием негоревшего участка в 2012 г., а к 2020 г. – на 91%. Только одна проба из 10 пришлась на непокрытую сфагнами поверхность, и в целом распределение сфагнового покрова стало более равномерным. Если в 2019 г. масса живой части мха у S. fuscum на участке А почти в 5 раз больше, чем на Б, то в 2020 г. эта разница стала значительно меньше: только в 1.3 раза (см. табл. 2). В 2020 г. угольки и остатки бриевых мхов в образцах наблюдались уже на глубине 25–30 см. В условиях повышенного увлажнения происходило быстрое восстановление сфагнового покрова, который по мнению канадских и наших западносибирских исследователей поддерживает определенный уровень влажности, препятствующий снижению устойчивости фитоценоза к пирогенному фактору (Shetler et al., 2008; Naumov et al., 2009). Анализ динамики структуры продукции фитоценоза показывает, что повторные палы существенно затормаживают восстановление сфагнового покрова.
Политриховых мхов на участке А изначально крайне мало (табл. 3), что подтверждается геоботаническими описаниями, сделанными до пожара (Kopoteva, Kuptsova, 2016а). Динамика фитомассы P. strictum имеет пульсирующий характер: то увеличивается, то уменьшается, причем на обоих участках, но ее колебания по годам не совпадают. Более подробно сукцессия фитоценоза с P. strictum до 2018 г. включительно описана ранее (Kopoteva, 2019). В конце мониторинга его фитомасса максимальна несмотря на значительное переувлажнение. Из 10 повторностей в отборе 2020 г. было 9 полностью сформировавшихся дернин P. strictum мощностью от 30 до 70 см. На самых высоких политриховых подушках (60–70 см) начался их распад с южной стороны из-за частичной гибели мхов.
Таблица 3. Динамика фитомассы Polytrichum strictum в акротельме, г/м2, в 2012–2020 гг.
Table 3. Dynamics of Polytrichum strictum phytomass in the acrotelm, g/m2, in 2012–2020
Фитомасса / Phytomass | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Фитомасса в горизонте 0–30 см, А Phytomass in the horizon 0–30 cm, A | 3 ± 2 | 387 ± 251 | 647 ± 308 | 1029 ± 250 | 1505 ± 346 | 1122 ± 315 | 1853 ± 436 | 1119 ± 272 | 2143 ± 366 |
Фитомасса в горизонте 0–30 см, Б Phytomass in the horizon 0–30 cm, Б | 356 ± 186 9 ± 8 | 126 ± 73 119 ± 49 | 450 ± 197 | 36 ± 17 | 616 ± 196 | 970 ± 244 | 636 ± 189 | 557 ± 195 | 1537 ± 544 |
Фитомасса в горизонте 0–10 см, А Phytomass in the horizon 0–10 cm, A | 2 ± 2 | 264 ± 186 | 316 ± 161 | 345 ± 127 | 631 ± 119 | 416 ± 131 | 631 ± 157 | 380 ± 102 | 818 ± 165 |
Фитомасса в горизонте 0–10 см, Б Phytomass in the horizon 0–10 cm, Б | 253 ± 130 9 ± 8 | 100 ± 49 119 ± 49 | 285 ± 102 | 10 ± 4 | 410 ± 120 | 364 ± 88 | 384 ± 125 | 278 ± 115 | 382 ± 130 |
Фитомасса фотосинтезирующих частей, А Phytomass of photosynthetic parts, A | Не опр. ND | Не опр. ND | Не опр. ND | Не опр. ND | 131 ± 28 | 97 ± 35 | 161 ± 42 | 65 ± 14 | 127 ± 28 |
Фотосинтезирующая фитомасса, Б Phytomass of photosynthetic parts, Б | Не опр. ND | Не опр. ND | Не опр. ND | Не опр. ND | 101 ± 44 | 115 ± 33 | 43 ± 13 | 57 ± 22 | 90 ± 27 |
Примечание. А – негоревший участок болота; Б – горевший участок болота. Под чертой фитомасса бриевых мхов Ceratodon purpureus и Cynodontium strumiferum.
Note. A – unburned area of the bog; Б – burned area of the bog. Below the line: phytomass of Ceratodon purpureus and Cynodontium strumiferum. ND – not determined.
Развитие P. strictum на обнаженном торфе выгоревшего участка (Б) началось раньше, чем на участке А с ненарушенным сфагновым покровом. Здесь на поверхности голого торфа активно развивались Marchantia polymorpha L. и бриевые мхи (Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., Cynodontium strumiferum, а также P. strictum (Kopoteva, 2019). По результатам геоботанических описаний на участке Б в 2012 г. голый торф занимал (52.3 ± 6.4)% поверхности (P. strictum – (25 ± 7.3)%), в 2014 г. (71.2 ± ± 6.4)% (P. strictum – (10.7 ± 1.8)%), в 2016 г. уже (23.0 ± ± 6.8)% (P. strictum – (16.9 ± 6.0)%). В 2013–2014 гг. возраст P. strictum в отдельных дернинах насчитывал 5–6 лет. К концу 2020 г. мы обнаружили 8 дернин P. strictum (из 10 повторностей), в половине которых мощность дернины не превышала 20 см. В табл. 3 показано, что фитомасса P. strictum снижается к концу сезонов относительно влажных 2015 и 2019 гг., а также в 2018 г. из-за сильно обгоревших политриховых подушек. Но в целом можно сказать, что пирогенный фактор является стимулирующим для развития политриховых мхов, о чем говорит развитие их боковых столонов в дернине, даже на глубине 10–20 см, после того как обгорают политриховые подушки (Kopoteva, 2019). К концу сезона 2020 г. фитомасса P. strictum участка А увеличилась до 2143 г/м2, на участке Б меньше – 1537 г/м2 (см. табл. 3). Данные рис. 3 и табл. 3 показывают, как меняются в ходе мониторинга структура и плотность торфогенного слоя на обоих участках.
Рис. 3. Динамика структуры акротельма негоревшего участка (А) и гари (Б), г/м2:
1 – живые корни кустарничков; 2 – мертвые корни кустарничков; 3 – опад листьев кустарничков; 4 – живые корни трав; 5 – мертвые корни трав; 6 – живая фитомасса Polytrichum strictum; 7 – мортмасса P. strictum; 8 – живая фитомасса Sphagnum fuscum; 9 – очес S. fuscum слабой степени разложения; 10 – живая фитомасса S. divinum; 11 – очес S. divinum слабой степени разложения; 12 – очес высокой степени разложения; 13 – торф.
Fig. 3. Dynamics of the acrotelm structure in unburned (A) and burned (Б) areas, g/m2:
1 – living roots of dwarf shrubs; 2 – dead roots of dwarf shrubs; 3 – falling leaves of dwarf shrubs; 4 – living roots of herbs; 5 – dead roots of herbs; 6 – living phytomass of Polytrichum strictum; 7 – mortmass of P. strictum; 8 – living phytomass of Sphagnum fuscum; 9 – S. fuscum tirr of a low degree of decomposition; 10 – living phytomass of S. divinum; 11 – S. divinum tirr of a low degree of decomposition; 12 – tirr of a high degree of decomposition; 13 – peat.
Основные изменения на участке А связаны с развитием Polytrichum strictum. К концу наблюдений (2020 г.) резко возрастает его фитомасса на фоне снижения массы корней сосудистых, увеличивается фитомасса S. divinum. Живая фитомасса P. strictum для 2012–2015 гг. (рис. 3) рассчитана по средней за 5 лет (с 2016 по 2020 г.) (см. объекты и методы).
На участке Б в течение всего периода наблюдений, кроме 2019 г., доля корней сосудистых больше, чем на А. Пирогенный фактор стимулирует продукцию сосудистых растений, особенно кустарничков, что подтверждают и другие исследователи (Malashchuk, Filippov, 2021). После палов происходит увеличение не только массы сосудистых растений, но и скорости разложения в результате увеличения трофности (табл. 4). Влияние пожаров на изменение трофности субстрата давно описано: возрастает количество азота и фосфора (Efremova, Efremov, 1994). В аэробной зоне, как доказано (Titlyanova, 2010), потери за счет минерализации в ненарушенном болотном сообществе в значительной мере компенсируются поступлением свежей фитомассы с отмирающими корнями сосудистых растений. В постпирогенном сообществе на участке Б эта компенсация в 1.5–2 раза больше. Кроме того, с 2013 г. начинается бурное развитие P. strictum: увеличивается его фитомасса, снижается фитомасса живых сфагновых мхов. В результате всего этого начинается уплотнение торфогенного горизонта, который в норме должен быть рыхлым (Kalyuzhny, 2019). Увеличение его плотности сопровождается уменьшением порового пространства, что ограничивает капиллярный подъем воды и ухудшает водообеспечение сфагновых мхов. Уплотнение верхней части торфяной залежи происходит и при снижении уровня болотных вод, которое происходит после пожаров (Tsaregradskya, Kositsyn, 1999), оно отмечалось в экспериментах (Norby et al., 2019). Действительно, в периоды сезонов 2013–2014 гг. количество атмосферных осадков было значительно меньше нормы (516–560 мм). В 2020 г. осадки были больше нормы (772.6 мм) с предшествовавшим в 2019 г. сильным переувлажнением (885.8 мм), и плотность деятельного слоя на участке Б снижается благодаря восстановлению сфагновых мхов. На участке А к концу наблюдений его плотность увеличена вдвое (см. табл. 4, рис. 3).
Таблица 4. Динамика фракций фитомассы в акротельме (0–30 см); г/м2 абс. сух. , в 2012–2015, 2019 и 2020 гг.
Table 4. Dynamics of phytomass fractions in acrotelm (0–30 cm); g/m2 abs. dry, in 2012–2015, 2019 и 2020
Фракции фитомассы Phytomass fractions | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2020 | ||||||
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | |
Корни сосудистых растений Roots of vascular plants | 728 ± 109 | 1617 ± 178 | 1205 ± 1787 | 3047 ± 441 | 666 ± 93 | 4049 ± 1042 | 1070 ± 182 | 2587 ± 244 | 806 ± 98 | 1989 ± 388 | 664 ± 138 | 1361 ± 256 |
Опад листьев кустарничков Fallen leaves of dwarf-shrubs | 118 ± 22 | 144 ± 39 | 187 ± 23 | 138 ± 15 | 189 ± 24 | 163 ± 25 | 164 ± 15 | 204 ± 29 | 267 ± 21 | 214 ± 42 | 120 ± 43 | 197 ± 39 |
Polytrichum strictum | 3 ± 2 | 356 ± 186 | 387 ± 251 | 126 ± 73 | 647 ± 308 | 450 ± 197 | 1029 ± 250 | 36 ± 17 | 1119 ± 272 | 557 ± 195 | 2143 ± 366 | 1537 ± 544 |
Живые сфагновые мхи Alive Sphagnum mosses | 347 ± 34 | 56 ± 23 | 245 ± 48 | 134 ± 46 | 284 ± 68 | 150 ± 78 | 362 ± 99 | 369 ± 108 | 494 ± 138 | 306 ± 123 | 521 ± 166 | 496 ± 131 |
Очес слабой степени разложения Tirr of low degree of decomposition | 2007 ± 161 | 236 ± 129 | 2494 ± 389 | 1082 ± 408 | 2080 ± 232 | 810 ± 310 | 2671 ± 250 | 854 ± 272 | 2463 ± 376 | 605 ± 167 | 2026 ± 242 | 1606 ± 282 |
Очес высокой степени разложения и торф Tirr of high degree of decomposition and peat | 351 ± 108 | 3360 ± 562 | 283 ± 179 | 5115 ± 1005 | 335 ± 225 | 5759 ± 1672 | 716 ± 308 | 4134 ± 846 | 624 ± 212 | 3711 ± 854 | 1260 ± 376 | 1386 ± 490 |
Итого / Total | 3555 ± 226 | 5770 ± 635 | 4801 ± 527 | 9640 ± 1174 | 4201 ± 462 | 11382 ± 2006 | 6012 ± 513 | 8184 ± 928 | 5773 ± 538 | 7382 ± 981 | 6813 ± 618 | 6583 ± 836 |
Плотность, г/см3 Density, g/cm3 | 0.012 | 0.019 | 0.016 | 0.032 | 0.014 | 0.038 | 0.020 | 0.027 | 0.019 | 0.025 | 0.023 | 0.022 |
Примечание. А – негоревший участок; Б – гарь.
Note. A – unburned area of the bog; Б – burned area of the bog.
Восстановление структуры торфогенного слоя на участке Б происходит медленно в относительно сухой период (2012–2018), зато переувлажнение 2019 г. резко меняет картину: в следующем 2020 г. соотношение фракций участка Б (см. рис. 3) уже не так сильно отличается от А, хотя структура последнего подверглась достаточно сильным изменениям.
Динамика массы очеса и торфа, имеющих самую большую долю в деятельном горизонте, представлена на рис. 4, 5. На участке Б (гари) материал отбирался первоначально с поверхности торфа и несгоревшего очеса. На рис. 4 четко прослеживается влияние пала 2014 г.: сгорела часть живых мхов и очеса, ускорился переход очеса слабой степени разложения в очес более высокой степени разложения и далее в торф, да и сам отбор углубился в торф. В динамике его структуры участка А тоже прослеживается влияние палов. Снижение массы слабо разложившегося очеса и, соответственно, увеличение массы высоко разложившегося говорит об усилении минерализации вероятно из-за поступления зольных элементов, а также из-за сниженной продукции сфагновых мхов (см. табл. 2).
Рис. 4. Динамика восстановления структуры акротельма на гари:
1 – торф; 2 – очес высокой степени разложения; 3 – очес Sphagnum divinum + S. fuscum слабой степени разложения.
Fig. 4. Dynamics of acrotelm structure recovery in a burned area:
1 – peat; 2 – tirr of a high degree of decomposition; 3 – tirr of Sphagnum divinum + S. fuscum of a low degree of decomposition.
Рис. 5. Динамика соотношений фракций очеса и торфа на негоревшем участке:
1 – торф; 2 – очес высокой степени разложения; 3 – очес Sphagnum divinum + S. fuscum слабой степени разложения.
Fig. 5. Dynamics of tirr and peat fraction ratios in the unburned area:
1 – peat; 2 – tirr of a high degree of decomposition; 3 – tirr of Sphagnum divinum + S. fuscum of a low degree of decomposition.
На увеличение скорости разложения из-за пирогенного фактора указывают и данные динамики опада листьев кустарничков (табл. 5). Этот материал считается быстро и средне разлагающимся (Vishnyakova et al., 2012). За год разлагается треть опада листьев (Golovatskaya, Nikonova, 2013). В верхний горизонт участка Б поступает значительно больше листьев, поскольку пирогенный фактор стимулирует продукцию кустарничков. В конце сезона, в начале которого прошел пал, в горизонте 0–10 см эти превышения составляют 1.7–2.2 раза, в промежутке между палами – 1.2 раза. Сравнивая оба участка сверху вниз по горизонтам, мы видим, что на участке А материал распределяется относительно равномерно: снижение массы листьев на нем происходит постепенно. На участке Б масса листьев в нижних горизонтах почти все годы резко снижается, что говорит о повышенной скорости минерализации. Масса листьев на гари по сравнению с участком А в нижних горизонтах меньше в 1.5–3 раза. После пала 2014 г. скорость разложения листьев увеличилась в 3.3 раза, то же происходит после палов 2017–2019 гг.
Таблица 5. Динамика опада листьев кустарничков в акротельме, г/м2
Table 5. Dynamics of leaf fall of shrubs in the acrotelm, g/m2
Горизонт, см Horizon, cm | Годы наблюдений Years of observations | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
А | |||||||||
0–10 | 65.4 ± 11.1 | 96.8 ± 13.8 | 71.4 ± 8.1 | 64 ± 8.4 | 69.5 ± 6.9 | 58.2 ± 3.9 | 45.3 ± 7.6 | 94.6 ± 12.8 | 58.2 ± 10.9 |
10–20 | 44.3 ± 11.9 | 48.3 ± 8.8 | 62.9 ± 11.4 | 60.2 ± 5.2 | 69.8 ± 7.3 | 69.9 ± 4.3 | 44.8 ± 8.2 | 68.8 ± 12.4 | 80.4 ± 31.3 |
20–30 | 8.6 ± 2.6 | 42.4 ± 10.4 | 54.2 ± 11.2 | 39.6 ± 11.7 | 62.9 ± 10.4 | 83.2 ± 22.5 | 43.3 ± 13.4 | 103.5 ± 7.9 | 61.3 ± 19.9 |
0–30 | 118.3 ± 22.1 | 187.4 ± 22.9 | 188.6 ± 23.9 | 163.9 ± 15.3 | 202.1 ± 13.4 | 211.3 ± 25.8 | 133.5 ± 22.7 | 266.9 ± 20.8 | 199.9 ± 43.2 |
Б | |||||||||
0–10 | 111.0 ± 33.7 | 109.9 ± 13.0 | 118.4 ± 26.2 | 80.2 ± 12.7 | 83.4 ± 20.3 | 103.6 ± 10.7 | 101.0 ± 28.9 | 112.0 ± 37.7 | 70.8 ± 13.5 |
10–20 | 22.1 ± 7.6 | 22.4 ± 4.8 | 27.8 ± 8.2 | 88.3 ± 23.9 | 77.2 ± 19.9 | 80.1 ± 11.6 | 43.0 ± 7.9 | 62.5 ± 17.3 | 63.4 ± 18.2 |
20–30 | 11.1 ± 3.9 | 5.9 ± 2.3 | 16.3 ± 6.4 | 35.9 ± 10.6 | 60.5 ± 30.0 | 56.7 ± 15.2 | 29.3 ± 9.2 | 39.1 ± 18.8 | 62.7 ± 21.3 |
0–30 | 144.3 ± 39.5 | 138.2 ± 15.0 | 162.8 ± 25.0 | 204.5 ± 29.1 | 221.1 ± 45.8 | 240.4 ± 25.8 | 173.3 ± 27.8 | 213.7 ± 42.2 | 196.9 ± 39.3 |
Примечание. А – негоревший участок болота; Б – горевший участок болота.
Note. A – unburned area of the bog; Б – burned area of the bog.
Роль Polytrichum strictum в торфонакоплении практически не изучена. По нашим наблюдениям цикл его развития в условиях Приамурья до максимума составляет 7–8 лет, затем идет на спад, если не пролонгируется повторными палами. На участке А его массовое спороношение началось на 5-й год, а на 7-й начался распад высоких политриховых подушек из-за гибели мхов с южной стороны. Как известно из литературы (Popov, 2000; Zhuravleva, Ipatov, 2003), в процессе восстановления кустарничково-сфагновых болот после пожара политриховые мхи замещаются сфагновыми. Результаты 12-го года наших наблюдений показывают, что до этого замещения еще далеко.
Улучшение питания минеральными элементами, а также повышение температуры увеличивают продуктивность P. strictum за счет бокового ветвления, в то же время угнетая сфагновые мхи (Bubier et al., 2007; Bu et al., 2011). Его продукция увеличивается также при снижении уровня болотных вод, в отличие от сфагновых мхов (Potvin et al., 2015), что подтверждают и наши данные. Однако мы согласны с Juutinen et al. (2016), что “это изменение в составе мохового покрова заслуживает дальнейшего внимания”, поскольку переход к более легко разлагаемому материалу может снизить секвестирование углерода в болотном сообществе.
Как ранний сукцессионный вид он процветает в условиях открытого полога (Benscoter, 2006; Groeneveld et al., 2007). Эти авторы считают, что P. strictum облегчает заселение сфагновых мхов благодаря созданию более благоприятных микроклиматических условий и его стратегии жизненного цикла. По нашим наблюдениям его заселение происходит также непосредственно в ненарушенную дернину S. fuscum и развитие происходит гораздо быстрее, эффективнее, чем на голом торфе, где сукцессия на участке Б была, по-видимому, прервана переувлажнением 2010–2011 гг.
К концу сезона 2020 г. фитомасса P. strictum увеличилась на 21 т/га на участке А, на Б – на 15 т/га. Возможно, столь значительное увеличение его фитомассы за относительно короткий промежуток времени связано с наличием большого банка спор P. strictum, который сохраняется в течение трех последних десятилетий из-за очень частого выгорания участка прилегающей к дороге части мелиоративной системы, расположенной недалеко от нашего объекта – болотного массива (см. рис. 1). Моховый ярус этих участков на 90–95% состоит из политриховых. Причинами могут быть также особенности его развития в разных эдафических условиях, а также, возможно, конкурентные взаимоотношения с вересковыми кустарничками, до конца еще не изученные. Данные, что вересковые кустарнички подавляют продукцию P. strictum, требуют подтверждения (Norby et al., 2019).
С одной стороны, P. strictum поставляет большое количество растительного вещества, что в какой-то мере смягчает нарушенную пожаром биосферную функцию фитоценоза и говорит о способности экосистемы к самовосстановлению. При проведении ботанического анализа в слоях торфа с признаками пирогенного поражения (угли) политриховые практически не обнаруживаются (единично), хотя сфагновые мхи присутствуют постоянно. В литературе крайне мало информации о скорости его разложения относительно других растений. Мы нашли только одну экспериментальную работу (Likhanova, 2014) для лесного фитоценоза, подтверждающую факт больших потерь массы P. strictum от разложения по сравнению со сфагновыми мхами. С другой стороны, достаточно длительное развитие политриховых в растительном покрове, а этот временной интервал увеличивают повторные палы, может затормаживать восстановление сфагновых мхов, хотя достоверных доказательств этому представленные материалы пока не дают.
Данных о величине фитомассы и продукции P. strictum в отечественной литературе крайне мало. Величины его продукции указаны только для мезотрофных болот Канады (97–148 г/м2) (Longton, 1979). В многочисленных англоязычных публикациях продукция P. strictum оценивается по линейному росту “сопутствующего” сфагнума, “потому что он имеет такую же скорость роста” (Vitt, 2007). По нашему мнению, это не так: его фитомасса увеличивалась бы тогда только в верхнем 10-сантиметровом слое, а не во всем, что мы наблюдали (см. табл. 3).
В нашем случае продукция P. strictum вероятно значительно больше, чем окрашенная хлорофиллом фотосинтезирующая часть растений с боковыми столонами, ранее принимаемые нами за годичный прирост (Kopoteva, 2019), тем более с учетом накопленной за 9 лет фитомассы (минимум 17 т/га, см. табл. 3). В отдельные годы (2013, 2015 на участке Б и в 2017, 2019 гг. на обоих) прироста вообще не было, была убыль, иногда значительная, из-за обгорания высоких политриховых кочек во время палов и других причин. По нашему мнению, это объясняется еще и контагиозным, мозаичным распределением этого вида в растительном покрове. Большая стандартная ошибка (см. табл. 3) указывает, что 10 повторностей для достоверности статистических данных недостаточно и нужны отдельные специальные исследования для определения продукции P. strictum и его конкурентных взаимоотношений с вересковыми кустарничками.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Процесс послепожарного восстановления деятельного слоя, где происходит начальная стадия торфогенеза, рассматривается впервые. Только полное восстановление сфагнового покрова является необходимым условием для восстановления депонирующей углерод функции кустарничково-сфагновых болот Приамурья. В ходе его восстановления существуют определенные закономерности, на которые оказывают влияние абиотические факторы, в первую очередь уровень и режим увлажнения.
Наблюдения за восстановлением мохового яруса на гари показали, что сфагновый покров за 12 лет восстановился на 91% благодаря последним двум годам с повышенным количеством атмосферных осадков. Однако состав видов существенно изменился: в восстановившемся после пожара моховом ярусе стал доминировать Sphagnum divinum, в то время как до пожара господствовал S. fuscum.
Экстремальные пирогенные поражения подобные пожару 2008 г. делают болотные сообщества уязвимыми к повторным палам, затормаживающими восстановление допожарного мохового яруса. На неповрежденных и слабо поврежденных пожаром участках развиваются сукцессионные процессы, которые приводят к снижению продуктивности сфагновых мхов. Необходимы дальнейшие исследования этих сукцессий и их влияния на процессы в деятельном горизонте торфяных болот.
Многократное влияние пирогенного фактора слабой интенсивности в виде палов от сельскохозяйственного выжигания травы приводит к снижению продуктивности мохового яруса. Прогнозируемое возможное изменение климата с уменьшением количества осадков может затормозить этот процесс и даже ускорить деградацию торфяных болот, что уже давно наблюдается вблизи населенных пунктов на территории Приамурья, где широко практикуются весенне-раннелетние выжигания сухой травы.
БЛАГОДАРНОСТИ
Данные исследования выполнены в рамках государственного задания № 121021500060-4 Института водных и экологических проблем ДВО РАН.
Об авторах
Т. А. Копотева
Институт водных экологических проблем ДВО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: kopoteva@ivep.as.khb.ru
Россия, ул. Ким Ю Чена, 65, Хабаровск, 680000
В. А. Купцова
Институт водных экологических проблем ДВО РАН
Email: victoria@ivep.as.khb.ru
Россия, ул. Ким Ю Чена, 65, Хабаровск, 680000
Список литературы
- [Bazarova et al.] Базарова В.Б., Гребенникова Т.А., Орлова Л.А., 2014. Динамика природной среды бассейна Амура в малый ледниковый период. – География и природные ресурсы. 3: 124–132.
- Benscoter B.W. 2006. Post-fire bryophyte establishment in a continental bog. – J. Veg. Sci. 17: 647–652.
- Benscoter B.W., Vitt D.H. 2008. Spatial patterns and temporal trajectories of the bog ground layer along a post-fire chronosequence. – Ecosys. 11(7): 1054–1064.
- Bourgeau-Chavez L.L., Grelik S.L., Billmire M., Jenkins L.K., Kasischke E.S., Turetsky M. 2020. Assessing boreal peat fire severity and vulnerability of peatlands to early season wildland fire. – Front. for Glob. Change. 3. Article 20. 13 p. https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.00020
- Bu Zh.J., Rydin H., Chen X. 2011. Direct and interaction-mediated effects of environmental changes on peatland bryophytes. – Oecologia. 166(2): 555–563. https://www.jstor.org/stable/41499857
- Bubier J.L., Moore T.R., Bledzki L.A. 2007. Effects of nutrient addition on vegetation and carbon cycling in an ombrotrophic bog. – Glob. Change Biol. 13(6): 1168–1186. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2007.01346.x
- [Burenina] Буренина Т.А. 2005. Восстановление лесов после пожаров в Амурской области. – Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2: 64–71.
- [Burenina] Буренина Т.А. 2006. Изменение запасов надземной фитомассы и эмиссии углерода при пожарах на лесоболотных комплексах о. Сахалин. – Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2: 75–85.
- [Efremova, Efremov] Ефремова Т.Т., Ефремов С.П. 1994. Торфяные пожары как экологический фактор развития. – Экология. 5: 27–34.
- [Golovatskaya, Nikonova] Головацкая Е.А., Никонова Л.Г. 2013. Разложение растительных остатков в торфяных почвах олиготрофных болот. – Вестник ТГПУ. 3(23): 137–151.
- Groeneveld E.V.G., Masse A., Rochefort L. 2007. Polytrichum strictum as a Nurse-Plant in Peatland Restoration. – Restor. Ecol. 15(4): 709–719. https://doi.org/10.1111/j.1526-100X.2007.00283.x
- Juutinen S., Moore T.R., Laine A.M., Bubier J.L., Tuittila E.-St., Young A.D., Chong M. 2016. Responses of mosses Sphagnum capillifolium and Polytrichum strictum to nitrogen deposition in a bog: height growth, ground cover, and CO2 exchange. – J. Bot. 94(2): 127–138. https://doi.org/10.1139/cjb-2015-0183
- [Kalyuzhnyj] Калюжный И.Л. 2019. Гидрофизические свойства деятельного слоя болот Кольского полуострова. – Вестник Кольского научного центра РАН. 1(11): 14–29.
- [Kopoteva] Копотева Т.А. 2019. Пирогенные сукцессии в моховом ярусе на мезотрофном болоте в Приамурье. – Бот. журн. 104(7): 1045–1058.
- [Kopoteva, Kuptsova] Копотева Т.А., Купцова В.А. 2016a. Влияние пожаров на динамику фитомассы и первичной продукции мезотрофного кустарничково-сфагнового болота в Приамурье. – Журнал общей биологии. 77(5): 397–405.
- [Kopoteva, Kuptsova] Копотева Т.А., Купцова В.А. 2016б. Влияние пожаров на функционирование фитоценозов торфяных болот. – Экология. 1: 1–7.
- [Kuptsova, Kopoteva] Купцова В.А., Копотева Т.А. 2014. Структура фитомассы и продукция торфяных болот Среднеамурской низменности в разных условиях увлажнения. – Торфяники Западной Сибири и цикл углерода: прошлое и настоящее: Материалы IV Международного полевого симпозиума (Новосибирск, 4–17 августа 2014). Томск. С. 194–196.
- [Likhanova] Лиханова Н.В. 2014. Роль растительного опада в формировании лесной подстилки на вырубках ельников средней тайги. – Изв. вузов. Лесн. журн. 3: 52–66.
- Longton R.E. 1979. Studies on growth, reproduction and population ecology in relation to microclimate in the bipolar moss Polytrichum alpestre. – Bryologist. 82: 325–367.
- [Malaschuk] Малащук А.А., Филиппов Д.А. 2021. Постпирогенная динамика растительного покрова верхового болота Барское (Вологодская область). – Трансформация экосистем. 4(1): 104–121.
- [Malysheva] Малышева Т.В. 1970. К методике разграничения живых и отмерших частей у мхов при учете их фитомассы. – Бот. журн. 55(5): 704–709.
- [Naumov et al.] Наумов А.В., Косых Н.П., Паршина Е.К., Артымук С.Ю. 2009. Верховые болота лесостепной зоны, их состояние и мониторинг. – Сибирский экологический журнал. 2: 251–259.
- Norby R.J., Childs J., Hanson P.J., Warren J.M. 2019. Rapid loss of an ecosystem engineer: Sphagnum decline in an experimentally warmed bog. – Ecol. Evol. 9(22): 12571–12585. https://doi.org/10.1002/ece3.5722
- [Ob utverzhdenii…] Об утверждении методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (часть 2). Приказ Гос. комитет РФ по охране окружающей среды. 05.03.97. № 90.
- [Peskov et al.] Песков А.Ю., Крутикова В.О., Захарченко У.Н., Чаков В.В., Климин М.А., Каретников А.С., Диденко А.Н. 2020. Геохимия и магнетизм торфяников междуречья рек Хор и Кия, Сихотэ-Алинь (предварительные данные). – Тихоокеанская геология. 39(2): 79–89.
- [Popov] Попов С.Ю. 2000. Пирогенные сукцессии сфагновых мхов в Средней России. – Бот. журн. 85(2): 89–96.
- Potvin L.R., Kane E.S., Chimner R.A., Kolka R.K., Lilleskov E.A. 2015. Effects of water table position and plant functional group on plant community, aboveground production, and peat properties in a peatland mesocosm experiment (PEATcosm). – Plant Soil. 387: 277–294. https://doi.org/10.1007/s11104-014-2301-8
- [Prozorov] Прозоров Ю.С. 1961. Болота маревого ландшафта Средне-Амурской низменности. М. 121 с.
- [Prozorov] Прозоров Ю. С. 1974. Болота нижнеамурских низменностей. – Новосибирск. 211 с.
- [Prozorov] Прозоров Ю.С. 1985. Закономерности развития, классификация и использование болотных биогеоценозов. М. 207 с.
- [Recommendatsii…] Рекомендации по тушению торфяных пожаров на осушенных болотах. 2020. С.-Петербург. ОМННО. “Совет Greenpeace”. С. 187.
- Shetler G., Turetsky M.R., Kane E. 2008. Sphagnum mosses limit total carbon consumption during fire in Alaskan black spruce forests. – Can. J. For. Res. 38(8): 2328–2336. https://doi.org/10.1139/X08-057
- [Titlyanova] Титлянова А.А. 2010. Роль подземных органов в круговороте С в болотных экосистемах. – Болота и биосфера. Мат-лы VII Всерос. конф. с междунар. участием науч. школы (13–15 сентября 2010 г., Томск). Томск. С. 109–112.
- [Titlyanova et al.] Титлянова А.А., Афанасьев А.Н., Наумова Н.Б. 1993. Сукцессии и биологический круговорот. Новосибирск. 157 с.
- [Tsaregradskaya, Kositsyn] Цареградская С.Ю., Косицын В.Н. 1999. Оценка состояния растительного покрова после сильного торфяного пожара. – Болота и заболоченные леса в свете задач устойчивого природопользования: Материалы межд. конф. М. С. 156–158.
- Turetsky M.R., Benscoter B.W., Page S., Rein G., van der Werf G.R., Watts A. 2015. Global vulnerability of peatlands to fire and carbon loss. – Nat. Geosci. 8(1): 11–14. https://doi.org/10.1038/ngeo2325
- Turetsky M., Wieder K., Halsey L., Vitt D.H. 2002. Current disturbance and the diminishing peatland carbon sink. – Geophys. Res. Lett. 29(11): 21-1–21-4. https://doi.org/10.1029/2001GL014000
- [Vishnyakova et al.] Вишнякова Е.К., Миронычева-Токарева Н.П., Косых Н.П. 2012. Динамика разложения растений на болотах Васюганья. – Вестник ТГПУ. 7(122): 87–93.
- Vitt D.H. 2007. Estimating moss and lichen ground layer net primary production in tundra, peatlands and forests. – Principles and Standards for Measuring Primary Production. New York. P. 82–105.
- Wieder R.K., Scott K.D., Kamminga K., Vile M.A., Vitt D.H., Bone T., Xu B.I.N., Benscoter B.W., Bhatti J.S. 2009. Postfire carbon balance in boreal bogs of Alberta, Canada. – Glob. Change Biol. 15: 63–81. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2008.01756.x
- [Zhuravleva, Ipatov] Журавлева Е.Н., Ипатов B.C. 2003. Взаимоотношения видов рода Sphagnum (Sphagnaceae) и Polytrichum commune (Polytrichaceae) в заболоченных сосновых лесах. – Бот. журн. 88(8): 20–27.
Дополнительные файлы